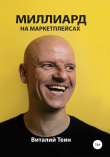Текст книги "Парабола моей жизни"
Автор книги: Титта Руффо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Глава 7. ВРЕМЯ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
Меня слушает баритон Лелио Казини. Заболеваю бронхитом. Луиджи Меннини, по прозванию Борода. Черные дни. Эдгарда. Между голодом и любовью. Лечение бронхита. Голод гонит волка из лесу. Записываюсь на пластинки. Зарабатываю двадцать лир и еще кое-что
Приехав в Милан вечером, я остановился в маленькой гостинице вблизи вокзала и на другой день направился к Лелио Казини. У меня было к нему рекомендательное письмо, которым я запасся еще в Риме. Казини, так же как и Бенедетти, был уроженцем Пизы и говорил на чистейшем тосканском. Высокий красивый мужчина с седеющей шевелюрой, с усами и бородой в стиле Карла V – этим он напоминал Персикини – с великолепными зубами, чуть пожелтевшими от никотина – он был заядлым курильщиком,– с чарующей улыбкой, Казини сразу же производил впечатление человека обаятельного. Едва успел он прочесть письмо, как тотчас представил меня своей супруге, отличной пианистке, и попросил ее проаккомпанировать мне: ему хотелось, не откладывая, услышать мой голос. Я спел два романса. Казини пришел в восторг, и хотя ему из письма было известно, что я никак материально не обеспечен, он весьма великодушно предложил заниматься со мной. Незачем говорить о том, с каким волнением я принял его предложение! Мы тотчас составили расписание занятий.
На фортепиано стояло много фотографий артистов и среди них внимание мое привлекла фотография Анджело Мазини, великого тенора, с надписью: «Выдающемуся певцу Лелио Казини с восхищением». Короткая надпись соответствовала действительности. Казини был на самом деле незаурядным певцом, певцом, можно сказать, классическим. Голос у него был ровный, нежный, переливавшийся с такой мягкостью, что звучал подчас как виолончель. Особенно в среднем регистре. При подаче же высоких нот я заметил, что он опирался на правую пятку и применял некоторое усилие.
Синьора Казини (типичная флорентинка) была гораздо моложе мужа. Высокая, стройная, с благородными манерами, с густыми светлыми волосами – то, что называется тициановская блондинка – с чуть-чуть великоватым ртом и белейшими зубами, она также говорила на чистом тосканском. Одевалась она элегантно, но без претензий, держалась просто, но с достоинством. После первых же уроков супруги пришли к заключению – синьора Казини усмотрела это сразу, как только я спел свои первые романсы,– что мой голос очень похож на голос Бенедетти, но превосходит его по качеству. Это заключение разом оживило мои уснувшие надежды, но сравнение показалось мне чересчур лестным. Я не мог допустить, чтобы голос Бенедетти считался хуже моего. И сказал просто и откровенно, что если пение мое действительно представляет какой-то интерес, то я обязан этим судьбе, позволившей мне близко наблюдать работу Бенедетти во время его длительного пребывания у нас в доме, в бытность его в Риме.
Маэстро Казини и его жена как-то сразу полюбили меня. Но через месяц я имел несчастье заболеть, и заболел я по следующей причине. С первых дней моего приезда в Милан я нанял комнату на улице Ансперто, рядом с театром Даль Верме. Я назвал это помещение комнатой, тогда как на самом деле это был темный чулан, куда никогда не заглядывало солнце. Впрочем, за те 15 лир, которыми я располагал для оплаты помещения, нельзя было в Милане претендовать на лучшее. Мне скоро стало ясно, что условия, в которых я живу, чрезвычайно вредны для моего здоровья: я заболел тяжелым бронхитом. И случилось это как раз тогда, когда Казини, подписав контракт, уехал на время из Милана. Я пережил очень печальные дни: мои ничтожные сбережения почти пришли к концу.
К счастью, еще до своего отъезда Казини представил меня Луиджи Меннини, хозяину ресторана на улице Санта Маргерита, по соседству с Ла Скала. Ресторан этот посещался главным образом деятелями театра: певцами, антрепренерами, дирижерами оркестра, балеринами, актерами-мимистами. Вместо того, чтобы звать хозяина по имени – синьор Луиджи или синьор Меннини, постоянные клиенты называли его попросту Борода, и дали ему это прозвище потому, что у него действительно была длинная белая борода. Семидесятилетний, совершенно лысый, но сохранивший свежий цвет лица, смуглый и розоватый, Меннини казался библейским старцем с картин Тициана или Веронезе. Характер у него был удивительный: он постоянно улыбался и пребывал всегда в отличном расположении духа. Не только он сам и его жена, старушка Терезина, но и их многочисленные дети, работавшие вместе с отцом в ресторане, вскоре полюбили меня и стали звать «шиур Тита». Добрая Тереза присаживалась иногда рядом со мной и, видя что я всегда печален и мрачен, всячески старалась меня развеселить и подбодрить. Она предсказывала, что деятельность моя как певца вот-вот начнется, и я выступлю обязательно самым удачным образом. Борода был известен как благодетель артистов, находящихся в бедственном положении. Среди должников, записанных в его приходо-расходных книгах, можно было бы отыскать фамилии артистов, достигших впоследствии мировой славы и богатства.
Когда в Милан возвратился Казини, у меня не было иного желания, как только продолжать занятия с ним, но, увы! – тягостный бронхит, прицепившийся ко мне в чулане на улице Ансперто, расстроил все мои планы. Я был очень озабочен. Время шло, а у меня ничего не наклевывалось. Сидя подчас вечером один в нетопленной комнате, я принимался плакать. К довершению всех бед, огромное количество поглощаемых мною лекарств испортило мне желудок. Я страдал полнейшим отсутствием аппетита и очень похудел. Канун праздника рождества был для меня в том году поистине трагичным. Нищенское существование довело меня до такой степени нервной подавленности, что я иной раз помышлял о самоубийстве. Чтобы как-нибудь развлечься, я проводил долгие часы в Галерее,* являвшейся убежищем и местом встреч артистов – от самых прославленных до самых ничтожных. Я ходил там взад и вперед – одинокий, никому не известный, охваченный отчаянием. Иногда я прислушивался к разговорам артистов, собиравшихся небольшими группами в разных углах Галереи. Они безостановочно превозносили Свои голоса и хвастались успехами. Сильное впечатление производили на меня тогда все эти любимцы публики в мехах и драгоценностях, уже давно ставшие знаменитыми. Они жестикулировали и громко разглагольствовали с таким высокомерным видом, точно ими завоеван весь мир. Иные из них тут же вполголоса напевали, демонстрируя своим поклонникам те места, в которых они вызвали наибольшее количество аплодисментов. Я шел домой с сердцем, сжатым в комочек, и со слезами в душе. Но я старался не поддаваться горестному настроению.
* Галерея – большое, крытое стеклом здание Пассажа, соединявшее Соборную площадь с площадью театра Ла Скала (прим. пер.).
В канун рождества я направился в ресторан Бороды, где тотчас потребовали, чтобы я объяснил, почему не показывался несколько дней. Я сказал, что был приглашен в разные места. На самом же деле я сидел в одиночестве в своей комнате, вынужденный обедать и ужинать куском хлеба с сыром. Терезина просила меня больше никогда не принимать приглашений, так как отсутствие мое было замечено, и они с мужем очень беспокоились, не заболел ли я чем-нибудь похуже бронхита. Когда я закончил ужин, на который истратил свою последнюю лиру, семья Меннини пригласила меня к своему столу. Они так искренне обрадовались мне, что и я среди всеобщего веселья немного приободрился. Мысли мои полетели в Рим, домой, к матери, которой я два дня тому назад написал обнадеживающее письмо, полное выдумки. Дорогая моя мама! Если бы ты представляла себе тогда, какую жестокую борьбу приходится выдерживать, чтобы завоевать веточку лавра и немного денег, ты, может быть, сочла за благо для меня отказаться от карьеры артиста. Ведь все в этой жизни скоропреходяще и, в конце концов, одинаковая для всех тьма охватывает и поглощает навсегда любую славу.
Я расстался с семьей Меннини поздно вечером. Было очень холодно. Снег шел так густо, что на расстоянии трех метров уже ничего нельзя было различить. Город был погружен в мертвую тишину. Ничего не было слышно, кроме звонков трамвая. Звук этот, непрерывно и монотонно пробивавшийся сквозь густую снежную пелену, впивался мне в мозг. Давящая холодная сырость ночи тяжело ложилась мне на легкие, измученные бронхитом. Я дышал с трудом. К тому же у меня было слишком легкое пальто для сурового климата Милана. Холод пронизывал меня до костей. И естественно, чем определеннее устанавливалась зима, тем больше я чувствовал отсутствие у меня шубы и теплого костюма. Держась трамвайного пути, я плелся мимо театра Даль Верме и, наконец, совершенно окоченевший, дотащился до дома. Поднявшись по лестнице при свете спички, я, в ту минуту как вставлял ключ в замок, услышал, что в квартире идет оживленный разговор. Как оказалось, хозяйка дома пригласила к себе семью, жившую этажом выше, и они пировали вовсю.
Едва только я вошел в свою убогую комнатенку, как появилась хозяйка и пригласила меня выпить в компании стакан вина. Сидевшая у нее в гостях семья состояла из матери и ее двух взрослых детей – молодого человека и девушки. Я не запомнил имени матери, помню только имена ее детей. Сына – коренастого молодого человека лет двадцати пяти, блондина со светлыми глазами, говорившего на чистом миланском диалекте,– звали по-манцониевски Адельки. Дочь, молодая девушка лет около двадцати, по имени Эдгарда была очень мила: высокая, стройная, с мелкими чертами лица, чуть-чуть вздернутым носиком, светлыми волосами, тоненькой талией. На первый взгляд, она казалась скорее худенькой, но при ближайшем рассмотрении можно было заметить, что она принадлежит к тому типу женщин, худоба которых только кажущаяся. Что касается недостатка в виде чуть вздернутого носика, то у нее недостаток этот превращался в достоинство, придавая ее лицу какое-то очаровательно-озорное выражение. Не менее очаровательно звучал в ее устах и миланский диалект, на котором она говорила самым прелестным образом. Судя по тому, как они с матерью меня приняли, я понял, что им давно хотелось со мной познакомиться. Хозяйка дома, конечно, говорила им о новом жильце, иногда распевавшем у себя в комнате, и наверно обрисовала меня с самой лучшей стороны. Я сел с ними к столу. Мы пили и беседовали допоздна.
По их просьбе я рассказал им кое-что о себе, о своих надеждах на будущий дебют, о муке, которую я терплю вот уже месяц из-за злополучного бронхита. Лучше бы я этого не говорил! Они все захотели мне помочь и решительно взялись за меня. Старуха-мать предложила массировать мне грудь. Адельки заговорил о своем друге-докторе, к которому мог повести меня. Эдгарда тотчас направилась к себе, чтобы принести мне пилюли, которые, по ее словам, должны обязательно меня вылечить. Они были горькими, точно яд, эти пилюли, но через несколько дней я действительно почувствовал себя значительно лучше. Передавая мне коробочку, Эдгарда с опаской, чтобы не заметила хозяйка, сказала мне шепотом: «Будьте осторожны; многие жильцы заболевали в вашей комнате, потому что она сырая, и наружная стена, выходящая во двор, совсем тонюсенькая». Очевидно в этом крылась причина моего упорного бронхита. При расставании новые знакомые взяли с меня слово навестить их, и мамаша заявила о своей готовности, когда я только захочу, помассировать меня особой мазью.
На другое утро я встал поздно и целый день ничего не ел. Изучив способ употребления, указанный на коробке с пилюлями, я поглотил их штук десять. Затем выпил горячего молока, любезно предложенного мне хозяйкой. Только к вечеру я, наконец, вышел из дома, немного прогулялся и вернулся обратно. В то время как я вставлял ключ в замочную скважину, я услышал, что этажом выше открылась дверь. Это была Эдгарда со свечой в руке. Она пригласила меня подняться к ним, так как мать ее желает со мной поговорить. Я согласился. Адельки еще дома не было. Женщины сказали мне, что вечером они никогда не ложатся спать раньше полуночи и были бы счастливы видеть меня у себя. Они посоветовали мне сразу же переехать из занимаемой мною комнаты: в противном случае мне так и не удастся разделаться с болезнями. Я заметил, что у них было тепло. Камин топился все время, тогда как у меня он был всегда пустой и холодный. Женщины подарили мне несколько охапок дров, чтобы я сегодня же протопил камин, прежде чем лечь в постель. Я так и сделал и, хорошо согревшись, спокойно заснул. Люди, с которыми я встретился всего лишь несколько часов тому назад, проявили по отношению ко мне столько доброты и сердечного участия, особенно Эдгарда, что заботливое внимание вызвало во мне прилив мужества и желание выздороветь во что бы то ни стало. Я уже чувствовал себя лучше: дыхание стало свободней, душа спокойней.
Проснулся я на следующее утро, проспав очень долго. Огонь в камине уже погас, но в комнате было тепло. Я поспешил встать и почувствовал, что желудок мой совсем ослабел. Прошло уже тридцать шесть часов с тех пор, как я ел в последний раз.
Я вышел на улицу. Погода прояснилась и даже время от времени сквозь тучи проглядывало солнце. Бесцельно слоняясь по улицам, я дошел до площади дель Дуомо и зашел в собор. Слабый свет, просачивавшийся сквозь старинные цветные витражи, мистическая тишина, царившая под сводами огромного здания, подействовали на мое воображение. Я стал придумывать всякие возможности выйти из создавшегося положения. С каждым часом требования голодного организма становились все более властными, и я чувствовал, что не в силах еще долго продержаться без еды. Выйдя из собора, я направился в Галерею. На углу улицы Сан Рафаэле я прошел вплотную мимо «Тосканской закусочной». Было около полудни: на меня пахнуло запахом соусов, тушеной телятины, жареной курицы, и рот мой наполнился обильной слюной. Я изнемогал. Тем не менее, пересиливая себя, я прогуливался по Галерее часов до двух, пока пословица «Голод гонит волка из леса» не нашла подтверждения в случае со мной: скрепя сердце, почти против воли, я направился в ресторанчик Бороды.
Ввиду довольно позднего часа там было почти пусто. Как сам Борода, так и его супруга в этот день отсутствовали. Я сел за столик далеко от входа и, не решаясь позвать официанта, стал ждать. Наконец с карточкой кушаний в руках ко мне подошел знакомый старик-официант по имени Пьедони и предложил мне что-нибудь выбрать. Я никак не мог решиться на это. Такой поступок казался мне равносильным краже. Поэтому у меня хватило мужества – а может быть, следовало бы назвать это даже героизмом – сказать официанту, что я не голоден. Поем побольше вечером, если появится аппетит, а пока пусть он принесет мне только рюмку опорто и бисквитов. Выпив вино и проглотив бисквиты – их было штук десять,– я сделал вид, что забыл деньги дома, и сказал Пьедони приписать причитающуюся с меня сумму к вечернему счету. Он отнесся к этому абсолютно равнодушно, а я тем временем, почувствовал, что пища, введенная мной в желудок, настолько взбодрила меня, что я смогу дотянуть до завтра.
Остальную часть дня я провел у себя в комнате, с радостью обнаружив, что хозяйка все время поддерживала в камине огонь. Лежа на кровати, я стал читать. Мне было известно, что Эдгарда, занятая в прядильной мастерской за Порта Маджента, возвращается с работы около семи. И действительно, около семи часов я услышал, как она поднимается по лестнице. Я тотчас бросился к двери, чтобы сообщить ей, что ее пилюли меня вылечили. «Я была в этом уверена,– воскликнула она,– как я рада! Идемте наверх к маме!» И, схватив меня за руку, она потащила к себе. Я провел и этот вечер вместе с ней и ее матерью. Они настаивали на том, чтобы я с ними поужинал. Отказываться было с моей стороны скорее глупо, чем благоразумно. Однако я имел мужество – скажу опять, героизм – отказаться. Присутствовал я при том, как они ели, без особых страданий. Общество Эдгарды заменяло мне пищу. Хотя я и не был в нее влюблен, но расположение этой прелестной девушки очень меня подбадривало. Я начал что-то напевать. Голос мой лился свободно, в нем восстанавливалось прежнее звучание. Обе женщины слушали меня, блаженно улыбаясь и то и дело восклицая: «Как хорошо! Что за чудный голос!» Адельки не было. Он на некоторое время уехал в Швейцарию по делам торгового дома, где он работал. Я пробыл у любезных хозяек почти до полуночи. Эдгарда, провожая меня до дверей на лестницу, вручила мне еще коробочку пилюль, купленных ею для меня. Она хотела, чтобы я продолжал лечиться. Растроганный таким вниманием, я выразил свое чувство тем, что поцеловал руку, в которой она держала коробочку. При этом я сказал, что никогда не забуду ее доброго отношения ко мне и, когда буду петь в Милане, обязательно приглашу ее с матерью в театр.
На другой день я встал рано. Желудок сводило от голода. В глазах у меня темнело. Я попросил у хозяйки чашку молока. Она сама принесла ее мне и спросила, доволен ли я тем, что у меня стало тепло? По-видимому, она раскаивалась в том, что не предупредила меня своевременно о сырости в комнате и теперь старалась загладить свою вину. Выйдя из дома около одиннадцати, я опять направился в собор. Но я не смог снова пережить того, что пережил накануне. Цветные витражи – день сегодня был пасмурный,– лишенные яркого солнечного света, поразили меня ощущением холода и печали. Из них точно улетучилось волшебство искусства. Бесследно рассеялось и настроение мистицизма, овевавшее их накануне. Я ушел из собора разочарованный – сегодняшнее впечатление как бы перечеркнуло вчерашнее.
Бесцельно прошатавшись по улицам еще часа два, я определенно ощутил, что ноги отказываются меня носить. Тогда по зрелом размышлении я пришел к заключению, что голод – выражаясь почти по-дантовски – сильнее героизма. И тут я повернул к ресторанчику Бороды. Сел за уже накрытый столик. Пьедони предложил мне в тот день богатейший выбор всевозможных блюд. Я сделал заказ, ни в чем себя не ограничивая, и через какой-нибудь час у меня был другой вид и другое настроение. Я выпил почти полбутылки вина и с огромным аппетитом поел за троих. Когда я кончил обильный обед, завершенный отличным кофе с коньяком «Три звездочки», на меня напала страшная сонливость, и я, положив локти на стол, крепко заснул. В ресторанчике никого не было. Когда Пьедони разбудил меня, чтобы предъявить счет, я сконфуженно почесывая затылок, спросил, в котором часу вернется Борода. Мне нужно, сказал я, переговорить с ним об очень важном деле. Весьма возможно, что Пьедони догадался, о каком важном деле идет речь, потому что он ответил мне, хитро улыбаясь: «Будьте так любезны подождать. Мы ждем хозяина с минуты на минуту». И действительно, милый старик очень скоро появился в ресторане. Он удивился, увидев меня здесь в неурочный час, подошел к столику и сел рядом со мной, как всегда, приветливый и улыбающийся. Держа в руке счет, который должен был оплатить, я сообщил ему о своем положении и пообещал, что при первых же деньгах рассчитаюсь с ним. Борода слишком привык к подобным случаям: он не придавал им никакого значения. Наоборот, он просил меня запомнить, что дом его для меня всегда открыт. Надо ли говорить о том, как он меня растрогал и как я благодарил его! Едва только я вышел из ресторана, как все съеденное мной было уже переварено. Я чувствовал себя львом. Кроме того, пилюли Эдгарды довершили чудо: бронхит рассосался. Я больше не кашлял. Дышал свободно и уверенно. Из этого следовало, что я мог петь полным голосом.
Дома я нашел комнату отлично протопленной. В камине догорали последние головешки. Я сразу же пошел к хозяйке, чтобы поблагодарить ее, но дома ее не застал. Почему-то подумал, что она поднялась к матери Эдгарды. Открыл окно, чтобы немного проветрить комнату. Затем начал пробовать голос и, почувствовав, что он безотказно повинуется мне, стал петь, прислушиваясь к звучанию тех или иных нот. И вдруг входит сияющая хозяйка и говорит, что голос мой раздается повсюду и все жильцы меня слушают. Пробило шесть. Я с нетерпением ждал возвращения Эдгарды, чтобы сразу же ее приветствовать. Как только я услышал, что она вернулась, я молниеносно взлетел по лестнице, но не успел позвонить в квартиру, так как Эдгарда открыла дверь и, радостно улыбаясь, сказала: «Как жаль, что меня не было, когда вы пели. Мама говорит, что голос ваш – чистая красота». В сердце моем была такая огромная радость, что я бы расцеловал Эдгарду, однако я ограничился только тем, что, взяв ее за руки, горячо благодарил за вторую коробочку пилюль, целебным свойствам которых всецело приписывал свое выздоровление. И тут, не дожидаясь особого приглашения, я запел полным голосом арию Риголетто «Куртизаны, исчадье порока». Когда я без малейшего напряжения дошел до финала, старуха-мать воскликнула на чистом миланском наречии: «Ах вы, черт этакий! Чистый Таманьо!» Эдгарда не помнила себя от счастья. Ее глаза явно выдавали желание, подобное тому, которое я пережил на пороге их квартиры, и думаю, что она сдержалась только из уважения к матери. В те времена в противоположность Обычаю, установившемуся впоследствии, выражение своих чувств в подобной форме нанесло бы ущерб репутации молодой девушки.
Я блаженно проспал всю ночь. Утром написал маме длинное письмо и, хотя у меня не было денег на марку, положил письмо в карман, надеясь так или иначе отослать его. Направился я прямо в Галерею. Встретил там случайно баритона из Рима по имени Оресте Миели. Оставшись в Милане без контракта и желая хоть что-нибудь заработать, он взялся разыскивать хорошие голоса среди начинающих певцов и поставлять их нарождавшейся тогда компании «Колумбия». Он предложил мне «напеть» несколько пластинок. Это, сказал он, послужит для меня своего рода рекламой и даст возможность услышать свой голос воспроизведенным. Я тотчас же согласился при условии, что мне сразу же дадут немного денег. Миели не стал терять времени и, сорвавшись с места буквально на полуслове, поспешно бросил мне: «Не уходи отсюда. Через четверть часа я вернусь, и мы что-нибудь придумаем». Вернулся он запыхавшийся минут через двадцать. Пригласив меня идти с ним, он по дороге объяснил, что, прежде чем говорить о деньгах, необходимо показать голос. И он сумел убедить меня, сказав, что многие артисты, пользующиеся теперь заслуженным успехом, начинали выступать без какого бы то ни было вознаграждения. Я признался, что у меня в кармане действительно нет ни одного сольдо; не на что даже купить марку, чтобы отправить письмо маме. И я показал ему письмо, которое носил с собой. Мы незаметно пришли на какую-то улицу, куда свернули с Корсо, и зашли в помещение, находившееся в первом этаже и представлявшее собой нечто вроде темной конторы. Я был представлен директору. После долгих приготовлений, в которые входило и пение с аккомпанементом фортепиано, я стал перед чем-то вроде длинной железной воронки. Голос мой был записан много раз подряд. Это, как я увидел, было совсем не легким делом. Мне пришлось петь непрерывно в течение почти двух часов. «Вся суть в том,– говорил техник,– чтобы найти и передать точный звук голоса». Так как я среди прочего спел семь или восемь оперных отрывков, то в конце концов почувствовал себя очень уставшим. И тогда я выразил желание получить какую-нибудь компенсацию за свой нелегкий труд.
После длиннейших дебатов с Миели я, заключивший через десять лет контракты на очень значительные суммы с Grammophone Company и с Victor Falking Machine Company* в Нью-Йорке, должен был на этот раз удовольствоваться гонораром
* Фирмы граммофонных пластинок.
в двадцать лир. Это был мой первый заработок в качестве певца. И естественно, моей первой мыслью, как только деньги очутились у меня в кармане, было бежать к Бороде и, рассказав ему о происшедшем, заплатить по счету, который равнялся семи лирам. Он ни за что не хотел принять эти деньги и уступил только после настойчивых уговоров с моей стороны. Но тут же он заставил меня пообещать, что с этого дня – с деньгами или без них – я буду аккуратно приходить питаться к нему в ресторан, будь то в полдень или вечером, и приказал Пьедони, чтобы у застекленной стены, выходящей на пьяцетту Санта Маргерита, для меня был всегда оставлен маленький столик. И только я собрался отклонить это великодушное предложение, как в дело вмешалась Терезина. Бог да благословит тебя, где бы ты ни находилась, милая старушка! Захватив мое лицо своими морщинистыми руками, она поцеловала меня, как это могла сделать мать, и сказала: «Дорогой шиур Тита, если вы не будете приходить сюда каждый день как к обеду, так и к ужину, вы причините мне и моему мужу большое огорчение». Прежде чем уйти из ресторана, я оставил роскошные чаевые Пьедони, который, видя меня слегка навеселе, сказал: «Хорошо идут дела, а, шиур Тита!» Затем я распечатал письмо к маме, чтобы приписать новость о записи на пластинки. Два или три дня я пребывал в состоянии полного блаженства, вызванного первым успехом. Так как Казини в это время не было в Милане, я продолжал заниматься вокалом самостоятельно и был счастлив тем, что в голосе снова восстановились податливость и богатство звучания.