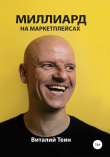Текст книги "Парабола моей жизни"
Автор книги: Титта Руффо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
Глава 2. ВНЕ ДОМА
Иду наудачу. Остановка в Кастель-Гандолъфо. Подмастерье в Альбано. Ночь на могиле Горациев и Куриациев. В новой мастерской. Мачеха Ригетто и сор Джулиано. Выковываю розу и дарю ее мастро Пеппе. Выковываю рог изобилия для сора Джулиано. Читаю книги. Привожу в порядок станок, но... вынужден уйти с работы. Отголоски моего ухода
(Г вышел из дома на цыпочках, закрыв дверь со всей воз-можной осторожностью. Очутившись на улице, я в последний раз взглянул на окно в комнате мамы и с мыслью о ней отправился в путь.
Было чистое апрельское утро. Солнце еще не взошло. Свежий воздух, который я вдыхал полной грудью, раскрыв рот и полузакрыв глаза, несколько взбодрил меня. Я направился к площади Термини, а затем пошел по бульвару Принцессы Маргериты. Проходя мимо маленькой гостиницы «Звезда Италии», я вспомнил наш приезд в Рим всей семьей восемь лет тому назад и в памяти моей тотчас зазвучала та песенка, которую напевал тогда хозяин: «О Кароли.. .». В конце улицы я свернул к площади Витторио-Эмануэле и подошел к воротам Сан-Джованни.
Когда я вышел на простор римских окрестностей, солнце уже начало припекать. Я снял фуражку и пошел дальше с непокрытой головой. Все, что встречалось на пути, возбуждало мое воображение: возчики, доставлявшие вино из отдаленных местностей и едущие в город в сопровождении неизменного спутника – собаки-овчарки, стада жалобно блеющих овец с невинными светлыми глазами; огромные руины римских акведуков. И я все шел и шел, предаваясь мечтаниям, шел без определенного плана, без определенной цели.
Через несколько часов я дошел до Фраскати. Поднимаясь в гору, встретил молочницу, которая несла два ведра молока на деревянном коромысле. Я попросил ее дать мне немного попить и объяснил ей, что вышел из дома очень рано и уже давно в пути. Добрая женщина поставила ведра на землю и разливательной ложкой налила мне хорошую порцию. Пока я с жадностью пил молоко, она испытующе меня разглядывала и наконец спросила, откуда я и куда направляюсь. Я ответил, что иду из Рима и пешком направляюсь в Неаполь.
Она сочувственно покачала головой. «Бедняжка, – сказала она, – долго же тебе придется тащиться!» Поблагодарив эту добрую женщину, я двинулся дальше.
Когда я дошел до Фраскати и вышел на площадь, откуда открывался вид на далекий Рим, у меня больно защемило сердце, и образ матери возник перед моим мысленным взором. Тем не менее я продолжал свой путь и около двух часов пополудни вышел к озеру в Кастель-Гандольфо. Тут я спросил у первого встречного, где находится вилла скульптора Монтеверде. Дело в том, что я знал его повара, который был другом нашей семьи, и вспомнил, что он несколько дней тому назад уехал в Кастель-Гандольфо, где знаменитый скульптор всегда проводил весну. Этот повар, Франческо Форти, был человеком исключительно добрым и отзывчивым. Я поспешил его разыскать, и он принял меня с самым сердечным радушием. Я поведал ему без утайки все, что со мной случилось, и обьяснил, каким образом я попал сюда. Затем сказал ему, что держу путь на Альбано, где рассчитываю переночевать, и оттуда со временем доберусь до Неаполя. В Неаполе же – таково было на самом деле мое намерение – я решил поступить матросом на какое-нибудь торговое судно. Франческо Форти был совершенно ошеломлен и посоветовал мне вернуться домой. Но когда он понял, что намерение мое непоколебимо, не стал настаивать, а угостил меня сытным обедом – свежим хлебом, мясом, вином – и даже предложил мне денег на дорогу. Я отказался, сказав, что денег у меня достаточно, сердечно поблагодарил, крепко пожал ему руку и снова продолжал путь в неизвестность.
Пришел я в Альбано к семи часам вечера. При входе в городок повернул налево и через какую-нибудь сотню метров очутился перед мастерской каретника или, как говорят в Риме, «тележных дел мастера». У входа в эту мастерскую в величайшем беспорядке были навалены большие железные I обручи, деревянные чурбаки, старые, вышедшие из употребления давильные станки, сломанные колеса и тому подобный хлам. Я заключил из этого, что работа здесь найдется. Молодой рабочий в длинном кожаном фартуке, выговаривая слова по-деревенски, крикнул: «Мастро Пеппе, тут мальчишка вас спрашивает». В двух словах я объяснил хозяину, в чем дело: мне нужна работа. Он обескуражил меня сразу же, ответив довольно резко, что рабочие ему не нужны, Но я не сдавался и настаивал на том, что, взяв меня, он никак не разорится: меня удовлетворит минимальная сумма, на которую можно прожить. Я согласен хотя бы на пятьдесят чентезими в день и, если окажется, что я не заслуживаю даже этого вознаграждения, то в конце недели хозяин сможет меня рассчитать, потерпев убыток всего-навсего в три лиры. Мои рассуждения заставили его призадуматься. Само собой разумеется, он захотел узнать, кто я и откуда явился. Я сказал, что отец мой – славный мастер по ковке железа и что я выучился работать в Риме у него в мастерской. Но так как между нами произошла ссора, я ушел из дома и намереваюсь впредь жить самостоятельно. Искренность моих слов подействовала на хозяина. Он предложил мне завтра в семь утра быть в мастерской. Я сказал, что могу явиться и раньше. «Ладно, – буркнул он, – ты всегда найдешь меня здесь».
Покончив с этим делом, я направился к центру городка, идя по главной улице. Дойдя до моста, перекинутого через Ариччу, я остановился, чтобы немного отдохнуть, и тут внимание мое было привлечено руинами в виде двух огромных конусов, расположенных справа под мостом, вблизи маленького кладбища. Я спросил у прохожего, что это за руины, и он ответил мне: «Гробница Горациев и Куриациев». Я вспомнил, что слышал когда-то в мастерской об этих шести воинах, заслуживших бессмертие тем, что они между собой разрешили длинную и кровопролитную войну между Римом и Альбой, и это тогда же воспламенило мое воображение. Тем временем стало смеркаться. Я вернулся в центр городка и, зайдя в лавочку с теми двадцатью пятью чентезими, ко* торые представляли собой все мое достояние, купил на десять чентезими хлеба, на десять – сыру и на оставшиеся пять – большой стакан вина, которое достал в ближайшей остерии. Вино было такое сладкое и крепкое, что я слегка опьянел. И вот в состоянии некоего, если можно так сказать, мрачного блаженства я вернулся на мост.
Настала ночь. Я чувствовал себя усталым, сонным. Почти ничего не соображая, спустился по узкой тропинке на кладбище, к подножию поразившей мое воображение гробницы. И там, вспоминая, как мама укачивала меня в детстве на коленях, ласково поглаживая рукой по лбу, я под кваканье лягушек, далекий лай собак и треск кузнечиков крепко заснул. Проснулся глубокой ночью. Меня разбудил холод. Было совершенно тихо. Узкий серп луны, то появляясь из-за туч, то опять скрываясь, выхватывал из темноты белый мрамор ближайших могил. Это настраивало на мысли о смерти. В сознании моем теснились какие-то образы. Я снова задремал, уже не отличая действительности от сновидений. В этом полузабытьи я видел себя римским воином, взрослым мужчиной с грудью гладиатора, в великолепной обуви с золотыми пряжками, в роскошном, украшенном резьбой шлеме, со щитом и коротким мечом с чеканным изображением военных аллегорий, в богатейшей пурпурной мантии. . . Я проснулся окончательно, когда запели далекие петухи. В окружающей меня действительности не было ничего похожего на мои сны. Упадок сил и невыносимый холод вызвали у меня судорожную зевоту. От нее и от поднявшейся одновременно икоты я так и не смог избавиться всю дорогу, пока шел в мастерскую. В шесть утра я уже был там и, сев в ожидании хозяина на землю' у дверей, тотчас задремал. Мастро Пеппе очень удивился, застав меня уже на месте, и спросил, в какой гостинице я провел ночь. Узнав правду, он с трудом мог поверить мне, но поверив, очень пожалел меня.
Как только мастерская была открыта, я с большим рвением принялся за работу. Вычистил скамьи, привел в порядок разбросанное железо, подмел пол, сгреб в одну кучу повсюду валявшуюся стружку, разложил по размерам железные прутья, разбил куски каменного угля для кузнечного горна. И, проделав все это, почувствовал удовлетворение.
Когда пришли рабочие – пробило семь – они с удивлением переглянулись. Мастерская была неузнаваема. Мастро Пеппе, который попыхивая трубкой, молча, со вниманием наблюдал за моей работой, наконец подошел ко мне и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Ты славный парнишка». И спросил меня, завтракал ли я? Я ответил, что вообще никогда не завтракаю, но если бы мне сейчас и захотелось поесть, я бы этого не смог по той причине, что в кармане у меня ни одного сольдо. И тут же попросил хозяина оплачивать мне полдня тотчас же, как только первая половина работы будет мною выполнена. Иначе мне не на что будет питаться. Он великодушно обещал, что в первую неделю будет платить мне одну лиру в день и в полдень выдал эту лиру авансом. В общем мне в несколько часов удалось завоевать доверие хозяина и уважение рабочих.– Я был по-настоящему горд и доволен собой.
Этот первый рабочий день имел для меня большое значение. Я смог сразу убедиться в превосходстве моих знаний по сравнению с другими рабочими. Кроме стольких ошибок в самом распределении работы, я отметил еще, что многое из того, что можно было проделать в несколько часов, отнимало у них целый день. В полдень, когда все ушли обедать с тем, чтобы возвратиться только в два, я остался в мастерской и на авансированную мне лиру купил кусок хлеба с деревенским сыром и большой стакан вина. Я поел, сидя на деревянном чурбане у дверей, раздумывая над событиями, вызвавшими столь глубокую перемену в моей судьбе. Чего только я не передумал и не перечувствовал за эти часы отдыха и одиночества в печальном молчании громадной мастерской. Я задавал себе вопрос: сколько же времени придется мне прожить с этими новыми для меня людьми, лица которых в большинстве случаев выражали жестокость, с людьми, лишенными инициативы, грубыми и равнодушными к работе. Мастро Пеппе вернулся раньше других и спросил, сколько я истратил на обед. Я ответил, что израсходовал только двадцать чентезими, а остальной частью денег, оставшихся от лиры, уплачу за ужин и помещение для ночлега. Мастро Пеппе проявил по отношению ко мне подлинную чуткость и почти отеческую заботу. Прежде чем рабочие возвратились с обеда, он повел меня в скромный домишко, где нас встретила пожилая женщина, мачеха, как сказал мне хозяин, самого молодого из его служащих, которого звали Ригетто. Мастро Пеппе, с большой похвалой отозвавшись обо мне, объяснил старухе мое положение и предложил ей хорошо устроить меня на ночь, чтобы я сегодня же мог как следует выспаться. Женщина согласилась. Сказала, что устроит меня наилучшим образом в маленькой комнатке по соседству с ее пасынком. Договорились и о цене: тридцать чентезими за ночь. Вернувшись в мастерскую, хозяин объявил Ригетто, что я буду жить у него. Парнишка хлопнул меня по плечу, выражая этим свое удовольствие. Все это очень подбодрило мой упавший дух, и я с усердием поработал до вечера. Когда кончился рабочий день, я, чувствуя себя несколько усталым, пошел поесть в остерию на главной улице городка. Хозяина этой остерии звали сор Джулиано. Это был любезнейший старичок, который настолько проникся ко мне сразу же живейшей симпатией, что всего за сорок чентезими необычайно сытно накормил меня и предложил еще большой стакан вина, кстати, сыгравшего со мной ту же шутку, что и вино, выпитое накануне. Я пошел домой, мечтая лечь в постель. Каково же было мое горькое разочарование, когда я увидел, что мачеха Ригетто приготовила для меня соломенный тюфяк, брошенный на пол в углу темной комнаты, где хранились кукуруза и картофель, а по стенам тянулись гирлянды из чеснока!
В этой темной кладовке не было ни одеяла, ни умывальника. Со мной в полном смысле слова обошлись, как с собакой. И хотя я чувствовал себя униженным и оскорбленным, я все же постарался побороть в себе чувство возмущения, подумав, что мачеха Ригетто, по-видимому, никогда не была матерью. И с тем, данным мне от природы умением приноравливаться к любым обстоятельствам – умением, сопровождавшим меня всю жизнь, я спокойно заснул, воображая, что мама укрывает меня шерстяным одеялом, подоткнув края его под матрац.
Многие недели тянулась эта однообразно-печальная жизнь, и я, наконец, в какой-то степени свыкся с моими товарищами по работе. Я неизменно сохранял привычку оставаться в мастерской в обеденный перерыв, во время которого, быстро проглотив обычную еду – чем-нибудь сдобренный кусок хлеба, я принимался за работу над вещичками, нисколько не похожими на то, что, как правило, выходит из мастерской каретника. Я очень скоро изготовил набор необходимых для меня маленьких инструментов, таких, какие я применял а мастерской отца: стальные резцы разных размеров, молоточки для обработки железа и тому подобное. Без ложной скромности скажу, что я в короткий срок стал отличным мастером своего дела и для своего возраста – мне еще не исполнилось пятнадцати лет – я уже выполнял какие-то довольно значительные работы. Обеспечив себя собственными инструментами, я мог, само собой разумеется, только в свободные часы, выделывать занятные вещицы. Хозяин, видя положительность моего характера, вскоре доверил мне ключ от мастерской, и я стал приходить туда и в половине шестого и в шесть. Часто и с большой радостью пользовался я возможностью поработать в одиночестве до семи часов.
Через некоторое время я подарил мастро Пеппе прекраснейшую розу с бутоном и листьями, не купленную у продавца цветов или украденную в каком-нибудь саду, но созданную ударами молотка по железу. Я вложил в эту безделушку всю свою страстность и умение, и в результате получился маленький шедевр. Однажды утром, когда пришли рабочие, я преподнес хозяину свой сюрприз, прося его принять мой подарок в знак благодарности за доброту, которую он проявил по отношению ко мне. Он остолбенел. Не мог поверить, что эту розу выковал я сам. Показал ее рабочим, которые не менее ошеломленные, смотрели на меня с недоверием. Им казалось невозможным, чтобы законченное ювелирное изделие было выполнено таким мальчишкой. Этот факт принес мне некоторую популярность среди тех, с кем я встречался, и особенно в остерии сора Джульяно. Милый старик с каждым днем все больше и больше привязывался ко мне, и когда я приходил вечером к нему ужинать, всегда с радостью меня приветствовал. Постоянно расхваливая меня посетителям своей остерии, он называл меня золотым мальчиком, серьезным, воспитанным, настоящим художником, и утверждал, что я стану великим человеком. Эти панегирики и предсказания не вскружили мне голову... Я жил по-прежнему, не ища никаких развлечений. Написал несколько писем матери, не указывая ей, однако, своего точного адреса из страха, чтобы она не приехала и не увезла меня домой. Я просил ее обо мне не беспокоиться, писал, что работаю, что откладываю деньги, предназначенные исключительно для нее, и что в один прекрасный день я их ей доставлю. Что же касается меня самого, то я не имел никаких известий о своей семье.
Однажды в воскресный день рабочие мастерской пригласили меня в остерию, где под большим навесом шла игра в шары, и представили всем присутствующим, называя меня маэстро. Я очень смеялся, радуясь этой популярности, но все же протестовал, говоря, что я совсем не маэстро, а самый обыкновенный рабочий по ковке железа. И просил товарищей, чтобы они звали меня Руффо. Они наперебой угощали меня вином, от которого я или отказывался, или же пил весьма осторожно, в небольшом количестве, объясняя свою сдержанность состоянием здоровья. Это не помешало мне, однако, стать вскоре одним из завсегдатаев этой остерии. Дело в том, что сразу за ней простиралось поле пшеницы, и я игре в шары, никак меня не интересовавшей, предпочитал растянуться в этом поле и глядеть в лазурное небо. Так я проводил долгие часы, погруженный в созерцание небесной беспредельности, и мое воображение приходило в состояние экзальтации, уносившей меня не раз за пределы реальности и каждодневных будней. Что же касается тех удовольствий, которые я назвал бы эстетическими, то есть тех изящных вещичек, которые я мастерил в свободное время, то мне вскоре пришлось с ними расстаться потому, что другие рабочие в безуспешном соревновании со мной стали отвлекаться от текущей работы. Последней выкованной мной безделушкой был рог изобилия, который я подарил сору Джулиано как талисман на счастье. Он прикрепил его к двери за стойкой с напитками, и это мое внимание еще усилило его благожелательное ко мне отношение и уважение к моему мастерству.
По прошествии двух месяцев моя заработная плата дошла до трех лир в день. И я так наловчился, что откладывал две, употребляя только одну на все мои нужды, включая сюда же и самообразование, так как сознание того, что оно так ничтожно, не давало мне покоя и мучило меня все больше и больше. В один прекрасный день я приобрел «Графа Монтекристо» Дюма. Эта книга оказала значительное влияние на мое умственное развитие и немало способствовала возбуждению моего живого воображения. Это был подержанный, сильно потрепанный экземпляр с большим количеством иллюстраций, и то, что меня в этой книге поразило больше всего, были как раз виньетки и изображения фигур с соответствующими примечаниями. Они-то и заставили меня впервые представить себе вполне реально самых экстравагантных персонажей. Я с жадностью набросился на книгу, сразу влюбился в ее героев и больше не расставался с потрепанным томиком. Как искренне я наслаждался, содрогался, плакал, с каким увлечением фантазировал! Среди всех столь разнообразных действующих лиц больше всех мне нравился Эдмондо Дантес. Я по-своему представлял себе его внешность; я ему завидовал; мне хотелось быть на его месте. А аббат Фариа, что за чудесная человеческая душа! Сколько сердечности и какое ангельское смирение в ужасающей темнице замка Иф! Еще живы в моей памяти те чувства, которые этот первый роман вызвал во мне, и я смело могу сказать, что он явился первым стимулом, возбудившим во мне желание хоть немного приобщиться к литературе. С этого момента я начал читать и писать более бегло и более грамотно или, вернее, менее безграмотно. Всю страсть, которую я до этого времени вкладывал в свои художественные работы, я перенес на чтение.
Тем временем жизнь шла своим чередом и дни мои по-прежнему распределялись между мастерской и участившимися посещениями остерии сора Джулиано. Теперь я питался у него и в полдень, что доставляло ему большое удовольствие. За несколько лишних сольдо я имел еду, более полноценную, и силы мои от этого прибавлялись. После обеда я оставался у него и беседовал со стариком о самых разных вещах. Между прочим рассказывал ему о героях прочитанных мною книг, хотя он, по правде говоря, не особенно ими интересовался. Его любимой темой для разговора были воспоминания о жене, умершей от чахотки во цвете лет. Он хранил ее фотографическую карточку в ящике за стойкой среди большого количества всяких бумаг, и иногда, когда он описывал красоту и ангельское сердце покойной, слезы навертывались у него на глаза. Я старался подбодрить его, и дело кончалось обычно стаканом самого лучшего вина.
Чтение романов и страстное желание жить среди природы, пользуясь полной свободой, подобно некоторым персонажам из этих романов, заставили меня понемногу возненавидеть мастерскую и работу, стоявшую между мной и тем, о чем я мечтал и чем восхищался. Прогуливаясь по вечерам, я смотрел на окружающее другими глазами. Наблюдательность моя развилась и обострялась с каждым днем все больше и больше. Я часто направлялся к мосту через Ариччу, и вид гробницы с двумя конусами, где я спал в первую ночь, вызывал во мне чувство ужаса. Мне казалось, что я живу уже очень давно и прошел по жизни большой кусок пути...
Благодаря моим сбережениям и с помощью сора Джулиано я заказал себе черный костюм у хорошего портного, его знакомого, истратив на это, если память не изменяет мне, не больше пятидесяти лир. Я купил себе две сорочки и все необходимое, чтобы выглядеть прилично, хотя и скромно. Кроме того, купил еще шерстяное одеяло на мое бедное ложе. Я чувствовал, что постепенно изменяюсь к лучшему и мне все сильнее казалось, что в один прекрасный день я смогу выполнить нечто из ряда вон выдающееся. Моей ярко выраженной особенностью было в то время какое-то вдруг проявившееся стремление к изяществу. Это носило даже преувеличенный характер. Я всячески старался отличаться от других мальчишек, живших в" одинаковых со мной условиях. Мне нравилось быть одетым с некоторой элегантностью. Я не выносил брюк с вытянутыми коленями и никогда не ложился спать прежде чем не разложу их таким образом, чтобы утром они казались только что отглаженными. Когда я в первый раз смог надеть свой новый черный костюм, белую полотняную рубашку с черным галстуком, завязанным бантом, мягкую черную шляпу и черные же полуботинки, я почувствовал себя весьма удовлетворенным и у меня возникло только одно желание: чтобы меня увидела мама.
И вдруг в один воскресный день меня мгновенно охватило безудержное желание вернуться в Рим. К тоске по матери, брату и сестрам примешивалось гордое желание показать отцу, что я могу жить совершенно самостоятельно, вне всякой зависимости от него. Но я очень быстро отказался от возникшего у меня намерения: я решил, что приведение его в исполнение было бы ошибкой. У меня не было еще достаточной суммы сбережений, которую я мог бы преподнести маме, а мне, может быть, уже не удалось бы возвратиться сюда, чтобы ее дополнить, поэтому я удовольствовался тем, что сфотографировался в черном костюме и послал маме карточку.
Снимок удался на славу: я выглядел на нем лучше чем в действительности. Я не был по внешности тем, что называется красивым мальчиком, отнюдь нет, но на карточке выглядел именно таким, и в черном костюме у меня был тот полный достоинства вид, к которому я стремился. Когда сор Джулиано увидел меня столь элегантным, он пригласил меня к обеду, во время которого не переставал любоваться мною и расточать мне комплименты.
Милый старичок, ты уже давно стал прахом, и множество событий, радостных и печальных, прошли с тех пор через мою жизнь. Ребенок, обласканный тобой в Альбано, через несколько лет стал знаменитым во всем мире, как ты и предсказывал, и среди стольких событий никогда не забывал тебя. В моем сердце ты все еще живой. Я по-прежнему вижу тебя за стойкой твоей остерии с портретом умершей подруги в руках, вижу, как уголком передника ты вытираешь выкатившуюся из глаз слезу – и вдруг, сразу, в ответ на мои слова утешения обращаешь ко мне с улыбкой свое еще залитое слезами честное лицо, как бы желая поблагодарить меня за участие...
Однажды утром, когда работа в мастерской была в полном разгаре, вдруг останавливается у дверей двуколка, запряженная белой лошадью, которой правит мужчина лет сорока, сразу мне понравившийся. Представительный, с веселым открытым лицом, с маленькими усиками и эспаньолкой, одетый в зеленый бархатный костюм, в запыленных кожаных сапогах, он казался славным и чудаковатым деревенским фермером. Таким он и был на самом деле. Выпрыгнув из двуколки, он спросил мастро Пеппе. А тот уже приветствовал приезжего как старого знакомого, крича из глубины мастерской: «О, дорогой сор Ромоло, как дела? Давно мы с вами не виделись!». Он с чувством пожал ему руку и спросил, чему обязан приятным посещением. Тот, указав пальцем на лежавшую в двуколке нижнюю часть сломанного давильного станка, спросил, можно ли его починить. Это была тяжелейшая часть станка и, чтобы спустить ее на землю, понадобились усилия трех рабочих. Между ними тотчас разгорелся спор по поводу большей или меньшей возможности восстановить станок. Приводя множество доводов и за и против, хозяин и рабочие сошлись на том, что ничего другого сделать нельзя, ' как только отправить станок на литейный завод.
Недовольный этим заключением, приезжий снял шляпу и провел рукой по вспотевшему лбу: «Черт возьми, – воскликнул он, – вот этого-то мне и не хотелось!». Я, остававшийся до этого момента в стороне и не сказавший ни единого слова, хотя и внимательно слушал все, что говорилось кругом, счел уместным вмешаться. Осмотрев вблизи тяжелейший чугунный круг, я с уверенностью заявил, что починить его можно, но только при помощи инструмента, которого в мастерской нет. Этот инструмент – домкрат и его можно купить в Риме. Фермер посмотрел на меня несколько удивленно и попросил объяснить, каким способом я предполагаю произвести починку.
Не стоит рассказывать о том, как после недели напряженной работы, с помощью домкрата и трех рабочих, я смог полностью восстановить станок. К сожалению, этот успех оказался для меня в какой-то степени роковым: рабочие меня возненавидели, особенно те, кто были постарше. Мгновенно и совершенно явно очутившись в положении людей отсталых, они увидели во мне того, кто со временем сможет всех их вытеснить. И вот с этого дня они перестали относиться ко мне так хорошо, как прежде. Даже мастро Пеппе стал ко мне значительно холоднее. Он, который поначалу расписывал фермеру мои исключительные способности, показывал работы, выполненные мною и ему подаренные, говорил о том, какой я серьезный и как удивительно для своего возраста во всем разбираюсь, как будто бы раскаивался теперь в своих словах. Сор Ромоло, с первого дня обративший на меня внимание, все то время, пока я работал над станком, приходил в мастерскую почти каждый день. Когда же работа была закончена, он остался ею настолько доволен, что не только заплатил мастро Пеппе ту цену, о которой они договорились, но захотел подарить и лично мне двадцать пять лир. Я отказался их принять, так как деньги за свой труд получал от хозяина. Фермер, весьма удивленный, попросил тогда самого мастро Пеппе уговорить меня принять его подарок, так как я действительно заслужил его. И мастро Пеппе, хотя это ему, как видно, претило, предложил мне взять деньги сора Ромоло. Выражая свою благодарность, я сказал фермеру, что если ему нужно что-нибудь, то я по воскресеньям свободен и охотно поработаю у него за такую же плату, какую получаю у мастро Пеппе в другие дни недели. Фермер только этого и ждал.
Я не сразу сообразил, что своим предложением совершил ложный шаг, ставя себя в положение конкурента хозяину. Но он очень скоро дал мне понять это. Я в мастерской вдруг перестал пользоваться чьим бы то ни было расположением и стал немил решительно всем. Я видел зависть и злобу, написанные на всех лицах. Само собой разумеется, я не был ни робким, ни трусливым. Поведение опасных и наглых мальчишек в мастерской отца уже давно приучило меня к сопротивлению; у меня и сейчас хватило бы смелости защищаться вместо того, чтобы терпеть незаслуженные оскорбления.
Если я незадолго до этого сумел выступить против родного отца, то тем более буйно могло вылиться возмущение против посторонних. Однако в данном случае я предпочел резкому протесту дипломатически ловкое поведение. Но когда из этого ничего не вышло по той причине, что грубых людей не тронули мои усилия, я понял, что мне осталось только одно: во время ретироваться. Поэтому вечером в одну из суббот при получении заработной платы я громким голосом заявил мастро Пеппе, что с понедельника больше, работать у него не буду. Я нашел в себе достаточно силы, чтобы поблагодарить всех за поддержку, которую мне оказали в прошлом, но прибавил, что по некоторым высказываниям кое-кого из товарищей я понял, что сейчас меня попросту возненавидели. И так как я ни в коем случае не собираюсь навязываться насильно, то по этой причине беру расчет.
После этого я пожал руку каждому, просил не поминать меня лихом и в случае, если я в чем-нибудь провинился, великодушно простить мне мою вину. Прощаясь с мастро Пеппе, я сердечно поблагодарил его за то, что он так гостеприимно предоставил мне возможность работать в его мастерской. После этого я вышел на улицу и, ни минуты не задерживаясь, направился прямо к сору Джулиано.
В этот вечер милый старичок ждал меня с нетерпением большим, чем обычно. Он приготовил для меня барашка с маслинами, кушанье, которое он готовил исключительно вкусно. Увидев меня, сор Джулиано просиял: «Сынок, – воскликнул он, – я приготовил такого барашка, что тебе долго меня не забыть». Когда я сказал ему, что взял расчет у мастро Пеппе, он выронил разливательную ложку, которую держал в руке, и она упала на вынутый из печи горшок: он понял, я ухожу из Альбано и он меня теряет. Видя его столь глубоко опечаленным, я хлопнул его рукой по плечу: «Нет причин хмуриться, – сказал я. – В конце концов не произошло никакого несчастья». – «Эх, дорогой мой, – ответил он, – вот ты уходишь и куда пойдешь – неизвестно. Во всяком случае, ясно одно: сюда ты больше не вернешься. Жаль! Но расскажи мне по порядку что у вас там произошло?». Когда он узнал обо всем в точности и во всех подробностях, он пришел в полнейшее неистовство. «Если кто-нибудь из них, не дай бог, завернет ко мне в остерию, – воскликнул он, – ему несдобровать. Я уж ему выложу все, что об этом думаю!» Он сейчас же помчался бы поговорить с мастро Пеппе, если бы я категорически не запретил ему этого. Услышав, что я через несколько дней отправлюсь в Неаполь, он посоветовал мне сначала сходить попрощаться с сором Ромоло, так искренне расположенным ко мне. Я нашел совет моего милого старичка совершенно справедливым и попросил его проводить меня на другой день на ферму.
Дома на кухне я встретил Ригетто, очень огорченного происшедшим. Хотя он был весьма неотесан и мы с ним за всё время моего пребывания в Альбано никак не подружились, я все же в тот вечер заметил, что в его характере было больше робости, нежели подлинной грубости. Он рассказал, что после моего ухода в мастерской разгорелись шумные споры. Каждый старался обелить себя и приписать вину за происшедшее другому. Сам мастро Пеппе сделал за это выговор старшему из рабочих. Не скрою, что рассказ Ригетто доставил мне удовольствие, и я порадовался тому, что вышел с достоинством из создавшегося положения. А на другой день мы с сором Джулиано отправились пешком на ферму сора Ромоло.