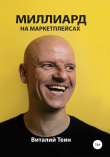Текст книги "Парабола моей жизни"
Автор книги: Титта Руффо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Глава 25. ВОЕННОЕ ИНТЕРМЕЦЦО
Возвращаюсь в Италию во время войны. Остановка на Лазурном берегу. Я – солдат. Из казармы в церковь. Из церкви в пастушью хижину. У доменных печей в Терни. Благотворительный концерт во Франции. Возвращаюсь в Терни. Дезертир, готовый умереть за меня. Во Флоренции
Тем временем вспыхнула и разгорелась вовсю мировая война. Когда наступил критический момент и возникла угроза, что Германия одержит верх, Италия тоже ринулась в пекло. Мне в 1916 году было тридцать девять лет, и я только что закончил обычный оперный сезон в театре Колон в Буэнос-Айресе. И вдруг однажды утром читаю в газете «Родина итальянцев», что в Италии мобилизованы все записанные в третьей категории моего призывного года. Я намеревался через несколько дней отплыть в Северо-Американские Соединенные Штаты, где у меня с Чикагской оперной компанией был договор на цикл концертов, а также ряд других значительных контрактов. Каюта на голландском пароходе была уже заказана. Но я предпочел пойти тотчас же засвидетельствовать свое почтение, его превосходительству полномочному послу Кобианки, с которым был в наилучших отношениях. И хотя он, знавший об обязательствах, связывавших меня с Северной Америкой, любезно уверял, – что отлично можно уладить мои дела как военнообязанного, не отказываясь от контрактов, я все же решил аннулировать свои договоры и вернуться в Италию.
Не будучи ни в коем случае фанатиком военных действий, я все же не был согласен с послом и не мог поступить так, как он предлагал мне. Я почувствовал бы себя уклонившимся от священного долга и предателем по отношению ко всем мужчинам моего призывного года, не попавшим в то привилегированное положение, в котором находился я. После чудеснейшего морского путешествия я прибыл в Барселону, остановившись до этого на несколько дней в Рио-де-Жанейро. Да, чудесным было это путешествие, однако отнюдь не беззаботным, так как мы плыли под непрерывной угрозой, что нас торпедируют немецкие подводные лодки. До того дня, когда мне надлежало явиться в Риме на призывной пункт, оставалось около месяца, и я поездом проехал в Ниццу, намереваясь провести этот месяц на Лазурном берегу.
Однажды утром, прогуливаясь по Английскому бульвару, я встретил милую знакомую, мадемуазель Кармен Тиранти, которой был представлен в Париже баронессой Штерн. Мадемуазель Тиранти была не только отличной пианисткой и певицей, она считалась одной из самых умных и образованных женщин французского общества; к тому же была богата и щедра. Ей принадлежала вблизи Ниццы великолепная вилла на берегу моря – «Вилла Скифанойя», и она переоборудовала ее во время войны в военный госпиталь. В великолепных залах ее жилища были помещены многочисленные раненые, для которых она была и благодетельницей и любящей сестрой. Она попросила меня принести моим искусством немного радости ее больным, то есть что-нибудь спеть для них. Надо ли говорить, что я всем сердцем пошел ей навстречу.
Через несколько дней я был на вилле «Скифанойя», где под рояль, на котором аккомпанировала мне сама хозяйка дома, спел ряд арий и романсов, вызвав бурные проявления радости у несчастных страдальцев. Прощаясь с мадемуазель Тиранти, выражавшей мне самую искреннюю признательность, я сказал, что всегда и всецело в ее распоряжении для любых выступлений подобного рода. Таким образом она вместе с начальником французского Красного Креста, генералом Лама, организовала с моим участием в театре Эльдорадо благотворительный вечер, принесший очень значительную сумму. Затем она попросила меня спеть на вилле бельгийского короля Леопольда, также оборудованной под госпиталь, где помещалось около пятисот бельгийских воинов, пострадавших от удушливых газов. Это было ужасающее зрелище! Непереносимо было видеть такое множество молодых людей, так тяжко изуродованных: кто был отравлен, кто изранен, кто ослеплен, кто непоправимо искалечен. Я не представлял себе, что война, кроме смерти, может вызвать столько мучений, столько непоправимых ужасов! Весь месяц до призыва был использован мной для выступлений в самых разных военных госпиталях, и я присутствовал при таких горестных сценах, которые взволновали бы сердца самые жестокие и мало способные к сочувствию.
Когда и для меня наступило время исполнить воинский долг, я уехал в Рим и явился на призывной пункт. Оттуда меня направили в казарму на окраине города, где я прошел медицинский осмотр. И вот в одно мгновение всемирно известный певец превратился в неизвестного солдата, одетого в грубую серо-зеленую форму, в сапожища из твердой кожи и в доходившую до ушей большущую фуражку с длинным козырьком. Построившись в колонну с сотнями других солдат, с вещевыми мешками за плечами и всем прочим снаряжением новобранцев, мы промаршировали через весь Рим и были размещены в казарме Фердинанда Савойского вблизи Сан Лоренцо. Я был зачислен в 207-й пехотный полк. Мы часами прогуливались по огромному казарменному двору в ожидании пищевого рациона и вечерней увольнительной. Как только наступал желанный миг, я со всех ног бежал домой, чтобы обнять свою семью: мои малыши, видя своего папу так плохо одетым, смотрели на меня в полном недоумении. Я оставался с ними весь свой свободный час, а затем возвращался в казарму, и каждый день ждал назначения, надеясь на возможность менее однообразного времяпрепровождения. Начались учения. Мы подолгу маршировали взад и вперед по двору под командованием старшего сержанта, который орал громовым голосом и чувствовал себя по меньшей мере Наполеоном I. Пока требовалось только «Взвод, шагом марш», дело еще кое-как клеилось, но при команде «Кругом, марш!» начиналась такая путаница и суматоха, что ничего уже понять нельзя было: кто поворачивался направо, кто налево, кто оставался сзади, завязывая какие-то вдруг ослабевшие шнурки, кто в полной растерянности терял равновесие и падал под ноги марширующим. Все призывники были люди старшего возраста, по большей части уже располневшие и нетренированные, так что им вполне можно было дать и по пятьдесят лет.
Наконец настал день, когда 207-й пехотный получил приказ немедленно выступить в Умбрию – я еле успел расцеловать своих любимых. На вокзале, откуда мы отправлялись, творилось неописуемое столпотворение: жены и многочисленные дети, пришедшие проститься с отъезжающими, рыдали и причитали так, точно Умбрия была Пасубио или Карсо. Нас погрузили, как это обычно принято в таких случаях, в вагоны для скота. Через три часа мы прибыли в Терни. Там нас выгрузили, и мы промаршировали много километров, добираясь до Чези, небольшого селения в горах, куда были направлены. Как только мы туда прибыли, нас разделили на группы и разместили как попало – кого куда: часть людей очутилась в домиках крестьян, часть в хлевах, часть в погребах, а кое-кто угодил... в церковь. Я вместе с пятьюдесятью другими солдатами попал как раз туда. Это была церковь, из которой, само собой разумеется, все было вынесено. Единственной священной эмблемой, оставшейся там, был большой деревянный крест высоко на хорах. Мы устроились рядами на полу у боковых стен на обильно набросанной там соломе, оказавшейся, к сожалению, совсем мокрой.
Совершенно обессиленный, я растянулся на этом примитивном холодном и сыром ложе. Справа и слева от меня поместились люди, совершенно различные по характеру, воспитанию и общественному положению, и я испытывал странное чувство, беседуя то с одним, то с другим. Я убедился или, вернее, убедился лишний раз, что пока люди не достигнут известной степени равенства интеллектуального и морального, братство и счастье останутся утопией. С правой стороны от меня лежал граф Вони из Сиены, изысканнейший жуир и прожигатель жизни, который после всяческих излишеств обрел равновесие в счастливом браке. Он никак не мог стать на правильную точку зрения, чтобы приноровиться к неудобствам военной жизни. Со слезами на глазах он говорил, что слишком аристократичен по натуре, чтобы жить среди всей этой «человеческой вони». И голосом, дрожащим от жалости к самому себе, он воскликнул: «Только я увидел солнце, как его лишился!» Тут я узнал, что он недавно женился на богатой красавице-американке и был вынужден расстаться с ней в счастливые дни медового месяца. Он признался мне, что в течение своей блестящей светской жизни был в связи со многими женщинами, но только теперь в первый раз влюбился по-настоящему и потому невыносимо страдает в разлуке. Эти признания раздражали моего соседа слева, которому тоже не спалось. И он тоже рассказал мне свою историю. Его звали Ремо Просдочими. Он был ломовым извозчиком и жил в Риме на правом берегу Тибра. Оставив свою невесту беременной и не успев узаконить это положение, он опасался, что отец ее, человек самого буйного нрава, узнав о бесчестье дочери, убьет ее. Третий возле нас был фанатический поклонник Габриэле Д'Аннунцио, который вдруг среди ночи, впав неизвестно почему в странное состояние экзальтации – а может быть, из желания как-то согреться в ужасающем холоде этих каменных церковных стен, – начал громким голосом декламировать стихи. Тогда против этого одержимого, мешающего людям спать, вспыхнуло массовое возмущение. В адрес его, а также его предков или, говоря точнее, в адрес его «мертвяков» полетела отборная ругань и были пущены в ход также многие сапоги. И если бы какой-нибудь из этих снарядов долетел до цели, это пресекло бы не только лирические излияния поклонника Д'Аннунцио, но, весьма возможно, изгнало бы лиризм и из его сердца. Через некоторое время снова воцарилась тишина, и тогда Бони шепотом сказал мне: «Как отвратительна пошлость! Мы здесь угодили в самую гущу. Предпочитаю безумцев и преступников». Я стал уговаривать его приноровиться к новому положению. Стараясь его поддержать, я дал ему понять, что хотя и не родился аристократом, подобно ему, но все же благодаря своему искусству достиг жизни весьма зажиточной, и теперь, так же как и ему, мне пришлось расстаться с ее благами и с уже укоренившейся привычкой останавливаться в первоклассных гостиницах, среди всевозможной роскоши и величайшего внимания. Объяснил ему также, что я вернулся в Италию, чтобы выполнить свой долг, в то время как при желании мог отлично остаться в Америке. Однако, попав в эту переделку, в среду людей, в большинстве своем вульгарных и пошлых, я чувствую себя совершенно спокойным и даже испытываю от этого нечто вроде удовольствия. Я захотел стать солдатом и пошел на то, что попаду в самую гущу людей, хотя и мало, а может быть, и совсем еще не облагороженных искусством, но, с другой стороны, людей, еще не изуродованных всяческим притворством. Наблюдения над всем, что я вижу и что меня окружает, дают мне возможность близко познакомиться с себе подобными и обогатить свою душу анализом того, что в них есть хорошего и плохого, прекрасного и уродливого. Бони, собираясь наконец спать, сказал мне напоследок: «Дорогой Титта, я не разделяю твоей философии...» После этой ночи я нашел другое помещение и перешел в скромный крестьянский домик. Со мной вместе поселился приятель, с которым я не виделся много лет, Адольфо Пинески, большой чудак, но умница, добрый и честный. Граф Бони последовал за мной в новое помещение, и к нам присоединилось еще двое сотрудников «Джорнале д'Италия» – Баццани и Сгабеллони, культурные симпатичные люди. Однажды утром у нас появилось много офицеров 35-го артиллерийского полка, стоявшего в Терни. Они прискакали верхом, чтобы сделать смотр частям, расквартированным в горах, и перед ними был выстроен весь полк. Неожиданно я услышал, что меня громко вызывают по имени. Я приблизился к офицерам и узнал в одном из своих начальников Винченцо Танлонго, человека остроумного, очень доброго и честного. Я познакомился с ним в Бостоне – вот уж правда, что гора с горой не сходится, а человек с человеком свидится, – где он, обладая красивым тенором, начинал свою карьеру певца. Сейчас он был просто великолепен в своей офицерской форме при исполнении служебных обязанностей. Оказавшись отличным военным, которого уважали и любили решительно все – от полковника до солдата, он через несколько дней добился моего перевода к нему в полк, где я находился под его непосредственным покровительственным начальством. Многие из моих товарищей по оружию были посланы строить траншеи в горах Эоло, а я в качестве пулеметчика в так называемом Полку Королевы был прикомандирован к противовоздушной защите аэродрома в Терни. Благодаря Танлонго я пользовался некоторыми привилегиями, так, например, мог не ночевать в казарме. Он поспешил уверить меня, что разрешая это, не делает ничего противозаконного, так как, по его мнению, я заслужил право на внимание. Недавно женатый, Танлонго приглашал меня иногда к себе домой, где мы музицировали, с тоской вспоминая о театре. Наше общество разделял, аккомпанируя нам на фортепиано, Анджело Каччиалупи, римлянин, назначенный в чине ефрейтора в тот же полк. В долгие зимние месяцы, проведенные мною в Терни, мы с Каччиалупи были неразлучны. Отличный пианист и музыкант, культурный человек, остроумный собеседник и веселый товарищ, он своими шутками и остроумными репликами умел создавать хорошее настроение в любой среде и развлечь и развеселить даже тех, кто к этому совсем не расположен.
Но не надо думать, что моя жизнь на военной службе была военной только по названию. Хотя я принадлежал к крайнему призывному возрасту, мое поступление на военную службу как бы перенесло меня обратно к моим двадцати годам. Я был полон, чтобы не сказать одержим смелостью, отвагой, дерзостью; ни одна работа не казалась мне недостойной внимания, никакой риск меня не страшил. Бывали дни, когда я, выполняя приказ командования, часами ездил верхом по горам и проявлял такие выносливость и отвагу, которые, как мне кажется, намного превышали те, что мне приходилось затрачивать в качестве вокалиста, когда я работал над преодолением трудностей какой-нибудь музыкальной партии. Я стал хорошим шофером и несколько раз водил тяжелые автокары, груженные боеприпасами, из Терни в Фолиньо. Не раз пришлось мне на мотоцикле сопровождать начальство, ездившее инспектировать разные воинские части. Взлетал я и с аэродрома с лейтенантом Деболини, тосканцем, отличнейшим летчиком, впоследствии тяжело раненным на фронте. Я даже сопровождал в высоту небес знаменитого аса Саломоне, который для собственного удовольствия производил различные фигуры высшего пилотажа, более рискованные и смелые, чем та вокальная эквилибристика, которой я в «Цирюльнике» и «Гамлете» столько раз ошеломлял толпы слушателей на сценах всего мира. Условия войны рассеяли наш кружок. Я не помню, куда были направлены другие, не помню даже, куда был назначен милейший Каччиалупи. Что же касается Винченцо Танлонго, то он был направлен на передовые, где героически сражался до самого конца войны.
С его отъездом я сразу лишился своих привилегий, и в чине старшего ефрейтора был назначен командиром подразделения зенитных пулеметчиков, защищавшего завод и доменные печи, где кипела лихорадочная работа по производству необходимого для защиты родины. С зенитными пулеметами, направленными в небо, я все время пребывал в ожидании вражеских самолетов, жаждая случая совершить нечто доблестное или хотя бы полезное. Но за все время, что я командовал пулеметным подразделением, ни один вражеский самолет не прорвался к доменным печам. Я спал вместе с шестью людьми в заброшенной пастушьей хижине высоко на горе Кампомиччиоло и спускаться в город мне удавалось очень редко. В этом, волею судеб выпавшем мне на долю, вынужденном бездействии зенитного пулеметчика, -другой на моем месте, вероятно, заболел бы от скуки или, во всяком случае, сильно затосковал. Со мной этого не случилось. Среди моих пулеметчиков я чувствовал себя тоже молодым парнем, особенно общаясь с теми – а их было порядочно – которые были моложе меня лет на двадцать. Мне нравилось не отделяться от них с угрюмой педантичностью человека, опасающегося потерять свой авторитет, а наоборот, мне хотелось быть с ними как можно ближе и жить их жизнью. Мы вставали на рассвете, проверяли готовность наших пулеметов, а затем, раздевшись до пояса, бежали мыться на речку в любую погоду, как я делал это когда-то в Веллетри вместе с моим товарищем по работе над разборкой огромных котлов, Пиладе Беллаталла. Иногда – и довольно часто – меня страшно тянуло петь, и тогда мой голос, как колокол, несся через горы, а пение петухов во всех уголках зеленой Умбрии отвечало мне, как эхо.
Но, чтобы быть до конца правдивым, должен сказать, что на меня от времени до времени нападала непреодолимая тоска по театру. И вдруг совершенно неожиданно меня через военное министерство официально вызывает театр парижской Оперы для выступления в спектакле в пользу французского Красного Креста! Это была радость. И вот я из пулеметчика превращаюсь на несколько часов в принца датского. После представления «Гамлета» я вышел на сцену и спел патриотические гимны как по-французски, так и по-итальянски. Театр был до отказа переполнен публикой. Раздавались мощные взрывы аплодисментов и громкие возгласы: «Vive la France! Vive l'ltalie!* Я необыкновенно воодушевился и, хотя не совершил ни одного героического поступка, искренне гордился тем, что я итальянец и что я принес в другую страну свой вклад добра и пользы. Когда после патриотических гимнов публика немного успокоилась, меня попросили спеть какие-нибудь песни. На сцену было выдвинуто фортепиано, и я спел две песни Марио Коста. Выдающийся автор «Истории Пьеро» был в театре. Я обнаружил его в кресле первого ряда, но он никак не ожидал от меня подобного сюрприза. Кончив его романсы под восторженные возгласы и аплодисменты, я указал на него публике и сказал следующее: «Respectable public, ces applaudissements ne m'appar-tiennent pas, mais appartiennent a Mario Costa, qui a cree les belles melodies que vous venez d'entendre!** Публика устроила Коста такую овацию, которая по-видимому, очень растрогала чуткую душу дорогого маэстро. Поднявшись ко мне в уборную, чтобы поблагодарить за радость, которую я ему доставил, он сказал, что плачет от счастья, видя свое имя соединенным с моим в этом празднике франко-итальянского искусства.
* «Да здравствует Франция! Да здравствует Италия!» (франц.).
** «Почтенная публика, эти аплодисменты принадлежат не мне, а Марио Коста, создавшему те прекрасные мелодии, которые вы сейчас прослушали» (франц.).
Через два дня я выступил в благотворительном спектакле в театре Комической Оперы в «Паяцах» Леонкавалло. Оба спектакля принесли доход в двести семьдесят тысяч лир. А на следующий день я выехал обратно в Кампомиччиоло, где мои пулеметчики ждали меня с величайшим нетерпением.
На этот раз я в Кампомиччиоло оставался недолго, так как вскоре заболел и был отправлен в военный госпиталь, где пролежал целую неделю. Врачи нашли, что мне необходимо переменить климат, и меня перевели в команду противовоздушной обороны во Флоренцию. Мой отъезд – к чему скрывать – оказался невозместимой утратой для моих товарищей по оружию. За эти долгие месяцы они привыкли к питанию совсем иному, чем обычный военный паек. Каждые две недели я выписывал в нашу пастушью хижину ящики макарон, славное вино из Гроттафераты, сыр пармезан из Рима; таким образом, они два раза в день получали в виде пайка гору макарон и по стакану вина, не разбавленного водой. Прежде чем уехать петь во Францию, я распорядился, чтобы они в мое отсутствие продолжали пользоваться этим пайком. Благодарность этих шести юношей была так велика, что, когда меня назначили во Флоренцию, они, прощаясь со мной, плакали так, точно теряли любимого брата. Между прочим я таким образом, а также средствами более эффективными, а именно денежными, пытался поддерживать душевное равновесие многих отцов семейств, моих ровесников и товарищей по оружию, семьи которых остались дома по большей части без средств к существованию. И я поступал так везде, куда бы меня ни забрасывали обстоятельства, будь то в казармах Фердинанда Савойского в Риме, будь то в Чези в 207-м пехотном, будь то в частях 33-го артиллерийского полка в Терни. Само собой разумеется, что обязанность, которую, я взял на себя, требовала огромных затрат. И мне приходилось так часто обращаться домой с требованием все новых и новых денежных переводов, что жена моя заволновалась: она вообразила, что все эти тысячи и тысячи лир просаживаются мной в карты! Во Флоренции ...
Но я не могу расстаться с моими военными воспоминаниями, прежде чем не расскажу еще об одном случае.
Однажды утром, еще в то время, когда я был прикомандирован к 33-му артиллерийскому полку и стоял на противовоздушной защите доменных печей, меня вызвал Винченцо Танлонго и спросил, не приму ли я поручение сопровождать в Болонью дезертира, некоего Паскуале Де Каролис, находящегося в военной тюрьме в Терни. При этом Танлонго подчеркнул, что в случае, если я соглашусь, то возьму на себя большую ответственность. Дезертир – субъект очень опасный, и осторожность требует заковать его в наручники. Я принял поручение, уверенный, что умелым обращением мне удастся укротить этого «опасного человека» и доставить его на место назначения, не прибегая к необходимости надеть ему наручники. Получив проездное удостоверение,– само собой разумеется, в третьем классе – я отправился предупредить дезертира и заодно познакомиться с ним. Войдя в тюремную камеру, я крикнул громким голосом: «Паскуале Де Каролис!» Вместо того, чтобы ответить сразу, как полагалось по уставу: «Есть!»—он некоторое время помолчал, а затем с величайшим равнодушием и даже небрежно откликнулся на неаполитанском диалекте: «Это я». И я увидел молодого человека лет двадцати пяти, среднего роста, с несколько отросшей бородкой и всклокоченными густыми волосами. Черные, как угли, глаза его со значительно расширенными зрачками, странно подчеркивавшими белизну глазного яблока, казались глазами безумного. Но его неряшливая, грязная одежда в сочетании с всклокоченной копной волос наводили на мысль о жизни в лесной чаще.
Я предупредил, что должен отвезти его в Болонью в тюрьму его полка и что мы выйдем через час. Он сначала пристально и дерзко разглядывал меня с головы до ног, останавливая взор на знаках различия моего незначительного чина, а затем очень нагло воскликнул: «Ну, ефрейтор! Такой ты добрый, что отвезешь меня в Болонью! Ну, и такой храбрый?» Я не растерялся ни от его вызывающего вида, ни от его тона и ответил ему очень просто: «Там будет видно». И пошел собираться в дорогу. Через час я был у дверей тюрьмы в полной походной форме, с саблей на левом боку, заряженным револьвером за поясом, в зимней серо-зеленой шинели, доходившей ниже колен, и с ремешком фуражки, спущенным под подбородок. Тюремное начальство выдало мне пару наручников. Вместо того чтобы надеть их на руки заключенного – это было мне противно – я спрятал их в карман. Не скрою, что этот пропащий человек внушал мне некоторую тревогу. Но я постарался скрыть ее и, взяв его под руку, направился вместе с ним на станцию. По дороге я сделал ему выговор за то, что он с самого начала был со мною груб, и предупредил, что в случае, если у него появится желание сбежать, в моем распоряжении имеются шесть способов – и я показал ему шестизарядный револьвер – в корне пресечь у него эту затею. Но тут же прибавил, что не чувствую к нему никакой вражды, и если он будет вести себя, как ему подобает, я буду обращаться с ним как с братом, а вовсе не как с арестованным. И чтобы убедить его: «Вот, смотри, – сказал я, вытаскивая из кармана наручники, – я мог уже давно надеть тебе эти штуки, однако я тебя от них избавил». Он слушал мою речь, опустив голову, и, наконец, в том же нагло-насмешливом тоне воскликнул: «Ну, ефрейтор! Здорово ты говоришь! Уж, наверно, ты адвокат!»
Тем временем мы подошли к вокзалу и сели в поезд на Анкону. В Фальконаре нам предстояло сойти и ждать больше трех часов, пока придет воинский эшелон, который доставит нас в Болонью. Во время всего пути из Терни до Фальконары мне не удалось добиться от де Каролиса ни единого слова. Он казался глухонемым. Возможно, что он обдумывал какой-то план бегства. В Фальконару мы прибыли поздно вечером и сразу пошли в станционный ресторан. Я вызвал повара и обещал ему хорошие чаевые, если он приготовит первокласный ужин на двоих. «Мой товарищ, – сообщил я повару шепотом, – военный дезертир, который, быть может, будет приговорен к расстрелу, и я хочу угостить его как можно лучше». Примерно через час ужин был готов. На первое нам подали большое блюдо лапши, обильно посыпанной пармезаном и с превкусным соусом. Я решил сам обслужить моего арестованного и наложил ему большую порцию кушанья. Он набросился на еду как голодный волк и не удовлетворился одной глубокой тарелкой. В виде второго блюда на стол была подана жареная курица с картофелем и белым римским салатом. Затем последовали сыр и фрукты и, как завершение ужина, кофе с соответствующим коньяком марки «Три звездочки». Ужин оказался для моего приятеля поистине лукулловским. Кроме того, вся эта еда была обильно орошена поданным по моему заказу игристым вином, которое я сам, собственноручно, подливал как можно чаще в стакан несчастного. Теперь настроение и выражение лица моего глухонемого изменились до неузнаваемости. Но он по-прежнему оставался, если не глухим, то немым. Я спросил, доволен ли он и хорошо ли поел. Он не ответил ни на первый вопрос, ни на второй. Только тогда, когда я спросил, курит ли он, и спросил я это с таким видом, точно сейчас предложу ему табак, только тогда, еле заметно улыбнувшись, он выдавил из себя некое «да», в какой-то степени благосклонное. Я тотчас купил сигар и отдал ему. Выкурив одну, он сразу заснул, упершись локтями о стол. До прихода поезда оставалось еще два часа. Я помог ему улечься на диване в зале ожидания и сел рядом с ним. Незадолго до прихода поезда я его разбудил. Он сразу вскочил. Выглядел он теперь другим человеком. Поблагодарив меня за ужин, он сказал, что никогда в жизни так вкусно не ел, и прибавил, что с тех пор, как он в армии, последние часы были для него самыми спокойными и счастливыми. Затем он обещал, что теперь не наделает и не наговорит мне неприятностей, а будет послушно следовать за мной с желанием, чтобы это путешествие продолжалось бесконечно. Тогда я заговорил с ним как можно ласковее. Я объяснил ему, что для меня вовсе не является удовольствием обязанность сопровождать его в тюрьму. Он для меня такой же человек, как и я, и его положение дезертира вызывает во мне жалость, скорее чем презрение. Когда я заплатил по счету с соответствующими чаевыми, благодарный повар угостил нас пуншем с весьма обильной дозой рома. Это было уж последней каплей, переполнившей чашу. Окончательно растроганный, бедняга дезертир не переставал благодарить меня за мою, как он говорил, сердечную доброту. Я оставил его на несколько минут одного, чтобы распорядиться относительно нашей посадки. Вокзал был погружен в темноту. Немногие электрические лампочки были выкрашены в синий цвет, чтобы их не могли различить вражеские самолеты. Арестованный, видя, что я не возвращаюсь – но я ни на минуту не спускал с него глаз – вышел в поисках меня под навес платформы и стал кричать: «Ефрейтор, куда ты делся? Я здесь!» Он искал меня так, точно арестованный был я, а неон. Я подошел к нему и помог ему – он нетвердо стоял на ногах, так как несколько опьянел – подняться в вагон. Несмотря на ужасающий холод, он сразу же снова заснул и проспал почти всю ночь до рассвета, положив голову ко мне на плечо. Мы ехали весь день и на всех больших станциях и незначительных остановках я не забывал хорошенько накормить его. В общем кончилось тем, что, еще не доехав до Болоньи, Паскуале Де Каролис рассказал мне всю свою историю и без утайки раскрыл свою душу.
После двух лет, проведенных в окопах, он получил известие, что тяжело заболела его мать. Тогда он попросил и добился отпуска, чтобы повидаться с ней, и уехал в родную деревню вблизи Помпеи. Бедняжка умерла через два дня, оставив ему, Паскуале, единственному сыну, все свое имущество: лачугу с огородиком и четыре больших свиньи, уже откормленных на убой. Чтобы защитить свое скромное имущество от алчности родственников, он на несколько дней просрочил отпуск и таким образом стал дезертиром. Те же родственники, желая во что бы то ни стало завладеть свиньями, составлявшими самую ценную часть наследства, донесли на него и выдали его карабинерам. Его арестовали и направили в тюрьму в Перуджу. По дороге он бежал, вовсе не для того, чтобы избавиться от исполнения своего долга в качестве солдата, а для того, чтобы отомстить за бесчеловечный и незаконный поступок, совершенный родственниками и воспринятый им как поругание памяти его матери. Снова пойманный и посаженный в тюрьму, он опять сумел бежать. Скрываясь в лесах в течение многих дней, он надеялся спастись от преследований и тем или иным способом добраться до Помпеи, но в горах Умбрии он попался в руки карабинерам и был передан на гауптвахту 33-го полка в Терни. С того дня, как его объявили дезертиром, признался он, и до вчерашнего вечера он ни разу не видел к себе человеческого отношения. И он горько заплакал. Постепенно, по мере того как развертывался его рассказ, я видел, как из-под наглой маски дезертира, так злобно отвечавшего мне сначала, вырисовывается честное лицо крестьянина с юга, пусть вулканически вспыльчивого, но по существу хорошего, доведенного до отчаяния несчастным стечением обстоятельств и отравленного коварством и равнодушием людей. Стараясь его успокоить и отвлечь от мысли о том зле, которое причинили ему родственники, я посоветовал ему, как только мы приедем в Болонью, послать письмо военному командованию. В этом письме, которое я сам для него сочиню, он должен точно изложить всю свою историю. Объяснив, что именно явилось причиной его невольного дезертирства, пусть он попросит во имя собственной солдатской чести, чтобы его снова направили на фронт, ибо он может по совести заявить, что не заслужил позорного" клейма дезертира. Он согласился со мной и, когда я написал письмо, подписал его не только безропотно, но даже с энтузиазмом.
Мы прибыли в Болонью в четыре часа утра. Я препроводил его согласно приказу в тюремное здание 35-го артиллерийского полка. Я не мог оставить его таким беззащитным, нагим и нищим. И так как приближался праздник рождества, я передал ему в виде подарка некоторую сумму денег, чтобы он выпил стакан вина за наше здоровье, не трогая, однако, основной части суммы и тратя ее только в случае крайней необходимости. Наконец я обещал, что напишу ему и издали прослежу за его судьбой. Не помню, чтобы когда-нибудь в жизни я встретил более чуткую и благородную душу, чем Паскуале Де Каролис. Он был готов броситься за меня в огонь. Когда наступил момент расставания, он закинул мне руки за шею, плача как ребенок, и сквозь слезы на прощание сказал: «Ефрейтор, брат мой, да благословит тебя бог за то, что ты для меня сделал, и прости меня за то, что я так сердил тебя, когда мы встретились!»