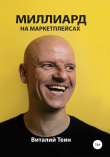Текст книги "Парабола моей жизни"
Автор книги: Титта Руффо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Глава 11. ИЗ КАТАНИИ В САЛЕРНО
Путешествие по морю. Морская болезнь. Как мы приплыли в Неаполь и все остальное. Приезд в Салерно. Знакомство с бандитами. Хозяин гостиницы. Поведение друзей-бандитов. Рискованная шутка. Последний спектакль. Предполагаемый банкет. Побег из гостиницы
Переправляясь морем из Катании в Неаполь, я впервые испытал страдания от ужасной, можно даже сказать ужасающей, морской болезни. Выйдя из порта Катании при заходе солнца в чудесную погоду, я думал, что повторится то очаровательное путешествие, которое я совершил несколько месяцев тому назад через Мессинский пролив, когда море было так спокойно и гладко, что водная поверхность казалась политой маслом. На этот раз ничего подобного не было. Часа через два после того, как маленькое торговое суденышко покинуло берега Катании, на него налетела вдруг страшнейшая буря, и водная стихия неукротимо разбушевалась. Лежавший на открытой палубе уголь, очень сухой и измельченный, разносился шквальными порывами ветра и засыпал весь пароходик неописуемой черной пылью, проникавшей в глаза, в уши, во все поры. Спасения от нее не было нигде, и очень скоро мы все были сплошь покрыты черной сажей хуже любых трубочистов. Так как возникла опасность, что волны снесут в море тех двенадцать быков, которые были погружены на пароход, их толстыми веревками привязали на палубе и всю ночь несчастные животные жалобно мычали. Казалось, что они, как люди, жалуются на тех, которые разлучили их с мирными хлевами и роскошными сиракузскими пастбищами. Меня качало и бросало из стороны в сторону в адской темноте, при происходившем светопреставлении, где мычание животных действовало не менее гнетуще, чем вой ветра и шум страшных морских валов. Всю ночь я не сомкнул глаз и дошел до состояния полного отупения. К тому же, испытывая невыносимые страдания от морской болезни, я тоже, увы! стонал, и стоны мои, хотя и менее громкие, были по существу родственны мычанию несчастных быков.
Когда на рассвете возник вдали Неаполь, я почувствовал, что возвращаюсь к жизни. Ветер стих, и установился штиль. Солнце стало постепенно освещать острова волшебной красоты, поднимаясь в легкой дымке над островом Капри с его неповторимыми переливами красок – зеленой, голубой, сиреневой. Едва ступив на твердую землю с моим чемоданом, почерневшим от сажи, со шпагой Валентина, привязанной к чемодану наискось, я прежде всего подумал о том, чтобы найти портового цирюльника, который избавит меня от плотного слоя грязи, насевшей на меня во время путешествия. Не знаю, что было чернее – настроение мое или налипшая на мне угольная пыль. Цирюльник встретил меня громким взрывом хохота, и я был готов броситься на него с кулаками. Но только я собрался по заслугам отругать его, как, приблизившись к зеркалу, сразу успокоился. Невозможно было придумать более смехотворную, более нелепую внешность. Я выглядел чернее тех негритят, которые танцуют перед дочерью фараона Амнерис в «Аиде» Верди. Столь же осторожный, сколь и язвительный, брадобрей пожелал узнать сначала, сколько я собираюсь заплатить ему за приведение меня в порядок и захотел прежде всего договориться о цене. Он решительно претендовал на сумму не меньше трех лир, и мне не оставалось ничего другого, как только покорно склонить голову.
Разве я мог рисковать тем, что надо мной будет потешаться весь Неаполь? А миновать Неаполь я никак не мог. Когда я снова обрел свой естественный вид, то почувствовал себя вдруг точно освобожденным от владевшего мной кошмара. На радостях я стал напевать неаполитанскую песенку под названием «Малавита». Цирюльник, прополаскивавший раковину и увидевший, что она превратилась в клоаку, был готов растерзать меня. Однако, услышав мое пение, он, точно по волшебству, успокоился. Тем не менее, несмотря на мое певческое приложение, он заставил меня раскошелиться еще на одну лиру, когда я, желая окончательно привести себя в приличный вид, попросил у него чистое полотенце.
После этого я отправился на вокзал и сел в поезд, уходивший в Салерно. Приехав туда, я оставил чемодан в камере хранения и побежал в театр Комунале, чтобы повидаться с импресарио. Его на месте не оказалось. И тут ко мне подошли трое неизвестных – три молодых человека в возрасте от двадцати до тридцати. Весьма и даже, пожалуй, слишком церемонные, одетые с подчеркнутой, но спорной элегантностью, они спросили, являюсь ли я новым баритоном, приехавшим из Катании. Когда я ответил утвердительно, они посоветовали и убедили меня остановиться в гостинице против театра на берегу моря. Без приглашения с моей стороны они сами проводили меня туда, отрекомендовали хозяину и один из них отправился бы на вокзал за моим чемоданом, если бы хозяин не сказал, что на это у него имеется персонал.
Через некоторое время хозяин гостиницы собственной персоной поднялся ко мне в комнату и посоветовал не слишком близко сходиться с этими господами, которые являются не кем иным, как бандитами, членами неаполитанской и салернской каморры, хорошо известными полиции. Но в то же время он рекомендовал мне ни в коем случае не восстанавливать их против себя, так как у них в руках театральная клака, и они хвастаются тем, что два года назад из злобного озорства освистали при его дебюте ни более ни менее, как самого Карузо.
Этот факт произвел на меня сильнейшее впечатление и заставил насторожиться. Я решил точно придерживаться советов хозяина гостиницы, но внести в дело некоторую долю и собственной инициативы. Мне, действительно, удалось разыгрывать бандитов в течение всего сезона. Таинственными намеками я дал им понять, что сам, прежде чем стать певцом, был некоторое время связан с уголовным миром Ливорно.
Эта шутка принесла мне, быть может, больше вреда, нежели пользы, была рискованной и могла оказаться чреватой весьма неприятными последствиями. В самом деле, после моего дебюта друзья-бандиты, считая меня за своего, не отходили от меня ни на шаг. Они вечно путались у меня под ногами, так что я их возненавидел и не мог дождаться дня, когда смогу уехать из города. Собираясь вместе – их было человек пятьдесят – они рассаживались по всему театру от галерки до партера и после каждого моего выступления начиналось нечто невообразимое. С адским шумом устраивая мне овации, они в простоте сердечной воображали, что таким образом оказывают больше чести товарищу, сумевшему в столь молодые годы достичь известности. В уборную ко мне они врывались как хозяева и где-то в глубине души были не прочь считать себя виновниками моего успеха. Я давал выход своему раздражению в разговорах с хозяином гостиницы.
Всегда любезный и внимательный, он старался по возможности охранять меня, оставаясь при этом в тени, так как сам опасался членов каморры, зная, что они способны на любое злодеяние. На последнем моем выступлении – шла опера «Риголетто» – бандиты все до одного были в театре и все в праздничной одежде.
По случаю последнего спектакля и закрытия сезона они задумали устроить в мою честь банкет в пользовавшейся дурной славой таверне на самом берегу моря, далеко от центра города, банкет, на котором должны были присутствовать и их женщины, особы самого предосудительного поведения. Квестуре было уже известно об этом предполагаемом собрании. Должен сказать, что хозяин гостиницы спас меня от большой беды, предварительно взяв для меня железнодорожный билет на первый поезд, уходивший после спектакля.
Кроме того, хитро придуманным обманом и при участии полицейских агентов, он убедил трех неразлучных друзей, что я в обществе кого-то из их компании уже отправился в таверну, и что он сам видел меня уходившим за несколько минут до того, как они пришли за мной. А я тем временем успел бежать из гостиницы, выйдя на улицу через черный ход ресторана. Признаюсь, я был не прочь присутствовать невидимкой на банкете бандитов в далекой таверне на берегу моря, в обществе их женщин. И особенно хотелось мне услышать те тосты, которые они, несомненно, не преминули произносить при каждой перемене блюда в честь предполагаемого товарища по работе, завоевавшего в молодые годы громкую известность на театральной сцене.
Глава 12. В ГЕНУЕ И ФЕРРАРЕ
Пребывание в Генуе. Хозяин пансиона делает мне скидку. Дебютирую в «Травиате». Пьер Джулио Брески. Возвращение в Милан. Встреча с братом Этторе. Договор с Феррарой. История одного пальто, и многое другое. Отказываюсь петь, увидя, что на афише назван «знаменитым»
После Салерно я вернулся в Милан, откуда уезжал много раз на гастроли, выступая в разных театрах Италии: в Брунетти в Болонье, в Гарибальди в Падуе, в Реджио в Парме, в Този Борги в Ферраре и в театре Карло Феличе в Генуе. Здесь я получил самое большое вознаграждение, а именно – девятьсот лир за выступления в течение двух месяцев. Я был законтрактован агентом Дзопполато, но, как ни старался, не смог выцарапать у него круглую сумму в тысячу лир! Дебютировал я в «Травиате», а затем пел в «Риголетто». Дзопполато рекомендовал меня в хороший генуэзский пансион, где обычно останавливались артисты. Он сам предупредил хозяина, который был ему приятелем, о моем приезде, так что тот пришел встречать меня на вокзал. Однако прежде чем последовать за ним, я предусмотрительно спросил его о ценах в пансионе. Он ответил, что для меня будет сделана скидка, и он удовлетворится всего лишь пятнадцатью лирами в день. Я тотчас же опустил свои чемоданы на землю. Как мог я позволить себе подобную роскошь при моем нищенском контракте? Он удивился. В Генуе, сказал он, нигде не устроиться дешевле, даже в самом скверном пансионе. Я показал ему контракт. Он был изумлен и спросил меня, каким же образом я думаю свести концы с концами. Тогда я рассказал ему, как жил недавно, договорившись с рыбаками в Ачиреале. Он очень обиделся сравнению Ачиреале с Генуей. Я стал уверять его, что мне наверно удастся найти в порту какую-нибудь харчевню, где я за несколько лир смогу есть вкусные супы и превосходную рыбу. Весьма недовольный, он тотчас же со мной распрощался. Однако, отойдя на несколько шагов, вдруг повернул обратно и спросил, сколько же я окончательно ассигную на два месяца жизни в Генуе? Все расчеты были у меня уже сделаны заранее, и я ответил, что желая дотянуть до конца сезона ничем и ни у кого не одалживаясь, считаю, что десять лир – максимальная сумма, которую могу позволить себе тратить в день. Не знаю почему, может быть просто из жалости ко мне, добрый генуэзец вдруг решился за эти десять лир принять меня в свой пансион. Он прибавил, что жена его уже приготовила мне комнату и назначила место за столом, но просил меня никогда и никому не проговориться о том, как он пошел мне навстречу. Должен сказать, что я провел этот сезон в симпатичнейшей среде и за мной ухаживали лучше, чем за другими постояльцами, платившими за пансион значительно дороже, чем я.
Я дебютировал в Карло Феличе в «Травиате» при переполненном театре. Спектакль шел при участии уже прославленных артистов. Роль Виолетты исполняла Анджелика Пандольфини, артистка исключительно одаренная и достигшая подлинного величия в сцене смерти. Роль Альфреда исполнял тенор Эльвино Вентура, производивший в то время фурор в опере «Ирис» Масканьи. Мой успех в «Травиате» показал, что я достоин моих выдающихся партнеров. Я каждый раз был вынужден бисировать знаменитый романс «Ты забыл Прованс родной». Этот успех привел к тому, что руководство театра решило поставить «Риголетто» и доверить мне партию главного действующего лица. И в этой опере снова повторился, если еще не усилился, тот успех, благодаря которому я завоевал видное положение среди молодых баритонов.
После первых представлений я познакомился в Генуе с Пьер-Джулио Брески, тогдашним редактором газеты «XIX век», писавшим обо мне и моем исполнении в выражениях очень лестных. Он восторженно высказывался обо мне и после «Риголетто», предсказывая мне самую блестящую карьеру. Мы стали друзьями. Я встретил его снова через много лет в Риме директором «Месаджеро». Наши взаимоотношения укрепились. Он стал постоянно бывать у меня в доме и был принят в моей семье как самый дорогой гость.
В конце марта 1900 года я вернулся в Милан. Ограниченные заработки не дали мне возможности сделать значительные сбережения. В моем бумажнике лежали последние сто лир, и это было все мое богатство. В Милане меня ждала радость; я смог снова обнять брата, отслужившего свое время в армии. Он провел со мной два дня, после чего двинулся в Рим. Я проводил его на вокзал и отдал ему половину остававшихся у меня денег. На другой день я прогуливался по пресловутой Галерее в ожидании какого-нибудь договора. И тут ко мне подошел один из тех жалких посредников, которыми в то время кишела Галерея, и спросил, расположен ли я выступить в «Эрнани» в театре Този Борги в Ферраре.
Накануне вечером публика освистала в этой опере всю труппу, и теперь спешно приискивают новых исполнителей, чтобы заменить освистанных. Я тотчас же согласился, и в агентстве Дзапперт был заключен договор, по которому я обязывался выступить шесть раз за вознаграждение в шестьсот лир. Было оговорено также, что по прибытии на место я получу аванс в сто пятьдесят лир. Я радовался так, как будто подписанный мной контракт был необыкновенно значителен. Тем временем мне в портняжной мастерской Феррари сшили красивое демисезонное пальто, которое я должен был выплачивать в рассрочку, внося деньги каждый месяц. Когда я пошел взять его, то сообщил портному о только что подписанном контракте и обещал, что по возвращении из Феррары сразу выплачу ему всю причитающуюся с меня сумму. Портной поверил мне на слово и выдал пальто, даже не потребовав хотя бы первого взноса. Я вышел из мастерской не помня себя от радости, одетый в красивое новое пальто из английской материи светло-зеленого цвета. И на другой день я покатил в Феррару, только потому не в вагоне четвертого класса, что на итальянских железных дорогах четвертого класса тогда не было, так же, между прочим, как нет его и теперь. Я снял пальто, очень аккуратно сложил его и положил рядом с чемоданом. Пальто это являлось самой ценной вещью в моем гардеробе. И вдруг... Вдруг случилось так, что по какому-то несчастному случаю, по какой-то непонятной аберрации памяти я забыл его в поезде. Хватился его едва только вышел из вокзала и, конечно, тотчас бросился обратно, но поезд уже ушел. Я со слезами на глазах обратился к начальнику станции и умолял его предпринять поиски этого моего единственного нового пальто. Начальник станции сделал все от него зависящее, но пальто так и не нашлось. Я истолковал эту потерю как дурное предзнаменование и направился к театру с тяжелым предчувствием, сжимавшим мне сердце. И сердце меня не обмануло. В дверях театра я встретил дирижера оркестра, у которого на лице можно было прочесть выражение отчаяния. Он спросил, я ли Титта Руффо? Мы пожали друг другу руки, и он вышел со мной на улицу. Я узнал от него, что импресарио бежал, оставив труппу буквально на улице, и что сам он настолько без средств, что не знает, каким способом вернуться в Милан. При этом известии кровь застыла у меня в жилах. К довершению всего пошел проливной дождь и нам пришлось искать спасения от него в маленьком кафе. И, конечно, к нам подошел официант и спросил, что мы будем пить, и я был вынужден заказать две чашки кофе с молоком. В кармане у меня осталось всего десять лир. Между тем, в то время как я со слезами в голосе рассказывал маэстро о моих злоключениях, двое приятных молодых людей интеллигентного вида, прислушивавшихся к нашему разговору сидя за соседним столиком, подошли к нам и представились, назвав себя братьями Маньяги, жителями Феррары. Они с отменной любезностью выразили сожаление по поводу случившегося в их родном городе и пригласили нас к себе ужинать. Мне казалось, что принять их приглашение было бы величайшей бестактностью, но дирижер оркестра, человек бывалый, опытный в житейских делах и к тому же неаполитанец, всячески уговаривал меня согласиться. Когда ему удалось сломить мое сопротивление, мы оба последовали за молодыми людьми, которые привели нас к себе в дом, представили родителям, познакомили с семьей и угостили нас вкуснейшим ужином с таким вином, от которого воскресли бы мертвые. После ужина мы перешли в гостиную, где для музицирования стоял великолепный большой рояль. Дирижер оркестра, мотивируя свою просьбу тем, что он не будет иметь удовольствия услышать меня в театре, предложил мне исполнить что-нибудь из «Эрнани». К его просьбе присоединилась и семья Маньяги, любители пения и театралы. Я в глубине души очень обрадовался возможности хоть каким-нибудь способом отблагодарить их за любезное гостеприимство. В конце речитатива третьего действия один из братьев открыл окна, выходившие на улицу. После романса «О юных дней моих обманчивые сны» и арии «О Карл великий» огромная толпа, собравшаяся перед домом, стала неистово аплодировать. Я спел еще романс Ротоли «Мое знамя» под несмолкаемые возгласы одобрения. В результате этого выступления Маньяги-отец и дирижер оркестра стали вместе что-то обсуждать и о чем-то вполголоса совещаться. И вот в ближайшие дни труппа в составе оркестра, хора и солистов была восстановлена настолько, что еще через два дня был объявлен мой дебют в новой антрепризе, возглавляемой импресарио Маньяги.
Но утром в день представления я увидел свое имя, напечатанное на афише со следующим комментарием рекламного характера: «Сегодня вечером «Эрнани». Партия Карла V будет исполнена знаменитым баритоном Титта Руффо, приехавшим к нам после триумфов в Карло Феличе в Генуе». Этот вид рекламы вывел меня из себя. Я побежал к Маньяги и предложил ему тотчас уничтожить все афиши. Глубоко взволнованный, я доказывал ему, что я всего лишь молодой певец, хотя и удачно, но совсем недавно вступивший на ответственный и нелегкий путь артиста. Обманывать доверие публики я не собираюсь и ни в коем случае не стану петь под названием «знаменитый». Директор феррарской газеты, присутствовавший при нашей беседе, также посоветовал Маньяги перенести спектакль на другой день; он же тем временем объяснит публике причину переноса, что, несомненно, выставит меня в отличном свете перед общественным мнением. Так и было сделано.
На другой день в газете появилась великолепная статья, восхвалявшая меня как разумного человека, честного, добросовестного артиста. Популярность моя еще возросла. Это заставило меня особенно волноваться. В день спектакля я вошел в артистическую уборную в весьма нервном состоянии. Театр был переполнен. К счастью, успех мой превзошел все ожидания. Я выступил восемь раз в «Эрнани», вызывая все больший и больший энтузиазм. Наконец Маньяги предложил бенефис, во время которого преподнес мне большой лавровый венок. Сверх того он подарил мне тысячу лир и новое пальто, в котором я и уехал, не слишком горько оплакивая то, которое я потерял по дороге в Феррару. Вернулся я в Милан с таким чувством, точно я сам Юлий Цезарь. И, разумеется, первой моей заботой было рассчитаться с портняжной мастерской Феррари за светло-зеленое пальто, столь нелепо утерянное мной в поезде.
Глава 13. ОТ ГЕНУИ ДО САНТЬЯГО
Радость всех Казини и Меннини. Паоло Вульман – мой покровитель. Знакомлюсь с «темноволосой синьорой». Дон Джоан и Миртеа. Выговор дона Джоана и мой ответ. Остановка в Вальпараисо. Остановка в Сантьяго. Упрямство и угрозы. Полная победа. Нездоровье Венедетты. Осмеливаюсь написать ей. Тысяча пятьсот!
Милейший Меннини, хозяин ресторана в Милане и друг артистов, был очень доволен началом моей карьеры. Однажды вечером он познакомил меня с театральным агентом, которого звали Аугусто Конти. Выглядел он лет на пятьдесят пять, был маленького роста, коренастый, с жидкими волосами. Флорентинец, он хвастливо подчеркивал свое тосканское произношение, но в общем произвел на меня впечатление самое благоприятное. Представляя меня, Борода сказал: «Вот тот певец, который был бы тебе необходим». А Конти, прослушав меня, предложил контракт на пять лет при условии, что я буду выплачивать ему пять процентов с каждого договора, заключенного при его посредничестве. Я с легкостью согласился на это.
На следующий день я прогуливался по Галерее. Погода была великолепной. Милан выглядел празднично. В кафе Биффи сидело множество артистов, театральных агентов, дирижеров оркестра. Я занимался тем, что с любопытством разглядывал Пуччини, который прогуливался с Тито Рикорди и Леонкавалло, как вдруг передо мной вырос Борода и сказал, что Конти разыскивает меня повсюду, чтобы познакомить с импресарио, желающим заключить со мной договор на поездку в Чили. И в этот же день Конти представил меня этому импресарио, набиравшему труппу для Латинской Америки. Он – все звали его дон Джоан, но позволяли себе это только за его спиной, и так же буду звать его и я – был настоящим синьором. Он хвастался тем, что первый повез в Америку Патти, заключив с ней договор, по которому должен был выплачивать ей «пустяковый» гонорар в тридцать тысяч лир за каждое выступление, и заключил он этот договор в то время, когда у него не было за душой ни единого сольдо. Этого факта достаточно, чтобы дать представление об уме и ловкости этого человека. Он смерил меня взглядом с головы до ног и спросил, почему я ношу длинные волосы. Удивленный этим, с моей точки зрения, бестактным вопросом, я ответил, что ношу их длинными по необходимости и главным образом из соображений экономии. Мне часто приходилось петь партию Марселя в «Богеме», и длинные волосы избавляли меня от расхода на парик. И тут же я прибавил, что при получаемом мной гонораре нет оснований быть расточительным, но при первом значительном контракте мою шевелюру постигнет та же участь, что и волосы Самсона. Дон Джоан захотел послушать меня в помещении театра Ла Скала и сказал, что если я ему понравлюсь, он заключит со мной договор на поездку в Чили. На прослушивании я спел речитатив и роман из второго действия «Трубадура» и, кроме того, романс из «Бал-маскарада». Дон Джоан, обнаружив, что голос мой чуть ли не превосходит сведения, полученные им обо Мне, пошел вместе со мной и Конти в маленькую комнату гостиницы Ребеккино; там он спросил, устраивает ли меня через два дня выехать в Америку и какую сумму я желал бы получать в месяц.
Момент был для меня решающий. У меня нашлись возражения против срока выезда, так как я желал съездить в Рим попрощаться с матерью. Но дон Джоан сказал, что это исключено, так как труппа должна сесть на пароход в Гавре через три дня: у меня едва хватит времени приготовить все необходимое для предстоящих ролей. Я понял, что относительно этого пункта возражения бесполезны. Делать было нечего. Что касается оплаты, то я попросил три тысячи лир в месяц. Дон Джоан как-то странно переглянулся с Конти и сказал, что это многовато. Мы сошлись, наконец, на двух тысячах семистах лирах при условии, что последние две недели будут выплачены вперед. Так я подписал первый значительный контракт. В тот же вечер дон Джоан и Конти повели меня к театральному поставщику. Выбрали большое количество вещей: панцири, латы, шлемы, пояса, украшения, самую разнообразную обувь, необходимую для «Аиды», «Африканки», «Отелло». Все это было уложено в большую корзину, которую тут же тщательно закрыли и отправили в Париж вместе с остальным театральным реквизитом. В уплату за это множество вещей мне было предложено подписать вексель на три тысячи пятьсот лир с обязательством погашения его по приезде из Америки. Я ни за что не хотел его подписывать, но Конти сказал, что ценность приобретенных мною вещей в два раза больше того, что я за них плачу, что я должен считать удачей приобретение костюмов уже готовых и выполненных точно по заказу на мою фигуру; кроме того, он особенно подчеркивал, что этот гардероб послужит мне в течение всей моей карьеры. Я сдался. Таким образом мной в первый и последний раз в жизни с нескрываемым отвращением был подписан вексель. Мы расстались с доном Джоаном, договорившись, что завтра я буду на вокзале за полчаса до отхода прямого поезда на Париж. Тут же, оставшись с Конти вдвоем, я подписал обязательство уплатить ему за посредничество, даже не ознакомившись со всеми параграфами предложенного мне для подписи документа. Мы поспешили пойти пообедать в ресторан к Бороде. Старушка Тереза сказала мне: «Дорогой шиур Тита, этим контрактом обеспечена ваша будущность. Увидите, вас теперь позовут в Ла Скала. О вас уже и сейчас говорят, как о выдающемся артисте».
Весь этот тревожный канун отъезда прошел в хлопотах и приготовлениях. Я написал письмо маме; купил кое-что необходимое для собственного обмундирования; сбегал попрощаться с супругами Казини. Они, конечно, пришли в восторг от происшедшего, но, узнав сумму предложенного мне гонорара, Казини заверил, что если бы я запросил даже пять тысяч лир в месяц, импресарио был бы вынужден выложить мне и такую сумму. Дон Джоан, как оказалось, законтрактовал Дельфино Менотти, который, подобно Котоньи, Морелю и Кашману, был одним из самых знаменитых баритонов того времени, и договорился с ним о гонораре в девять тысяч лир в месяц, гонораре в то время максимальном для первоклассного баритона; но буквально в последнюю минуту Менотти заболел. Во всяком случае, Казини, сам мечтавший о Чили, сказал, что этот договор, даже в удешевленном виде, является для меня большим шагом вперед. На другой день, распрощавшись с Меннини, я – на этот раз в коляске – поехал на вокзал. Дон Джоан был уже там и с ним вся труппа в полном составе: артисты оркестра, кордебалет, солисты, хористы и хористки, в общей сложности сто шестьдесят человек. В суматохе, среди багажа и всевозможных чемоданов, окруженный людьми, спешившими занять самые удобные места, я растерялся, но постарался взять себя в руки. Среди всех этих новых для меня людей, в большей или меньшей мере взволнованных и суетившихся, мне бросился в глаза красивый высокий человек, чисто выбритый, по типу скорее русский, чем итальянец. Это был первый бас труппы, звали его Паоло Вульман, и он очень энергично хлопотал, наводя порядок и указывая артистам их места в купе. Дон Джоан, представив меня Вульману, поручил ему заботиться обо мне и посадить меня в купе первого класса. Вульман был по отношению ко мне как нельзя более внимательным, но обращался со мной как с маленьким мальчиком. Провожая меня на место, он говорил со мной так, как мог бы говорить опекун с порученным ему на время путешествия ребенком. Когда я, наконец, пришел в купе, носильщик, тащивший мои чемоданы и переходивший за мной из одного вагона в другой, воскликнул: «Ах ты, моя дорогая! Наконец-то! Да чего же вы туда напихали! Свинца, что ли, черт возьми?» Я дал ему хорошие чаевые потому, что чемоданы были на самом деле неимоверно тяжелы: в один из них я даже засунул утюг.
Когда поезд тронулся, я был ни жив ни мертв. Этот стремительный отъезд, необходимость уладить такое количеств дел в столь ограниченное время – написать письма, попрощаться с теми и другими, сбегать туда и сюда, чтобы купить себе необходимое, – все это меня вымотало. Я задремал, Вульман, сидевший рядом со мной, разбудил меня словами: «Баритон, время идти кушать». Но у меня не было никакого аппетита, и я от еды отказался. Сидя один в купе, я принялся считать оставшиеся у меня на руках деньги. После всех расходов, включая сюда то, что я послал домой маме, после отправки телеграмм, в частности – телеграммы отцу, в которой я просил его проявить немного терпения и старался доказать ему, что я по-настоящему вступил на артистический путь, – сумма, показавшаяся мне первоначально громадной, превратилась в сумму самую ничтожную.
Когда ужин кончился, купе наполнилось людьми, рассмотреть которых раньше я не мог, так как пребывал в полусне. Вульман поспешил представить меня. Мы обменялись немногими словами, так как я почти сразу же опять задремал и крепко проспал почти до четырех часов утра.
Была половина июня и стояла невыносимая жара. На рассвете я стал прохаживаться по коридору: чувствовал себя одиноким, подавленным и к тому же разбитым оттого, что проспал столько времени в неудобной позе рядом с Вульманом, храпевшим, как работающий мотор. В то время как постепенно разливался утренний свет, мною овладевали сомнения: правильно ли я поступил и стоило ли отказываться от привычного, чтобы идти навстречу неизвестным испытаниям, среди неизвестных мне людей, будучи сам неизвестным, разлученным с семьей и не имевшим даже возможности обнять маму. Меня охватила глубокая растерянность. Мне хотелось поделиться с кем-нибудь своими сомнениями. Великолепие солнца, поднимавшегося все выше и выше и освещавшего прекрасные французские пейзажи, вместо того чтобы подбодрить меня, переполнило чашу моей огорченной души, и я почувствовал, что горячие слезы заливают мне лицо.
Из Парижа мы сразу же проехали в Гавр. Наш пароход, скромное английское судно под названием «Лореллана» стояло на якоре, готовое к отплытию на следующее утро. Я остановился в маленькой гостинице вблизи порта. Мне попалась грязная комнатенка, где витало зловоние нечистоплотного человечества. В соседних комнатах помещались французские матросы. Они явились ночевать очень поздно, были вдребезги пьяны и продолжали шуметь и галдеть до рассвета. Иные из них засыпали под пение «Марсельезы». Само собой разумеется, что я провел ночь без сна. И в это утро тоже, при восходе солнца слезы потекли по моим щекам.
Когда я, наконец, поднялся на борт, то увидел Вульмана, наблюдавшего за погрузкой театрального имущества. Он повел меня в четырехместную каюту, где помещались он, я, баритон Черетелли, флорентинец, и некий южанин, заместитель дирижера оркестра, фамилию которого я начисто забыл. Когда вся труппа была размещена и всем были указаны места за столиками в столовой, приступили к церемонии официального представления. Я оказался самым младшим среди славного артистического войска. И тут я в первый раз увидел обаятельно-прекрасную темноволосую синьору. Я знал о ней только то, что два года тому назад она пела в Ла Скала, вызвав восхищение и энтузиазм миланской публики. Эта синьора – я скажу об этом дальше – оказала неповторимое влияние на мою личную жизнь и на формирование мое как артиста. Я буду говорить об этом в свое время. А сейчас вернемся к дону Джоану.
Он вез с собой очень странную молодую особу. Странным было и ее имя, так как звали ее Иреос Миртеа. Во всяком случае, она требовала, чтобы ее звали именно так. По виду невероятно хрупкая, с глазами цвета морской волны, волосами светлого золота до того легкими, что они казались неестественными, всегда овеянная – может быть, в честь своего имени – радужно переливавшимися газовыми тканями, она в общем производила впечатление создания, которое вот-вот растает в пространстве. Законтрактована она была лично доном Джоаном и занимала смежную с ним каюту. Дон Джоан, пользуясь своим положением могущественного импресарио, ездил каждый год в Америку в обществе какой-нибудь красивой девушки и каждый год избирал себе другую спутницу. Мне почему-то выпала честь получить место за их столом, где за каждой трапезой специально для Миртеи подавались гренки с икрой, засахаренные фрукты и изысканные ликеры. Благодаря ее любезному вмешательству лакомства и рюмочки ликера перепадали и мне, и если я от них отказывался – а отказывался я, как правило – Миртеа говорила голосом, исходившим, казалось, с небес или зарождавшимся в ее радужно-переливчатых газовых одеяниях: «Берите, прошу вас, у нас ведь большие запасы». И при этом она как-то особенно жеманно выговаривала букву «е». Я почтительно благодарил и совершенно не знал, что отвечать на это. С каждым днем мне становилось все труднее и труднее. Дело в том, что из желания угодить даме сердца импресарио у всех за этим столом выработалась неестественная манера держаться, все натянуто улыбались и старались подражать Миртее даже в манере произношения. Я еле мог дождаться конца любой трапезы, чтобы вернуть своему лицу его естественное выражение и, когда мне наконец удавалось выскочить из столовой, я полной грудью вздыхал с облегчением.