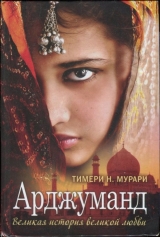
Текст книги "Арджуманд. Великая история великой любви"
Автор книги: Тимери Мурари
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
1054/1644 ГОД
Иса наблюдал, как Шах-Джахан устраивается на платформе. Был день рождения падишаха. Дважды в год, по солнечному и лунному календарю, падишаха взвешивали, насыпая золото в чашу-противовес. Таков был индуистский обычай, тула-дана, перенятый Хумаюном больше ста лет назад. Каждый последующий могольский правитель неотступно следовал традиции. Ныне был лунный день рождения, так что церемония проходила уединенно, в гареме, тогда как солнечную церемонию проводили при большом стечении народа.
Вокруг весов столпились женщины. Рабы аккуратно сыпали в чашу золотые монеты, пока падишах, стоящий на платформе, не начал плавно подниматься над землей. Женщины восторженно завизжали, захлопали в ладоши. Шах-Джахан улыбнулся, начался подсчет. Он весил сто шестьдесят три мана[83]83
73,3 килограмма.
[Закрыть]. Потом монеты унесли, чтобы раздать беднякам.
Церемония лишь ненадолго развлекла властителя. Глаза его вдруг потухли, будто кто-то задул свечу. Он оставил женщин веселиться и слушать музыкантов, а сам торопливо пошел по коридорам гарема. Иса следовал за ним. Они вошли в угловую комнату. Лунный свет проникал сквозь резную решетку, серебрил мрамор. Хаким, стоявший на коленях у ложа, немедленно поднялся. Шах-Джахан жестом велел ему занять прежнее положение.
– Как она? – В постели неподвижно лежала Джаханара.
– Ваше величество, она едва дышит, я делаю что могу. Я обкладываю ее тело прохладными простынями…
Шах-Джахан опустился на колени рядом с ложем. Невыносимо было смотреть на любимую дочь, воспоминание об Арджуманд. Она была поругана… Лицо и тело покрывали чудовищные шрамы, кожа почернела. Двадцать дней назад одежда девушки загорелась от упавшей свечи, две служанки погибли, пытаясь сбить пламя.
– Джаханара, Джаханара… – шептал он. Дочь не отвечала. Ее грудь чуть заметно приподнималась и опускалась. Обгоревшие волосы совсем короткие, кожа на голове обуглена…
– Великое богатство ожидает тебя, если вылечишь ее, – сказал он хакиму.
– Нам остается лишь просить Аллаха, – ответил хаким, молясь про себя, чтобы удалось спасти несчастную, и представляя, какими милостями мог бы осыпать его падишах.
Дара тоже был здесь, глаза его опухли от изнурительного бдения у постели сестры, он молился, раскачиваясь.
Иса стоял, вспоминая, как крики Арджуманд разносились над холмами Декана. Для чего она перенесла эти страдания? Затем, чтобы дочь, ее подобие, лежала здесь бесформенной грудой, мучаясь от боли? Джаханара застонала, вторя давним крикам матери, и Исе вспомнилось улыбчивое, солнечное дитя, любимое почти так же сильно, как Дара. Сострадание душило его, перехватывало горло с каждой новой волной боли, пробегавшей по телу принцессы. Он ничем не мог помочь ей, тело не железное, не каменное, оно так легко ломается…
Из-за дверей донесся шум, Иса выглянул в коридор. Большими шагами – тень на стенах то вздымалась, то опадала – стремительно шел Аурангзеб. Одежда и лицо в пыли, по лицу ручьями стекал пот, видно было, что он валится с ног от изнеможения. Ему пришлось скакать сюда из Декана, более слабому такое путешествие могло стоить жизни, но Аурангзеб держался прямо, словно боль и усталость были ему незнакомы.
– Иса, она жива?
– Очень плоха, ваше высочество…
Вытянув из-за пояса кинжал, Аурангзеб протянул его Исе. Принц вошел, поклонился отцу и, не обращая внимания на Дару, опустился на колени перед ложем сестры. Черные глаза его блестели. В годы бурной юности Джаханара была ему самым близким другом. Сжимая в руке четки, он молился. Он не рыдал, не кричал, молитва его была молчаливой и страстной. Аурангзеб не замечал, как изумленно, словно узрев призрак, смотрит на него Шах-Джахан. Вскоре на смену изумлению пришло подозрение, глаза падишаха недоверчиво сузились. Дара выпрямился, что-то шепнул на ухо отцу. Внезапное появление Аурангзеба встревожило и его.
– Кто позвал тебя? – спросил Шах-Джахан.
Аурангзеб не ответил, он продолжал молиться.
Шах-Джахан ожидал, не прерывая, потом снова спросил:
– Кто позвал тебя?
– Никто. Она моя сестра, и я тревожусь за ее жизнь. Я не мог сидеть там и ждать.
– Ты ехал один?
– Сын падишаха не может путешествовать один.
– Сколько?
– Пять тысяч конников.
Шах-Джахан насмешливо приподнял бровь.
– Так много? Мой сын Аурангзеб боится нападения? Или он собирается напасть сам?
– Ни то, ни другое. – Аурангзеб смотрел на отца без вызова, без раболепия, а спокойно, как на равного. – Под моим началом пятьдесят тысяч. Меня сопровождает жалкая горстка. Кому это может повредить?
– Никому, – холодно ответил Шах-Джахан. – Ты немедленно вернешься на свой пост. Как ты вообще осмелился отставить его без моего позволения? Ты и твои люди уедете сейчас же. Сколько времени заняло путешествие?
– Десять дней и ночей.
– Так долго? – насмешливо спросил Шах-Джахан.
– Коран предписывает нам молиться пять раз в день, и я исполняю это требование.
– Ты вернешься за девять дней и будешь молиться шесть раз. И останешься там до тех пор, пока я, твой повелитель, не разрешу тебе разгуливать по всей стране. Иди.
Аурангзеб сжал губы. Невозможно было понять, что это – гримаса гнева или улыбка. Поклонившись отцу, он бросил долгий взгляд на Джаханару, лицо его смягчилось. Затем он развернулся и вышел из комнаты.
Иса пошел за ним, держа в руках кинжал принца.
– Я распорядился о ванне и трапезе…
– Ты слышал, что сказал отец? – произнес Аурангзеб. – Я не могу задерживаться.
Обернувшись на комнату, он поколебался, словно хотел спросить Ису о чем-то, но промолчал. Но Иса понял вопрос. Ему ли не знать это недоумение на лице: что я сделал? почему он не любит меня?
Аурангзеб стиснул руку Исы и скользнул вниз по коридору. Тень, сгущавшаяся за его спиной, поблекла.
1056/1646 ГОД
Мурти, полный благоговения, нес в храм Дургу, завернутую в мешковину. Фигура богини не была тяжелой, но Мурти часто останавливался передохнуть. Еще не хватало упасть и расколоть мрамор или отбить одну из рук, ведь на работу ушло столько лет его жизни! Но он относился к Дурге так бережно и по другой причине – ведь если причинить вред богине, она может отомстить, а за доброе отношение воздаст тебе добром.
Храм, почти уже законченный, был крохотным. Гопурам[84]84
Храмовая башня.
[Закрыть] касался нижней ветви баньяна, а гарбхагрнха[85]85
Внутренняя часть святилища.
[Закрыть] едва достигала человеческого роста. Солнечный свет окрасил мраморные стены приятным лимонно-желтым светом. Низкая наружная стена из кирпича, возводимая не столько для защиты, сколько для соблюдения традиций, пока оставалась недостроенной.
Мурти ожидали Чиранджи Лал и еще несколько человек. Жрец-брамин проделал долгий путь из Ватанаси, чтобы освятить божество. Здесь же были разложены груды риса, ги, мед и творог, кокосовые орехи, бананы, цветы и благовония. Пуджа, в зависимости от ее значения, могла длиться не часы, а дни. Брамин был стройный, совсем молодой, видно, что ученый, но совсем неопытный. Он был обнажен по пояс, грудь от плеча к поясу пересекала священная нить. Пучок волос, торчащий на бритом черепе, походил на бьющую из камня воду. По одну сторону на выцветшем ковре сидели музыканты с флейтами и таблами.
Брамин взял божество, развернул и бережно поставил на постамент. Руки Дурги росли из тела, словно ветви. Корону Мурти сделал золотой, а кайму сари покрасил серебряной и голубой краской. Пышногрудая Дурга восседала на льве, как на троне. На лице – чуть заметный отблеск улыбки. Нужно было внимательно присмотреться, чтобы понять, как это было сделано, – едва уловимый изгиб пухлых губ. Фигура стояла наполовину в тени, наполовину на ярком солнце, такое положение было выбрано непреднамеренно, но отражало духовную двойственность божества.
Мурти слышал, как люди восхищенно ахали, и чувствовал неимоверную гордость. Такова его дхарма: вырезать богов. Он – ачарья Мурти.
– Я не могу остаться, – с сожалением сказал он, хотя часто бывал свидетелем обряда. Будут пропеты необходимые гимны, потом Дургу погрузят в реку, омоют в молоке, меде и ги, зажгут костры, чтобы приготовить рис… Лишь тогда фигуру богини можно будет установить в гарбхаргрихе. Между ней и пьедесталом проложат тонкую медную пластину: выгравированные на пластине символы способствуют возрастанию силы божества.
Люди понимали: мастер должен идти, ведь ему поручено вырезать джали. Получив у брамина даршан, Мурти отправился на место работы.
Джали, законченная лишь наполовину, лежала на пыльной земле. Из-за нижней части, еще не обработанной, она казалась полуодетой, немного напоминая этим жреца. Из уродливой пока массы вырастал изящный стебелек, нежный и хрупкий, – невозможно было поверить, что это один и тот же материал. Одна часть камня парила, взлетала к небесам, другая лежала безучастно.
– Как там мать? – спросил он у Гопи, приступая к работе: тук, тук, тук.
– Лежит с закрытыми глазами и плачет, – лицо мальчика скривилось от испуга.
– Ничего. Она устает на работе, но скоро придет в себя. Она уже не такая сильная, как прежде.
Мурти работал весь день в сосредоточенном молчании, пока не стемнело. За это время он наметил только один листочек. Он выдавался из массы мрамора – острый кончик смотрит вверх, словно его приподнял невидимый ветерок.
Возвращались медленно, от долгого сидения у Мурти свело все тело. Он принюхивался к запахам костров, на которых готовили пищу, с удовольствием ловил ароматы, приносимые встречным ветром. Мумтазабад был чистым и четко организованным. Такой город может простоять века. Теперь он был ему привычен, как родная деревня. Улицы, люди, даже бродячие собаки были знакомы. Мурти чувствовал умиротворение. Божество закончено, оставалось доделать только джали. Еще несколько лет, и можно возвращаться; они не разбогатели, но уверенно стоят на ногах. Оглянувшись, он бросил взгляд на купол, возвышающийся за деревьями. Солнце окрасило его ярко-розовым светом. Стены гробницы скрывали кирпичные леса. Вернувшись домой, в деревню, он расскажет старым друзьям про эту диковину. Ясное дело, они ему не поверят. Чтобы понять, это нужно увидеть собственными глазами. Рисунок в пыли – это лишь рисунок, воображение не в силах облечь его в мрамор, заставить воспарить в небе. Мурти мечтал о том, чтобы гробницу из гробниц поскорее достроили. Ему хотелось видеть, как установят джали его работы, как свет будет играть и преломляться на ней, как падут на мраморный пол тонкие резные тени. Неважно, что его имя останется безвестным для всех, это его не волновало. Кто помнит имена зодчих и строителей, создавших великие храмы Варанаси, или тех, кто вырезал фигуры богов в пещерах и на склонах холмов? Жизнь – это долг.
У входа в их дом столпились женщины, они толкались, перешептывались, заглядывали внутрь.
У него екнуло сердце:
– Что случилось?
– Сита умирает.
Мурти протолкался внутрь. Сита лежала едва дыша. Лицо белое, неподвижное; ему ли не знать приметы уходящей, покидающей тело жизни.
– Иди, – приказал он Гопи. – Беги в крепость. Скажи солдатам, чтобы передали Исе: Сита, моя жена, умирает. Нам нужен хаким. Беги!
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
История любви
1031/1621 год
АРДЖУМАНД
Я сильно горевала, когда умер дедушка. Часть меня перестала существовать: он забрал ее с собой. Мы начинаем жизнь целостными, являя сумму многих людей: отцов и матерей, дедов, родных и двоюродных братьев, сестер. А по мере того, как они умирают один за другим, наша целостность убывает, с каждой новой смертью. Мы уменьшаемся, съеживаемся, сходим на нет, пока после всех этих изъятий не остается сердцевина – мы сами.
Дедушка умер во сне. Утром все собрались вокруг него, я стояла и вглядывалась в спокойное, умиротворенное лицо. Трудно было представить неоперившегося юнца, что отправился в путь из Персии искать счастья на службе у Акбара. Тот самый юноша был теперь спрятан в глубине постаревшего тела, скрыт под складками шелковых одежд, окутан горем Джахангира, его супруги Нур-Джахан, принца Шах-Джахана, принцессы Арджуманд, принцессы Ладилли… Князья и принцы, навабы, раны и эмиры – все пришли отдать последние почести голодному мальчишке, из которого вырос великий человек. Джахангир объявил месяц траура по поводу кончины итимад-уд-даулы, Столпа правительства, Доверителя государства, мудрейшего советника, друга империи.
Я наклонилась и поцеловала дедушку. Знакомый родной запах уже почти исчез, изнутри уже прокрадывалось кисловатое зловоние смерти. Мой любимый тоже поцеловал его и заплакал, как я. Они были очень близки, старый и молодой, каждый будто искал в другом поддержку и опору.
Мехрун-Нисса рыдала громче всех. Гияз Бек был ей не просто отцом, но и другом, советчиком, мудрым наставником. Он направлял ее судьбу, как Аллах направлял его. Тетушка казалась не в себе, не ела и не пила несколько дней, только сидела и безучастно смотрела на воды Джамны. Впрочем, ее бездействие не могло продолжаться долго. Хотя смерть всегда наготове, ожидая своего часа, неугомонную Мехрун-Ниссу по-прежнему переполняла жизнь. Джахангир позволил ей построить для итимад-уд-даулы усыпальницу, построить не где-нибудь, а в городе, на берегу Джамны. Всю свою кипучую энергию тетушка направила на это: выбирала проект, архитекторов, строителей… Она точно знала, чего хочет.
Джахангир усматривал горькую иронию судьбы в том, что избежал смерти, которая вместо него похитила Гияз Бека. Его собственная болезнь развивалась, накладывая отпечаток на лицо. Падишаху трудно дышалось в сухой жаре, его тянуло на север, в любимый Кашмир. Ему хотелось сидеть в саду, который он устроил по своему вкусу, любоваться плавающими в фонтанах рыбками – на каждую было надето золотое колечко. Но не только здоровье влекло его туда, где, за великими горами, за снегами и вершинами, лежала родина его предков. До меня доносились слухи, что он не оставляет надежду завоевать те земли. Он мечтал править Самаркандом.
За год до смерти дедушки я тоже чувствовала себя глубоко несчастной. На то была причина: я снова ждала ребенка. Снова мой живот округлился, снова в душе поселилось тягостное чувство безнадежности. В последний раз зелье хакима помогло – несколько дней я пролежала больная, слабая, лежанка то и дело окрашивалась кровью. Зато освобождение от камня в утробе было истинным облегчением, что в те дни поддерживало мой затуманенный рассудок.
После я решила тверже противиться любимому. Мы легли вместе, и он ощутил, как напряглось мое тело, стоило ему коснуться моих грудей – как же плачевно они выглядели: все в прожилках, как мрамор, тяжелые, уставшие…
– Опять? – жарко прошептал он. Я помню его интонации, будто это было вчера. – У меня ощущение, что я лежу рядом с трупом.
– Почему ты говоришь такие жестокие вещи?
– Потому что ты меня больше не любишь, – произнес он горько, как обиженный маленький мальчик, который надеется, что его сейчас разубедят.
– Я люблю тебя. Моя любовь не изменилась с того мига, как я впервые тебя увидела.
– Тогда почему ты мне отказываешь? – Он снова лег, обращаясь теперь не ко мне, а к потолку, ожидая, что я начну молить его о прощении. О, эта изнурительная боль любви… – Если бы ты любила меня по-прежнему, то радовалась бы, что я прихожу к тебе каждую ночь.
– Я устала. Только что я потеряла ребенка, и тело еще болит.
– Удивляюсь, почему это ты потеряла мое дитя… – проговорил он с обманчивой беззаботностью, за которой крылась алчность неутоленной любви. – Уже дважды… Сколько еще раз это случится?
– Такое бывает с женщинами. Это непредсказуемо, – шепнула я в страхе. Я не могла понять, догадывается он или знает точно. Только бы он не уловил фальшь в моих оправданиях!
– Знаю. – Он нежно обнял меня, от гнева не осталось и следа. – Мужчинам не дано понять боль женщины. Я всегда тебя жажду, не могу сдержать свою страсть. Стоит мне тебя увидеть, и я хочу одного – целовать твое лицо, глаза, обнимать тебя, лежать меж твоих ног. – Он коснулся моих губ своими. Мягкие, нежные, как лепестки, они прощали, будто я и впрямь в чем-то согрешила.
– Когда тебе будет лучше, займемся любовью. Я могу подождать.
– Требуется время. Хаким сказал, мне нужно отдохнуть, прежде чем я снова забеременею.
– Так это навсегда? – Его резкость появлялась и вновь таяла, как легкий пар от дыхания на холоде, а я была не в силах успокоить его страхи, укротить его гнев.
– Конечно нет! Я не возражаю, если ты возляжешь с рабыней, пока я не буду готова принять тебя.
– Так вот чего я, по-твоему, заслуживаю – спать с рабынями. Ты теперь слишком хороша для меня…
– Прошу тебя, ты вкладываешь в мои слова совсем иной смысл!
– Что же еще они могут означать?
Мой муж сел, спина окаменела от ярости. Я коснулась его, но он дернулся, будто мои пальцы были горячими углями. Но если ему причинило боль прикосновение, то меня жгли его слова. Успокоить любимого можно было, только поддавшись его требованиям, но сейчас я не могла уступить. Мощь его семени пугала меня, в этом было что-то невероятное. Ни отец его, ни дед, ни прадед не способны были так проворно и так часто наполнять утробу женщин, словно сосуд из тыквы.
Наши часы наедине, которыми я так дорожила, были испорчены его гневом и моим сопротивлением. Почему любовь так трудна, так требовательна и так утомительна?
– Я сказала только то, что хотела сказать, – ответила я.
Шах-Джахан полуобернулся, вздрогнув от резких ноток в моем голосе. Я выдержала взгляд, не опустила глаза в робости.
– Твой отец и дед не отказывались от невольниц. Если ты не способен обуздать похоть, пусть рабыни принимают твои соки. Посмотри на меня. Я женщина, я люблю тебя, но ты ко мне относишься как к племенной кобыле из своих конюшен. Дети, дети, дети – как мне быть внимательной и любящей, если я всю жизнь гнусь под бременем очередного твоего ребенка, если эта тяжесть давит меня, как камень?
– Пожалуй, мне нужно взять вторую жену.
– И третью, и четвертую, и пятую. У Акбара их было четыреста. Что тебя останавливает? Пусть они себя изнуряют.
Он молча опустил голову. Я отвернулась и закрыла глаза. Мне хотелось забыть слова, что мы наговорили, выражение гнева на его лице, резкие звуки собственного голоса.
– Я не смогу, – тихо проговорил он.
Я не успела ни обнять его, ни попросить прощения – он встал и ушел. За тридцать пять дней мы не сказали друг другу ни слова. В день свадьбы мы клялись друг другу не разлучаться, и вот что получилось: жили бок о бок, но меж нами словно империя пролегла. Эта боль оказалась куда мучительнее. В разлуке я знала бы, что он по-прежнему любит меня. Сейчас он был совсем рядом: чем-то занимался, расхаживал по дворцу, – но даже головы не поворачивал в сторону зананы. Я следила за ним не только своими глазами, но и чужими: Иса, Аллами Саадулла-хан, Сатьюм-Нисса, Вазир-хан – все следили. Плачет ли он? Шепчет ли мое имя? Чувствует ли себя, как и я, живым мертвецом? Нет, отвечали мне, приглушая голоса из сочувствия к моему горю, он смеется и играет. Что ж, тогда и я поступала так же. Я устраивала званые ужины во дворце и приглашала жен всех вельмож. Танцоры и певцы увеселяли нас каждый вечер. Я слишком громко хохотала, слишком много говорила, рукоплескала так, что болели ладони. Я не представляла, сумею ли выжить в такой пустоте, в таком безвоздушном веселье.
– Иса. Ты должен поставить небольшой шатер в саду, где он любит сидеть. Действуй быстро и тихо. Шатер должен быть готов сегодня.
Разве может принц склонить голову перед женщиной? Он сделан из золота и мрамора, а я состояла только из плоти, и не было для меня ничего ужаснее, чем лишиться любви Шах-Джахана. Теперь я готова была охотно уступить любым его требованиям, вынести любое унижение – только бы прекратить невыносимые страдания. Но что, если он откажет мне? Об этом я боялась даже подумать.
Я надела золотистые шаровары, блузу и накидку. Теперь у меня была не горстка серебряных украшений, а множество шкатулок и ларцов с драгоценностями; из них я тщательно отобрала те, которые он должен был помнить. Иса поставил палатку, постелил на пол ковер. Я устроилась там, разложила товары. Ночь выдалась тихая, месяц отражался в воде, как серебряный меч.
– Он придет? – спросил Иса.
– Не знаю. Помолись, чтоб пришел. Принеси вина. Прикажи музыкантам молчать, пока он не войдет в сад.
– Ты хочешь, чтобы я остался?
– Да… нет… стой там.
Он спрятался в тени. Я сидела, нервно перебирая и перекладывая цепочки и браслеты, трепеща так же, как и в ту самую ночь, много лет назад. Прошлое всегда возвращается… Но что, если Шах-Джахан не придет? Он уехал, отправился на юг, на север, решил поохотиться, остался пожить в отцовском дворце… Эту ночь он проводит с танцовщицей… Пьет с друзьями… Мой милый войдет, посмеется надо мной и отправится на собственное одинокое ложе… От таких мыслей у меня лопалась голова. Надежды не было, я не заслужила счастья, счастье не повторяется.
…Я не заметила, как он вошел и остановился у границы лунной тени. Должно быть, он стоял так уже какое-то время, а потом решительно направился к моему шатру.
– А, моя малышка, девочка с базара – сколько же стоит твой товар?
– Десять тысяч рупий.
– При мне нет денег. Примешь взамен десять тысяч поцелуев?
– От Шах-Джахана достаточно будет и одного.
Я получила десять тысяч поцелуев в ту ночь. Кроме них я получила седьмого ребенка.
Как-то утром ко мне зашла повидаться Ладилли. Казалось, она парит над землей, подхваченная ветром, не в силах управлять собственной судьбой. Ее кроткое спокойствие – нежная, насквозь прозрачная дымка, которую невозможно ни развеять, ни разорвать, – порой выводило меня из себя. Трудно было понять, в каком она настроении, – маска невозмутимости скрывала всё, даже обиду или гнев.
– В чем дело, Ладилли? Если ты намерена просто сидеть и вздыхать, займись этим в другом углу комнаты. Я так и чувствую на себе груз твоих вздохов.
– Меня выдают замуж.
– Так тебе надо радоваться!
Выражение ее лица не изменилось. Ладилли была стара для замужества, даже старше, чем я, когда вышла за Шах-Джахана. Но она принимала свою судьбу не ропща.
– Ты рада?
Ладилли пожала плечами:
– Мама сказала мне сегодня утром, что я должна выйти за Шахрияра.
– Ах! – Я не нашлась, что сказать.
Мне никогда не нравился младший брат Шах-Джахана, он беспокоил меня. При дворе его прозвали На-Шудари, Никчемный. Лицо его казалось вылепленным из сырой глины, и он все время потел; в нем не было ни капли мужской привлекательности. Мать Шахрияра была рабыней, которую Джахангир щедро одарил, а потом отправил в Мейрут, в уединение. Такой выбор жениха казался жестокой шуткой.
– Откажись.
– Арджуманд, ты же понимаешь, я не могу этого сделать. Мама будет кричать на меня дни напролет. Я этого не вынесу. Мне проще сразу согласиться. – Ладилли внезапно схватила меня за руку: – Поговори с ней! Ты сильная, тебя мать послушает.
– Но что мне ей сказать? Может, у тебя есть кто-нибудь другой на примете?
– Да! – Ее личико озарилось светом. Мне стало грустно при виде этой вспышки. Вскоре ее радость может погаснуть навсегда. – Его зовут Ифран Хасан. Он из родовитой семьи.
– Никогда о нем не слышала.
– Он не занимает высокого положения. У него джагир недалеко от Бароды.
– Вы с ним говорили?
– Конечно нет. Но я знаю, что нравлюсь ему: он прислал мне вот это. – На шее у нее поблескивала серебряная вещица. Круглый медальон раскрывался, но внутри ничего не было. – Я велела сделать точно такой же, только золотой, и передала ему.
– Хорошо, я поговорю с твоей матерью. – Я мягко высвободила руку, отлично понимая, что в этот момент наши жизни расходятся: Мехрун-Ниссу тронуть невозможно. – Но сразу предупреждаю: это будет трудно. Твой Ифран Хасан недостаточно знатен. Шахрияр – принц.
В тот же миг я пожалела о своей резкости. Плечи Ладилли поникли, она будто услышала приговор: ее мечтам не суждено сбыться. Что я могла? Только утешить ее, внушить ложные надежды. Через несколько дней Мехрун-Нисса подтвердит свой выбор уже окончательно.
– Да, ты права… Она и слушать не станет. Принц! Этот тупица!
В первый и последний раз я стала свидетелем вспышки негодования. Ладилли и сама испугалась ее; вспыхнув, она поспешила прочь.








