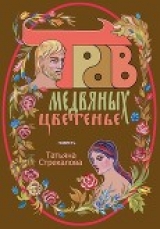
Текст книги "Трав медвяных цветенье (СИ)"
Автор книги: Татьяна Стрекалова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
И вдруг – по волшебному ли мановению, роковому ли грома грохоту, ослепительной вспышке молнии – преобразился мир! Оказалось, никакая это не верхоплавка и не девчонка привычная, а красотища немыслимая-чу́дная, от которой нет сил отвести глаз! И вовсе не та она щепочка-палочка, как в крепости представлялась – а чаровница влекучая! И – вся мягкая, ласковая, податливая – меж ладоней она у Гназда! И нет сил разомкнуть обнявшие её руки!
Руки сами собой всё тесней сжимались, и унять их не было никакой возможности. Задохнувшись, Стах притянул красавицу к груди. Та лёгонько засмеялась, осторожно отстраняясь:
– Да я уж согрелась, Стаху...
– Нет! – весь задрожав, хрипло прошептал Стах – и ещё повторил, – нет... я же вижу, как тебе холодно…
Хотя знал – пустое городит. Не до холоду тут – глупому понятно. С какого-такого холоду?! – вон, как вспыхнули – ярким закатом! – плавно обрисованные щёки белого овального лица, и, словно крылья вспорхнувшей испуганной птицы, затрепетали густые чёрные ресницы, пряча глаза.
Что-то случилось с этими глазами, с этим лицом, с пламенеющим ртом... Что-то, что внезапно рухнуло на них обоих куда яростней грозы, сотрясающей небеса и землю. Что мгновенно оборвало все прежние мысли, чувства и заботы… Даже дыхание! Даже течение крови по жилам! Перевернуло, поломало, куда-то унесло – а заполнило собой, чудной силой, которая приходит незвано-нежданно, негаданно-неведомо, сама собой, по своим каким-то законам да прихотям.
Сразу изменилось всё на свете.
Люди, звери, деревья и травы.
И Стах стал не Стах.
И девушка Лала не Лала.
И конь, задремавший у самого входа – не прежний старый коняга-дружище, а сказочный золотой скакун с крыльями.
И вертеп – дворцом сверкнул, сплошь из ослепительных радужных алмазов.
Только добрый костёр остался прежним, потому как уж больно тепло и сладко было сидеть возле него, жадно вцепившись друг в друга, друг с друга не сводя пристальных, широко распахнутых глаз – в этом крохотном замкнутом мире, где их только двое – и ничего-никого больше. Нигде и никогда.
А бедовая гроза, сделав своё дело, удалялась куда-то затихающими раскатами.
Они же – сразу – точно речь человеческую забыли. И заговорили на своём, только им доступном языке. Где почти нет слов. А если и роняется устами – что-то неведомое означает, чего никогда бы не понял и не разобрал посторонний слух. Может, нечто подобное и случилось когда-то, во времена незапамятные – когда рассыпались по свету языки, так и не достроив Башни Вавилонской.
Ах, Боже мой, какую же чушь Стах понёс, с жадной нежностью обняв девушку и заглядывая в сияющие глаза:
– А я ведь думал... живое, вроде... дрогнуло... зверь или рыба...
– А я думала... – еле успевая дыхание переводить, роняла девушка, – волной меня подхватило... а это руки...
– Я ведь совсем не думал...
– А я подумала...
– Я знал, Лалу...
– И я знала, Стаху...
За всю жизнь не произнёс он столько глупостей, сколько набормотал за ту пару часов, пока прогорали запасы хвороста в пещере. И не пришло ни разу голову усомниться, поколебаться, дело ли плетёт, и что прёт из него, и как девушка на это поглядит. Почему-то – ни к чему было. Само лепеталось, само обнималось. И рдяные уста сами собой навстречу, задохнувшись, открылись, и вылилось всё это в умопомрачительный поцелуй. А там – без передыху – второй. И пошло! Как канонада. Разряды молний, раскаты грома. Вслед уходящей грозе.
Пожалуй, могло и дальше зайти. Пылкий Гназд ненароком уже скользнул ладонями вглубь армяка, извлекая оттуда гладкие плечи и прочие округлости, но тут, спохватившись, гроза спешно придержала свои громы и молнии. Узкая девичья ладонь неожиданно упёрлась ему в грудь.
Стах поморгал глазами, не сразу сообразив, что за странности, совершенно против налаженных живых токов и вразрез с прежней струёй, совершает эта ласковая ручка, вся мягкая-плавная, с лёгкими длинными пальцами и тонким запястьем. Но смирился. Беспрекословно. Разве можно возражать такой ручке?
Всё дальше и дальше уходила гроза, оставляя за собой потрёпанный мир. Отдельные капли ещё кропили измочаленную землю, но в целом дождь иссяк. Уже солнца луч прорезался на западе. Следом сквозь слабеющие тучи прорвалась их целая связка. Седая земля настойчиво темнела. Туманя дали, поднимался пар. Град таял.
В притихшем мире на Стаха сошло некоторое отрезвление. Он вдруг осознал, что окончательно и бесповоротно застопорилась его жизнь и повернула вспять. Евлалия, приникнув к нему, покоилась в его объятьях, и Стахий стонал от мысли, что объятья – разнять он должен. Должен.
Он не разнимал их долго. Солнце всё ближе и ближе подтягивалось к самой кромке леса. Гназд с девушкой тоскливо замечали, как низко оно опустилось. И всё не могли друг от друга оторваться.
Лала подняла от его груди побледневшее лицо и глянула, в страхе распахнув тёмно-янтарные глаза. Пролепетала как открытие, едва слышно:
– Стаху… а ведь я не смогу без тебя жить…
Вот ведь как просто. «Не смогу». Ещё утром – могла, и запросто!
Только ведь – с утра – тыщи и тыщи лет прошли. И вообще – утро с кем-то другим было. А они родились только что. Здесь. Друг для друга.
Стахий прижал её голову к себе и погладил по беспорядочно вьющимся волосам, зашептав:
– Мы будем вместе, моя серебряная рыбка! И никогда не расстанемся! И где бы ты ни была – я всегда буду рядом. И когда бы ты ни захотела – я подле окажусь. По первому зову явлюсь. По первому желанью твоему.
И вот занятно: чистую правду говорил Стах. Говорил и свято в это верил. Да, много глупостей звучало в тот день в вертепе. Только разве с новорожденных спросишь?
А взрослый человек – сказал бы на младенческий этот лепет:
– Это что ж ты такое болтаешь, дурак? Пустое обещаешь – молодой девчонке женатый мужик! Вспомни о той пропасти непреодолимой – и отступись, уйди в сторону, прочь беги, пока беды не натворил! За сто вёрст близко не подходи, обходи, как смерть-пагубу!
Всё верно. И надо было уйти. И нельзя было уйти.
Но об этом не думал Стах. Не пришло ещё время этим мыслям. Это потом, позже заклинит душу. А пока – другая заноза была: расстаться не было мочи.
И всё ж – пришлось. Чуть не до самой зари медлили Стах с Евлалией. И так уж не поспеть в крепость засветло. И так тревожиться будет семья, и Зар, чего доброго, на поиски пустится. Ни разговоров, ни косых взглядов, ни сомнительного положения – ничего этого нельзя было допустить. Да и возвращаться по размытым скользким откосам не дело затемно.
Стах со вздохом разнял руки и шагнул прочь из пещеры. Привязанный арканом ствол на плаву, поднатужившись, выволок на берег и – по скользкой глине, сколь хватило мочи – дотащил до убежища. «Благослови, Господь, человека, что устроил сей приют, – воззвал про себя, – что запас дрова и даровал нам счастье этого костра. Даровал нас друг другу. Пусть сопутствует ему удача, довольство не покидает его дом, а каждый день озаряет радость!»
Вернувшись под гостеприимный свод, Стах застал Евлалию наряженной в высохший пестровато-серый сарафан. Она стояла у входа, заплетала свои длинные чёрные волосы и не сводила с молодца восхищённых глаз.
А Стах с неё.
Вглядывался – будто впервые увидал. Не то, чтобы дивился себе, как это он мог спокойно мимо ходить, не сходя по ней с ума. Нет. Обо всём, что до сего дня – намертво запамятовал Гназд. Точно не бывало. Просто глядел и любовался. Потому что – невозможно не любоваться такой… таким… было что-то такое в лице, в движениях, во всём существе – от чего нельзя не сойти с ума.
Боже мой! Да одни только уста! Так и пышут огнём! Гназд снова ощутил их вкус, словно не отрывался. Одновременно – нежные пунцовые цветы вспомнились. Как причудливые дрожащие мотыльки. Чиной зовут лесной, хоть и не лесная она, а по светлым дубравам, откосам открытым рассыпана. В чужих местах – петушками прозывается. А то ещё жар-жабрей в лугах встречается. Вроде и другой – а по-своему тоже похожий. Каждый цветок из соцветья – формой, очертаньями. Эта изогнутая вздёрнутая верхняя кромка! Эта полнота выпуклых губ! Ну, а улыбка, приоткрывающая сверкающий ряд белоснежных зубов? Да за такую улыбку можно горы свернуть, в небо взлететь, камнем пасть в самую глубь морскую!
А глаза… да ещё когда так, с любовью, глядят! Громадные, как мир. Сияющие, как солнце. Завораживающие своей бездонной, таящей жаркий свет глубиной.
И стан… словно туго-натуго перехваченный в поясе, а далее – со всей свободой отпущенный. Девушка вся была из этих зажимов и свобод… что в запястьях, что в щиколотках. А если ещё добавить округлые плечи, шею, как у голубя, и изящную на ней посадку головы, упругую и высокую грудь…
Чёрные, чуть вьющиеся волосы обрамляли это безупречное лицо, в котором всё было соразмерно, и все черты доведены до предела законченности и совершенства.
Красота немыслимая, в дрожь вгоняющая. Как! Откуда взялась! Как можно прежде такое не видеть!
Но не то было бедой. Беда была в том, что любил её теперь Гназд со всею болью и мукой.
Но ещё мучительней любила девушка. Ни один горный обвал не сравнится с силой первой любви. А это была именно она. Так вышло – что здесь и сейчас – вдруг накрыло её, с головой, как та волна на реке – с высоты повергло в пучину, словно рухнувший нынче откос – это доселе неведомое чувство, и она покуда не успела понять его… но уже чутьём, смутно – осязала весь ужас свершившегося.
«Горе, горе!» – тоскливо вскрикнула и пронеслась, перечерчивая заалевший круг солнца, ночная птица.
Горе и счастье простёрли незримые руки навстречу друг другу, сплели нерасторжимые объятья и слились воедино в затухающем свете дня.
День прощался с землёй.
Стах ехал верхом и вёз в седле, бережно к себе прижимая, тихую прильнувшую к нему Лалу. Его ладонь лежала на её груди, а уста их то и дело тянулись друг к другу. Лошадь ступала неторопливо и осторожно, выбирая путь. Стах не понукал её – слегка по холке трепал, чтоб руку чуяла.
Они двигались через покорёженный лес, потом побитым полем. Повсюду виднелись следы разорения. Не до влюблённых было этому миру. Попадались голосящие женщины, мужики чесали затылки. Стах укрывал Лалу полой кафтана. Но чаще никого вокруг не было. И они продолжали целоваться. «Наверно, это нехорошо, – слабо мелькало в туманном сознании Лалы, – что я не могу оторваться от его губ… И не должна рука его лежать на моей груди… Но невозможно совладать с этой рукой, такой тяжёлой и ласковой… Невозможно не влипнуть устами в такой затягивающий и впивающийся рот… Горячая сила исходит от крепкого упругого тела… как лава из земной глуби… А плечи – скалистые уступы, под которыми спрячешься от ливня и зноя полдневного… на которых взберёшься-спасёшься от половодья вешнего».
И она хватала ртом воздух, с трудом смиряя дыханье… И сердце колотилось внутри, с болью разламывая грудь. Девушка всматривалась Стаху в лицо, в поисках ответа и успокоения. Чего ждала она от ласково синеющих стаховых глаз? Любви? В каждом взгляде сквозила любовь! Безмерная, безудержная, безоглядная! Но чего-то ещё душа просила. А чего – и сама не знала. Может, надежды? Надежды – верно… – не было. И приходилось это принять. И без неё, без надежды – душа взрослела и крепла – и стойко смирялась с испытаниями.
Лес всё гуще чернел, когда продвигались по нему верхом Гназд и девушка. А полями близ крепости – едва разбирали дорогу. И совсем уж в глубокой тьме достигли западных ворот.
Незадолго от ворот Стах спешился, взяв коня в повод.
Потому что увидал впереди понуро бредущего человека. Усталым злым шагом тот возвращался в крепость, и Стах поторопился догнать его и приглядеться. Осмотрительность не обманула. Слабый блеск проглянувшего месяца высветил строгий профиль и чёрную бороду Зара.
– Эге! – весело крикнул ему Стах. И Зар обернулся. Угрюмо пробурчал ответное приветствие и хотел далее – на беду пожаловаться – как вдруг уловил некую интонацию в голосе Стаха, насторожился и вгляделся во тьму. Из чернил ночи выступал глухой силуэт лошади, на которой кто-то сидел. Зар заволновался в слабом предчувствии:
– Слышь… Стаху! Кого везёшь?
Стах рассмеялся:
– Кого, как не сестрицу твою!?
Зара как подменили.
– Чего?! – заорал он и с восторгом, и с недоверчивостью – и лупанул молодца по плечу, – не шутишь?
С этими выкриками он подскочил к Стаховой лошади, секунду пытался хоть что-то разглядеть.
Наконец, позвал:
– Ты, сестрица?
– Я, братец… – голос Евлалии прозвучал не в меру жалобно.
– Уфф…– ослабело выдохнул Азарий и тут же поспешил добавить в речь стальных нот, – и где ж тебя носило, девчонка?! – резко развернулся к Стаху, – слышь? Друже! Где ты её отыскал?!
– Там… – Стах неопределённо махнул рукой в темноту.
Лала робко всхлипнула:
– Козлёнок… беленький… пропал…
– Одно к одному… – проворчал Зар, – зеленя, вон, побило… Я ведь думал – тебя потоком смыло! Думал, деревами завалило, молоньёй шарахнуло! Что ж ты за девка – что с тобой со страху помрёшь!
Евлалия вздохнула.
Мрачное оцепенение, сопровождавшее Зара всю дорогу, стремительно разрядилось не в меру радостным возбуждением. Он разболтался и развеселился. Оживлённо заговорил:
– Вот ведь на мою голову забота! То и дело что-нибудь начудит! Поскорей бы замуж, что ли, спихнуть! Пусть муженёк по лесам разыскивает!
Шутил… шутил Азарий. Стращал. А так – что б спихнуть – такого и в мыслях не допускал. Наоборот – придерживал. Это уж заметил народ. Не хотелось братцу с единственной сестрой расставаться. Двоим отворот-поворот указал. Молода, де! Но – подтрунивал порой. Особенно с хорошего расположения.
– Нет чутья у тебя, девчонка! Не знаешь, когда голову спрятать, когда высунуть – вот и попадаешь в истории глупые. То заплутаешь, то упадёшь… вон, о прошлый год… в старый колодец угодила… Стаху! Ты, вроде, её вытащил?
Стах ухмыльнулся:
– Кто – как не я…
Было… было дело. Поменьше, что ль, была девочка? Не заметил тогда Стах того, что нынче… Зацепил верёвкой, вытянул и дальше зашагал… Ни грозы… ни вертепа…
– А, ведь если вспомнить, – хохотнул Азарий, – ты на то везуч. Всё как-то получалось… что ни проруха – ты сестрицын спаситель. Этак – за нами, пожалуй, долг!
Балагуря, Зар первым подошёл к укреплённым металлическими скобами дубовым воротам. Старик сторож ещё не замкнул их – только красноречиво постукивал по чугунным засовам:
– Давайте поживее, мужики… Я понимаю… такое дело… экая погибель свалилась… но полуночничать тоже не с руки… больше никого ждать не буду…
Почтительно поклонившись сторожу, Гназды откликнулись на стариковские сетования, пробормотали в ответ что-то сочувственно-виноватое – и провели лошадь в ворота.
В ночной тиши улицы были пустынны. Здесь уже как-то само собой не болталось, не шумелось. Только копыта поцокивали по вымытым ливнем камням мостовой. Добравшись до своего двора, Зар остановился проститься с соседом и между дел, не глядя, протянул сестре руки – садить с коня.
– Ну, друже! Слава Богу, что так вышло. Жива, цела – тебе спасибо. Выручил. Как – не спрашиваю, сама потом расскажет. До завтра! Покою-отдыху тебе да снов золотых!
С этими словами снял Азарий со Стахова седла покорно и растерянно соскользнувшую к нему Евлалию, на землю поставил, за плечо ухватил, подтолкнул в калитку и…
И всё.
Замер Стах – и рта не раскрыл. Что? Конец?
За те тысячи лет, что прошли с минуты, когда девушка отбросила волосы с лица там, в уединённом их убежище – Стаху ни разу не пришло в голову, что может так оно оборваться. Взял брат заполошно оглядывающуюся сестру за плечо, развернул к родному дому и увёл. Перед Стаховым носом – калитку закрыл. Ласковый!
А он, Стах – ничего тут не мог.
Он уж привык, иначе не мыслил, что с девушкой они одно целое, навек неразлучное, и друг без друга им и минуты не прожить. И вдруг…
Живи, Стаху! Уж как сумеешь. И минуту. И другую. И день. И…
А? Сколько, Стаху, ты сможешь прожить без своей рыбки серебряной?
Гназд с глухим стоном стиснул пальцами виски.
Где-то кликала ночная птица. Шелестели листвой яблони в садах. Конь потряхивал головой, дёргая уздечку и переступая ногами. За высоким забором заворчал пёс. Лампадами да свечами уютно теплились окна, какие проглядывались с улицы. Улица пролегала перед Гназдом, вся родная, с детства привычная. Улица разделяла Заров двор от Стахова. Улица – всего-то сажени две – расширилась вдруг непреодолимым морем, горными пиками вздыбилась и разверзлась пропастью бездонной.
Улица перед родимым домом…
Вся она до мелочей знакома.
Сколько ты по ней ходил да бегал!
Шли по ней и радости, и беды.
Шли друзья и недруги по ней.
Шли заботы и беспечность дней,
Лиц, привычных с детства, череда,
Дни, недели, месяцы, года…
А когда по ней прошла любовь –
Превратилась в пропасть без мостов…
Не было чрез неё мостов.
Ни мостов –
Свести.
Ни костров –
Свети!
Не обнять
Огня.
Не нагнать
Коня.
Ничего.
На мир опустилась глухая ночь. Всё гуще чернело небо. Всё плотней туман обволакивал крыши, скрывал да прятал до поры, до утра, до свету – то, чему следовало пребывать бы в покое-сне. Сторожил-сберегал пуще крепких затворов – от злого умысла, дурного глаза, жадной руки – всё тихое и доброе, что всего дороже душе человеческой.
– Так тому и быть, – обречённо подумал Стах, зажал в кулак непреодолимую боль и понуро шагнул к своим воротам.
Выше да выше вздымался туман. А – сколь ни вздымался – всё не мог застлать блещущий месяц в вышине. Слабозаметный тонкий язычок – он стремительно летел и нырял в тучах, подобно идущей против течения, сверкающей серебряной рыбе.
Глава 5 «Китайская роза»
Вот когда бы Дормедонта Стах
Удушил, не будь на нём креста…
Вот когда сердешный осознал
Под лопатку всаженный кинжал…
Вот когда постиг Лаванов зять –
Насмерть связан! Пут не развязать!
Точно пополам поделился мир для Гназда. На две несовместимых грани, два наглухо запаянных сосуда, меж которыми не может процедиться даже неразличимая струйка. Один – где призывно поблёскивает серебристой чешуёй рыбка из сетей. Другой – где тенёта вязкие Лаван разостлал.
Доселе Стах особо супругу не вспоминал, а тут по ночам пошла сниться! И всё больше тигрицей ярой, что недавно с коновязи рвалась и о поперечину билась. Повезло, что платок на ней новый да крепкий. Стах даже во сне от бросков её вздрагивал, но более в дрожь ввергала победная ухмылка. Кричала жёнушка, хохотала во всю клыкастую пасть… вопила-визжала, аж приседала со злорадства:
– Что, муженёк! Получил? Думал, отделался? А я – вот она! По гроб с тобой! Не обойдёшь, не объедешь! А наедешь – споткнёшься!
Сон тем и хорош, что скоро кончается. Тяжек – ан, вытерпишь. Вот наяву – иначе. Явь – она нож по душе измученной.
Со стоном просыпался Гназд и за голову хватался: «О, Господи! Что ж делать-то?!»
Василь-брат, что неотделимо, подспорьем, при старых родителях жил, а, стало быть, с бессемейным Стахом под одной крышей – заставал порой младшенького за такими подвываньями… спрашивал сочувственно, с горьким вздохом:
– Что?! Опять твоя? Плюнь, братку! Ничего не исправишь, а себя травить – только хуже. Как-то живёшь – и ладно. Конечно, грех – зато какое-никакое разнообразие».
Не знал Василь беды Стаховой… и родители не знали… да и вообще – никто. Разве что – месяц в небесах полуночных. И девушка Евлалия за соседским забором.
Порой они виделись. Да и как иначе – ворота в ворота проживая? Крепился Стах – но каждый раз искушенье взашей выталкивало наблюдательного молодца из тесовой калитки – когда планида-баловница через силу вытягивала в оконце привратное, властно ухватив за кончик хорошенького носика, разрумянившееся личико хлопотливой соседки. Всегда на улице дело ей находилось… а уж если девица со двора, то ему-то, Стаху – куда больше тут интересу.
Ну, какой интерес…
Перво-наперво – крепость забора. Ещё – брёвнышко-посиделка, можно приладить, авось пригодится. Или, к примеру, надёжность ворот… вот! – петли промазать!
Мазал и мазал петли молодец. Так, что уже через неделю ходили они, как шёлковые, и похлюпывали. А у девушки день за днём канавка вдоль забора всё ровней да глаже выходила. Просто струна натянутая!
Работали каждый на своей стороне. Через улицу друг на друга украдкой поглядывали, словами перебрасывались. Порой такое ронял невзначай пухлый улыбчивый ротик:
– Девки сказывают, все поляны за протокой нынче в землянике. Завтра с утречка Тодосья отпустить обещала.
Или:
– День жаркий, самая стирка у нас, щас на речку иду полоскать.
И знал Стах, что к вечеру станет привычным во рту вкус земляники, и земляникою пропахнет рубашка. И сверкающая речная рябь совсем закружит голову, и тихая прохлада воды обнимет его вместе в нежными всплеснувшими из волны руками. Да где и плескаться ей, рыбке блескучей, как не в волнах игристых?
Осторожно выбирал дорогу Стах, подгадывал подходы безлюдные, хоронился в березниках-ельниках. И всегда ссыпался – снег на голову!
– Как ты нашёл меня? – распахивала девушка удивлённые глаза, а губы давно цвели улыбкой.
Щурился Стах коварно:
– А ты меня не ждала?
– Нет, не ждала… – ещё шире размётывала хохотушка две частых щёточки чёрных ресниц, и плечиками пожимала, – я просто так сказала!
И ну! смеяться – звонко, заливисто. И следом, без всякого перехода – выливался плач горький-жалобный:
– Никогда-никогда, Стахоньку, не быть нам вместе.
И каждый раз – от смеха, от слёз, от слов – так больно было молодцу, что хотелось грянуться с размаху головой в сыру-землю – ничего бы не знать и не помнить.
Невозможно видеть, как исподволь, в глубине весёлых искрящихся радостью глаз – неумолимо наливалась эта тяжкая сверкающая волна – и в конце концов срывалась, переполнив через край огромные, но не бездонные очи. Начинался ливень, водопад, а то и град ледяной, смертельно-мучительный. И надо было прекратить… придумать… сделать что-то. И ничего не сделаешь.
Но солнце всё равно светило. Сквозь ливень, сквозь град. И в горечи странным образом ощущалась сладость. Нет вкуса притягательней, богаче, острее горечи со сладостью. Как-то так оно человеку приходится… Чудная тварь – человек… И счастлив он, и любится ему – и в слезах, и в муках…
В муках! Там, на полянах земляничных – по-прежнему ласковая ручка упиралась Стаху в грудь. И знал молодец, что надеяться ему не на что. Так и впредь упираться будет. Потому как – лежали душистые поляны в пределах Гназдовых земель, и девица Гназдова ступала там ладными ножками.
Порой – в тех красных узорных башмачках, что осмелился привезти ей Стах из последней поездки. Уж так ему понравились – как на девушкину ножку прикинул! Брат – ничего. По дружбе принял. Что ж? Не грех – по-соседски подарить, тем более из дальних краёв вернувшись.
Месяц путешествовал Стах, устраивая очередные дела. И за месяц – извёлся весь. Как не хватает ему Лалы – хоть грустной, хоть весёлой – только теперь прочувствовал он со всей тоской. Вот лишь за поворот дороги завернул – так сразу и подступила она, смертная! Хоть тут же возвращайся! Ехал вперёд – а сердце – назад. С каждым следующим конским переступом. Лала робко жалась у крепостных ворот, провожая его – и два неиссякающих ручья катились у ней по щекам и крупными каплями кропили придорожную траву. Боясь, что кто увидит – она прикрывалась рукавом, и рукав медленно и неотвратимо намокал – хоть выжимай! А Стах, страдальчески оглядываясь, удалялся дальше и дальше – и совсем пропал из виду… И ясно стало – что теперь уж не покажется. Уехал! И надо – домой возвращаться, к делам повседневным… Нечего ждать!
И всё равно – Лала напряжённо вглядывалась вдаль. Стояла – и не сводила глаз с поворота дороги. А – вдруг!
После такого прощания – все дела Стах наспех делал, торопился пораскидать скорей – а известно ведь: лентяй да торопыга переделывают дважды. Свалял Стах дурака… и увяз, как телега в распутицу.
Вот когда взвыл молодец! Тугим парусом домой рвался… и нарвался! Теперь разбирайся! Разгребай, что впопыхах натворил…
А какие тут дела – когда перед глазами постоянно девушка Евлалия в воздухе колышется, ни на минуту не забудешь… каждую улыбку так-сяк вспоминаешь… каждый вздох по сто раз в памяти перебираешь… Особенно вечерами, когда прикорнёшь в каком-никаком углу… дрёма одолевает – и начинает сниться… и снится-то вечно – то, чего нет, а желается…
Глупейшая была это поездка из всех, когда-либо пройденных Стахом. Единственное в ней путёвое оказалось – те самые красные башмачки. А остальное…
Впервые Стах наломал столько дров. Но с дровами-то он потом уладил. Всё же спохватился… встряхнулся. Это всё обошлось. Только ещё одну глупость сотворил Стах в тот раз. И этой глупости он себе до конца дней простить не мог.
Пришлось Стаху по-другому договор вести. Из-за своей оплошности. И раз так дело стало – по рукам ударять получалось неубедительно. Ошибка – она много дряни за собой тянет. Например, хвост бумажный. С хвостом долго и муторно возиться.
Так и сошлись однажды с другой стороной – хвосты накручивать. Да ещё тягомотина: ждать пришлось.
Сутки ждал! А происходило всё в одной харчме, где хозяин малознаком был, и вообще суетливое место, кутерьма неясная. Те – сторона которые – пообещали вроде: вот-вот… А что их «вот»? Наплакал кот! И не плюнешь: нужно!
Стах сперва на людях был, потом каморку испросил, ночевать: видит, увяз надолго. Хозяин уверил его, что лишь только – так сразу… И верно – не подвёл! В одиноком ожидании бумагу Стах приготовил, чернила налил, перо очинил, черкать опробовал – только приходи, сторона!
Сторона не спешила. Так что молодец успел и подёргаться, потому как сроки давили, и расслабиться, потому как – чего зазря дёргаться, если ничем не поможешь?
Расслабившись, Стах пёрышком баловался… так… сяк…. А тут и дом, конечно, вспомнился… и земляничные дебри, и камыш речной… да и не камыш, собственно…
Ну, и понесло… Сперва про себя проговорил сложившиеся слова… как – если бы вот тут, сейчас – была с ним Лала драгоценная, и он ей бы всё это проговорил…
Сперва одно произнёс… потом другое… третье… Потом взял – и сдуру всю нежность словесную на пустой клок бумажный вылил: если попусту бумага белеет, и перо нервно-зло то и дело подтачиваешь – чего не вылить, чтоб тяжко не переполняло.
Вылил – вроде, полегчало… Тогда ещё подлил, добавок. А к добавку – последнее, что ещё внутри оставалось.
А то! Грамотен был Стах, на свою голову. Привык бумагу черкать…
Едва лишь отцарапал Стах пёрышком последнюю кавыку – зашумело внизу, и в двери стукнулись. Пришлось бумажонку сердечную куда-то затолкать, а каморка сразу людьми наполнилась: сторона, в числе трёх, да свидетели, да любопытные… в общем, закрутилось. Шуму-гвалту стояло в тот вечер, что дыму под потолком…
Не сразу сложилось. Спорили. Трижды зазря бумагу марали, рвали, под стол кидали. До рукоприкладства, слава Богу, не дошло. Затихло на подступах. Но пистолетом Стах поигрался. Скромно. Взор потупив и в некоторой задумчивости. Вроде как – нехотя извлёк и, так это, между дел, заряд вложил.
Ребятки миролюбивыми оказались. Грозные очи пригасили. Руками стали показывать, устами доказывать… Хозяин самовар прислал, чтоб, значит, мир поддержать, харчму бы не спалили: у него и так один угол подпалён, кое-как подправлен… Кто подъезжал, сразу замечали, задумывались – а то и мимо трусили… Оттого хозяину второй палёный угол был не надобен. Вот он и старался. Даже стопку ненавязчиво пододвинул… Но Стах – напористо прочь оттолкнул. Не делают Гназды дела при стопке! Это уж правило у них такое! Чтоб серьёзность не нарушать.
Короче – дело сделали. Без стопки, без стрельбы и без пожара. Потом уж – когда стороны обоюдно довольны остались – и стопку эту опрокинули, и самовар опорожнили, хлеб преломили и по-дружески руки скрепили…
Всё соблюли. С чем и разошлись.
В умиротворении Стах бумагу прибрал и гостей проводил со всяческим уважением, до низу спустившись да на люди выйдя. Там ещё потолкался, словами перебрасываясь, потом лошадку глянул, всё ль ладно: присматривать надобно, самовары самоварами… Потом ещё по мелочи кое-чего проверил – и в каморку к себе ночевать отправился. Войдя, обратил внимание на метёный пол. Окинул взором лавки. Всё на месте. Да – нехитрый скарб – проверить недолго. Седло снятое прощупал – в порядке. Расслабился, было, и стал себе на лавке стелить – ан, клок исписанный вспомнился. И куда сунул? Давай шарить, где мог – нигде нет. Что там писано – и сам-то уж толком не разумел, а всё нехорошо, если попадёт кому… неловко… да и ни к чему чужим знать…
То есть – очень не хочется, чтоб чужим это знать! То есть – стыдно, противно, гадко – если чужим в руки! То есть – немедленно найти надобно, а то покою не будет! Найти – и в печку!
Ругаясь на чём свет стоит – облазил Стах всю камору. Злой, как чёрт – вывалился в людскую, отыскал хозяина:
– Слышь? Кто у меня мёл? Бумага пропала.
– Мемелхва! – обернувшись, кликнул тот тощую бабу-прислужку. Стах обратился к ней с досадой и надеждой:
– А? Красавица! Ты у меня убрала?
– Да я… – растерялась жердь, одновременно робко ёжась и млея от удовольствия, – самую малость… вот, хозяин послал… у тебя больно раскидано было… и клочьев полно…
– А… и куда ты – клочья?
– Да вон… в печке…
Стах успокоился. И даже монетку тётке подарил. И невдомёк ему было подробней порасспрашивать. Может, и уразумел бы что. Да… Дрянная получилась поездка!
Впрочем – была в ней добрая встреча. Совершенно случайно и в месте неожиданном. Хартику встретил. Глядь! – свернул с дороги мужик в телеге, ухватка знакомая. Окликнул – точно! Хартика!
– Ты как тут? Откуда? Какими путями?
– Да у меня, – Хартика тихо и грустно усмехнулся, – родня тут. Всё, что ещё осталось. Тем и дорога́. Тётка жены. Добрая старуха. Я, как выдаётся день – навещаю, пособляю… потому как – одна она… и у меня никого…
На самом краю деревни жила тётка Харитоновская, даже от деревни в сторонку, обособлено. В лес углубившись… К уединению, что ли, тяготела… Или от людских обид подальше, к огородам-выпасам поближе?
Старушка оказалась простоватая, смирная. Личико тощенькое, взгляд детский – одни лучики у глаз морщинятся. Сама – ещё на ногах и в разуме, хлопотливая, заботливая. Сердечно приветила – Стах умилился сразу да проникся, тихонько Хартике бросил:
– Славная бабка!
Харт ухмыльнулся:
– А то! Бабка золотая! Жена в неё нравом была, – это добавил, уже затуманившись, голос понизив, – аки голубица… ни разу ни словом, ни делом не поперечила… не упрекнула ни разу… хоть и погубил её…
Стах спохватился: Харитон вновь явно-устремлённо проваливался в тину тоски, и следовало как-то его оттуда вызволить.
– Э! – Стах поёрзал и нашёлся, – а чего по имени-то не представил? Звать-то как?
– Нунёха… – угрюмо буркнул Харт. Рука тянулась в карман за трубкой.







