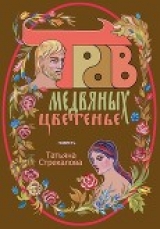
Текст книги "Трав медвяных цветенье (СИ)"
Автор книги: Татьяна Стрекалова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
– Приберём, – страдальчески кивнул Фрол, и ужаснулся, – ещё и стоять с ней! Неужто смерть не освободила?!
Три Гназда топоры взяли – да покосившийся, вмороженный в реку, замёрзшей кровью покрытый кол – срубили. Снимать с него законную супругу не стали, обтяпали покороче. Бог миловал: ничего не чмокало, не хлюпало: за ночь схватило насмерть. И смерть – вот ещё Бог миловал – мгновенно приключилась. Рядом бадья валялась. Видать, вдогонку по шее шарахнуло – и упокоило. Гназды перекрестились.
– Чего с ней теперь-то? – почесали затылки молодцы.
Иван помедлил – и произнёс твёрдо:
– Отвезти в ближний храм. Пожертвуем разбойничьи денежки. Пусть похоронят. И родне сообщат.
– С собой это счастье везти? – ахнул Фрол. – И кто повезёт?
– Ты и повезёшь, – припечатал брат.
Со старшим не спорят.
Тело завернули в рогожу и положили в Лавановы сани. Только Фролову лошадь ещё пристегнули. Сам он, совсем загоревавший, взялся за вожжи. В большие сани Василя уложили. Рядом устроили Лалу, и печку между ними поставили. К лошадям сел Стах. Рвался Зар, и даже спорить пытался, но всё решила кобылка. Она накануне на постромке хорошо шла – вот пусть и дальше идёт.
Избу закрыли, ворота заперли. В последний миг из подкопа выскочил щенок – и его забрали. Всю дорогу он бежал рядом, иногда вскакивая в розвальни – и разваливался в них совсем по-глупому: одно слово, дитя… А дорога была долгая, хоть и ехали на пределе возможностей. Миновали Проченскую артель, где старуха-стряпуха невзначай попалась. Замерла у самой колеи, крестясь:
– Харитон Спиридоныч! Ох, батюшка! Никак, увечные у вас? Никак, покойные?
– Всё так, – глухо отозвался Харитон. – Молись, бабка, за Василя да Евлалию, здравия бы им. Да и, чего уж там, за упокой души Божьей рабы Гаафы.
– Ох, сердешные, – завздыхала стряпуха, и глянула в последние сани, на которых Фрол сидел. И по бабьему любопытству, осторожно да за уголок, не поленилась рогожу приподнять:
– Кого ж Господь прибрал-то, молодого аль старого?
И узнала. Лицо Гаафы не особо изменилось. Да и куда меняться: краше некуда.
– Ой! – заголосила бабка, хватаясь за щёку. – Да она ж у меня нонеча ночевала! Заночевала да в лес поехала. Говорю ж, волки заедят! Вот и заели.
– Волкам тут раздолье, – угрюмо буркнул Фрол и лошадей подбодрил. Оттого, что ехал он позади всех, ему было неуютно и всё казалось, что отстаёт. А когда передние сани и всадники порой скрывались в вихре взмётанного снега – так и вовсе теряется. Потому как после событий прошедшей ночи очень уж в сон тянуло. Смежало глаза, и сами собой захлопывались веки – а когда спохватывался и дёргался пробудиться – охватывал страх, что проспал, и невесть куда занесло. Вдобавок пошёл снег, который к полудню сделался гуще, занося и коней, и седоков, и сани. И неприятный груз за спиной Фрола. Фрол отряхивался и порой косился назад. А спать хотелось – хоть пальцами веки разжимай. Однако покойница покоя не давала. «Не отпетая ещё, – думал мужик угрюмо, – и смерть плохая… Три дня душа рядом с телом бродит. Первый день, значит… Псалтирь бы ей читать, да где ж тут…»
Кое-что он помнил и, то и дело выныривая из дремоты, бормотал: «Наипаче омый мя от беззаконiя моего и от греха моего очисти мя…» И опять проваливался в сонное бесчувствие. И опять спохватывался… Удивительно мягок и гладок стлался заснеженный путь. Хоть бы подкинуло где. Нет, шёлк-виссон. От которого баба его умильно в глаза заглядывала. Вспомнив жену, Фрол усмехнулся. Ох, бабы! То ли птица, то ли рыба, то ли зверь. Одно слово – чудо. Сотворил же Господь! Но всему есть предел. Чудище за спиной и бабой не назовёшь. «…яко беззаконiе мое аз знаю, и грех мой предо мною eсть выну…» – забубнил. И в который раз оглянулся. Снег валил и валил. Налипший рыхлый гребень в середине тела покойницы не выдержал собственной тяжести и обвалился. Комки скатились под полозья. А следом новые поползли. Фрол сонно наблюдал, как пошла трещина, и вся груда разломилась и съехала на обе стороны. Потом пригляделся – и с ужасом понял: тело шевельнулось. «Вот почему трещина, – отметил отупело. – Она приподнялась». Он потряс головой: что за морок? Потряс – всё на место улеглось. И впрямь морок. Лежит себе, горемычная, как лежала. Тело – и тело. Бревно в рогоже, и сверху снег. А впереди сквозь зыбкую пелену едва разглядишь хвост Азарова коня. Фрол подстегнул лошадей и в надвигавшихся зимних сумерках некоторое время высматривал этот хвост, чтоб не отставать. Потом опять назад покосился. И отстал. Потому что усопшая откинула рогожу и резко села у него на санях, в своей окровавленной одежде, прямая, как палка, и пристально уставилась в глаза ему своими, мёртвыми и так и оставшимися широко разверстыми, ибо веки столь заледенели за ночь, что прикрыть их – нечего было и думать. И Фрол не мог отвести взгляда, забыв про коней. И те остановились. Всё так же в упор глядя на него, покойница медленно спустила ноги с саней. Фрол опомнился. Он вспомнил про трубку и яростно затянулся, так что искры полетели. Потом, выхватив трубку изо рта, заорал что было мочи: «Да воскреснет бог, и расточатся врази его…» – и тогда сумел оторвать взор. Быстро обернулся к своим – и страх сотряс его с новой силой: впереди ни души, вокруг чистое поле. Обвёл глазами поле – и нутро вконец заледенело. С дальних концов подкрадывались сизые сумерки. В сизых сумерках среди плавных и частых сугробов скользили, то и дело прячась меж них, а меж делом приближаясь, проворные снежные гребешки да кочки. У каждой кочки – две точки. Светятся точки холодно и тускло, как обманные болотные огни, а за каждым гребешком несётся тень. И уже различает Фрол в пёстрой шевелящейся путанице неутомимые ноги и раззявленные пасти, и слышит хрип тысяч тысячей глоток.
Волчья лава шла неотвратимо и стремительно – и заполняла собой мир на все четыре стороны. И когда первых стало возможно разглядеть, Гназд узнал их в лицо. Пусть даже волчье. Да и как тут не узнаешь? Впереди всех летел Коштика, высунув язык и прицеливаясь в Гназда мёртвым взглядом. С острых зубов и сваленных клоков шерсти кропили красные капли – как тогда, в лесу. Следом нёсся куряка, что огоньку просил да по-дружески с Азаром трубку раскуривал. А дальше – остальные, и были они точь-в-точь такие, как на снегу вчера лежали. И среди них – Хлоч. Его Фрол узнал сразу – хоть ни разу не видал: огромен был: всем волкам волк.
Ближе и ближе нависало Хлочево воинство. Но ещё ближе, прямо с саней, прыгнула на Гназда волчица, норовя вцепиться в горло. И Фрол понял, что за волчица. И яростно кнутом огрел, так что на миг швырнуло её в сторону. А там – плеснул углей на просмоленную щепу, и от вспыхнувшего пламени отшатнулось воинство. А может, от жаркой, как пламя, молитвы: «Господи Иисусе христе, помилуй мя, грешного!» И от псалма заветного: «..речет Господеви; заступник мой eси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него»
Пустые сани легко заскакали по волнам сугробов, обезумевшие кони взметнули копытами снежные вихри. Только от воинства разве умчишь? Вон рвётся, хрипя и зубами лязгая, Коштика и уж у самых саней, ан, Хлоч обогнал, сбоку лошади заходит, а в санях, откуда ни возьмись – вновь невестка-покойница Гаафа, орёт-свистит-воет ветром в уши: «Куда, деверь любезный? Жену-детей увидеть ещё надеешься?»
«Как же так? – мелькнуло у Фрола, – в ней же кол осиновый!» Ружьишко дёрнул из-за плеча, за рожок схватился – и обмер: пуст рожок, будто языком слизали. «Было же чуток, – задёргалось в голове. – Оставалось!» А волчье воинство накатывает. А стрельнуть-то нечем. «Ну, – разъялась душа наотмашь да с плеча, – коль пропадать, так не даром!» И пошёл Гназд кнутом крушить, огнём палить – во славу Божую да на попрание супостата: «Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящiя во дни, от вещи во тме преходящiя…» – и загорелась кудлатая шерсть на Хлочевых боках, а следом на Коштике, а там и на дальних перекинулось, с хвоста на хвост, со спины на спину, и визжали, кувыркались волки в рыхлых снегах, и вновь неслись, и вновь летело пламя в звериные морды, и поднимался пожар великий от края земли – и до края… пока не услышал Фрол весёлое ржание Стаховой кобылки. Беспечное ржание, которые всегда различал он среди всех лошадиных голосов. Чисто – дитя! Обернулся мужик – хвост Азаровова скакуна увидал. А там и всего всадника, спокойного да неспешного. Зар изо рта трубку вынул, оглянулся на Фрола:
– Приехали, – говорит.
А впереди него розвальни остановились, и братец Стах с них спрыгнул… Замер поезд – едва Фрол успел коней унять. Глядь – церковь впереди, Проченская, деревянная. Гназды спешились, коней оглаживают, неспешно в поводу ведут. Крутанулся назад Фрол – чистое поле, от свежего снега гладкое – прямо шёлк-виссон. Ни следа. А в санях у него лежит недвижная покойница. Бревно в рогоже. И снег поверху налип. «Ну и ну!» – обессилено ткнулся в сани Фрол.
– Засиделся, братку! – подошёл к нему, похлопывая рукавицами, Иван. – Давай, оторвись от своей почившей, потопай: застыл, поди. С клиром щас уговариваться пойду… авось, не откажут…
– От своей… – подавлено пробормотал Фрол, покачав головой. И взглянул на старшого. – А скажи мне, братку, не видал ли чего по пути?
Иван пыхнул трубкой и задумчиво глянул в пройдённую даль:
– А чего там видать? Снег и снег. Ну, домишки попадались… Может, и было чего, да, если честно, задрёмывал я, Фролику… Уж больно в сон тянуло.
– А волков не было? – осторожно спросил тот. Брат даже рассердился:
– Дались тебе эти волки!
– Ишь как… – озадачено проводил его глазами Фрол – и только шапку на макушке сдвинул. А потом надолго задумался. Пока Иван в храм ходил – и поклониться, и свечи возжечь, и потолковать. И пока от батюшки присланные к саням приступили и рогожу приподняли, головами покрутили, языками поцокали:
– Ну, что ж делать, раз вам спешно… Справим всё по-христиански…
– И к родне кого с оказией пошлите, – напомнил Иван. – Вот лошадь с санями оставляем вам.
– Не сомневайтесь, – перекрестились честные Проченские мужики.
Фрол принял своего коня, а от саней отошёл с поспешностью. Но, пока местные мужики увозили тело, провожал взглядом.
– Нет, – наконец вымолвил, то ли себе, то ли лошади, то ли наступавшей темени, – столь явственное не может сном оказаться…
И видать, на беду сказал. Конечно, Гаафу отпели, и похоронили, и посыльный отправился в путь. А только, возвратившись назад, не нашёл он родной церкви, и вся Проча плакала и голову ломала, как дальше жить. Ибо предыдущей ночью упала в приделе непогашенная лампада… И как она могла упасть? Сколько помнили прихожане – всегда хоть один пламешек да оставляли: ну, а как не оставить? От чего поутру возжигать? Да и что от крохотной огненной точки случится? Ведь еле зиждется, от нечаянного вздоха готова погаснуть. Подсвечник надёжен, сумрак недвижен, покой крепок… Вечером заперли храм, а к утру от него – одни угли. Горе горькое! Было село Проча, стало захолустье…
Но это позже случилось, когда Гназды были далеко. И нескоро узнали про Проченскую беду: у них своя была. Василь в бреду. И Лала безликая. «Жизнь девке, пожалуй, спасёшь, – думал каждый, – а лицо вряд ли… И какое лицо! Как же тленна и преходяща красота земная! Вот и цветы вянут…» Тем же мучился и Стах. Ещё как! Но глупая птица-надежда пригрелась у него за пазухой. И порой шевелилась там, прилаживая перья и тычась в сердце клювом. И всё жила. Жила, вопреки разуму. Даже со свёрнутой шеей.
Гназды гнали коней и летели ночными путями глухими лесами в неведомую Нунёхину деревеньку, которая толком и названия не имела, и только потом, спустя годы как-то сама собой так и стала зваться – Нунёхино. Гназды – они ж по белу свету проворные, всюду летают, гнёзда ладят, вести разносят, и славные быстрые у них кони, покрывающие многовёрстые просторы без устали, без жалобы, предано и рьяно, и всё им нипочём. Всё нипочём под седлом. Это ночью, в конюшнях, они хрупают овёс и тычутся мордами в мягкое сено. И спят. Не спят чубарый с кобылкой: сплетаются шеями и шепчут нежные лошадиные слова.
Глава 15 «Облако»
И не то, что богато,
И не то, чтобы плохо –
В деревеньке когда-то
Проживала Нунёха,
На краю, на отшибе –
Где угодья пошире,
Где луга трав медвяных
Всё цветут и не вянут…
Одарил ли Господь старуху, или тяготу взвалил на щуплые плечи – рассуждать об этом не приходится, потому как деваться-то некуда: принимай да трудись. А не знаешь чего – Бог подскажет.
И подсказывал, не испытывая. И чутьё рукам, и мудростей голове. Не случалось ещё Нунёхе Никаноровне таких филиграней тачать – ан, косточки на знакомом личике все на место поставила и рану стянула. Потом кожи лоскуток с юного живота срезала и на сожжённое место приладила.
– Терпи, девка, – велела. Лала терпела. От Нунёхи Никаноровны – да не потерпеть? Но на всякий случай руки ей под лавкой связали. Да Зар со Стахом ещё по бокам держали… Всё-то вместе они теперь оказывались. Что ни делали – непременно вдвоём.
– Что будет? – спрашивали старуху шёпотом.
– Что Бог даст, то и будет, – проговорила та вслух. – Но красавицей уж не будет, – добавила про себя. А потом заплакала: помнила это лицо…
Василя, которого лихорадило, и жар подступал такой, что сгореть впору, выходила она. Понятно, с Гназдами на подспорье. Гназды – они ничего оказались, ко двору. А после – и вовсе как родные. Это поначалу старушка с жизнью попрощалась – когда среди ночи, махнув через забор, ввалились в избу шесть здоровых молодцов. Уж так получалось у Гназдов: если вваливались куда – так непременно среди ночи через забор.
– Ты уж прости, Нунёха Никаноровна, – загудели нестройно, однако со всей обходительностью – и в поклоне шапки поснимали. Только тут и разглядела:
– Хартику! Стаху!
Обрадовалась бабка. А радоваться оказалось нечему. Тут же внесли девку. Потом мужика. И оба были плохи. Мужик-то чужой, а девку Нунёха узнала ещё с порога. Хоть личико в несколько полос ветошь закрывала. Окинула взглядом фигуру, поглядела на ручки-пальчики – и охнула:
– Бедная ты, бедная! Опять беда тебя настигла…
Одно Бог уберёг: оба глаза целы. Мечталось Гаафе факелом пройтись по личику, по волосам, да не успела.
– Кто ж так с ней? – цедя отвар, спросила старуха.
– Да моя ведьма, – тихо поведал Стах. И вывёртываться не стал – выложил всё, как есть: какая тут ложь, когда душа нараспашку? – Только спаси!
– Ты её, выходит, и спас, – покачала головой та. – Задержись ты чуток… В который раз? Пальцев не хватит счесть?
– Да нынче не я. Нынче, если разобраться, кобылка моя спасла… Всех спасла.
– А ну-ка, расступись, мужики! – повелела бабка. И верно, столько Гназдов в избу понабилось, что повернуться негде.
– Все вы здесь не нужны, половина – ступай на печь. Потом понадобитесь.
И, как ни странно, на печке уместились. Трое. Харитон да Никола с Фролом. В тесноте, друг на друга головы устроив, заснули разом, будто головы снесло. Нечего умащиваться: после всех походов ни стон, ни крик не потревожит. А крика было довольно…
Пока до Лалиных косточек дошло, рассвет поспел. Без оконного света, при лучинах да свечках, не дерзала Нунёха с личиком мудрствовать. А на свету приступила. У восточного оконца как раз… На то когда-то и оконце прорубили. Для первых лучей. И с первыми лучами пытка пошла… Личико-то с прошлой ночи покорёжено… Покорёженным уж и прилаживаться стало. Теперь поди, переправь нелады. Вспухло да набухло.
– Не глядите, ребятки, – посоветовала бабка Гназдам. Особо Стаха подальше гнала. – Это не её лицо, – вразумляла. – Да и не лицо вовсе. Это боль-несчастье такое с виду.
Стах понимал. Злая ведьма заколдовала его Лалу, но чары рассеются, надо только в помощи радеть да ждать. А уж потрудиться – он из кожи вылезет. Нунёхе он верил: спасла ж однажды Лалу, когда та в змею обратилась…
Конечно, личико расколдовать – это не горшок разбитый склеить, не бочку засмолить, не самовар залудить. И кабы не Нунёхины ручки – никто б со столь тонкой работой не справился. Стах и Зар от ручек старательно отводили взоры, боясь сглазить. Иван же – напротив – то и дело вперялся жадным взглядом Нунёхе через плечо и ловил движение пальцев. И, порой забывшись, так нависал, что Нунёха шумела:
– Да не дыши ты на девку духом своим табачным! И не тряси над ней бородищей!
С Василем трудов оказалось меньше. Пуля с краю прошла навылет, и выцарапывать железо не пришлось. Но ногу молодцу порядком разнесло, так что пришлось заветными настоями рану промывать и самого отпаивать. Недели через две перекрестились Гназды размашистым крестом и вздохнули с облегчением. Ясно стало: на поправку Василь идёт. Жар спал, нога в свои границы вернулась, единственно, опираться на неё нельзя, так что ходить за ним приходилось. А в остальном – сам себе хозяин. Василь повеселел. И загрустил. Особенно, когда спохватившись о делах и семьях, братья стали разъезжаться:
– Мне в Плочу надобно…
– Меня в Засте заждались…
– А я… скоро Масленица… с женой бы повидаться…
Вспомнив про Масленицу, все заволновались.
– А? Сташику? Справитесь же без нас? Мы вас после навестим… Чего тут зря тесниться? Мешаемся только. Да и дома надо сказаться. А то – словно сгинули…
И разъехались братцы. Иван в Плочу, Никола в Засту, Фрол и Зар – в гнездовье. Да и Харитон не задержался.
– Ребяту! Зару! – не сдержался Василь при прощании. – Возьмите меня с собой. В седле усижу, в пути подсобите, как-нибудь доберёмся… Дома жена походит… А чего я тут место пролёживаю? Нунёхе Никаноровне заботой. Да и, – понизил он голос, – при девке мне того… неловко…
Зар заколебался. Но старуха колебания пресекла:
– Успеете. Зима. Путь не близок. Ещё натрёте да намнёте. Не спеши, Васику, погости ещё. А девке не до щепетильностей.
– И то верно, друже, – согласился Зар. – Останься чуток. Мы потом за тобой приедем.
Фрол кивнул:
– Через две недели.
И в окно глянул:
– Только не нравится мне оставлять…
– А что? – удивился Зар.
– Лес близко… – поморщился тот.
– А чем лес тебе плох?
«Чем, чем? – промолчав, насупился Фрол. – Волки в лесу!»
Щенок ко всем привык и провожал каждого. Вот и Фрола с Заром проводил. Полаял вслед уносившимся коням – а бежать не стал: уже понял, что не догнать. И вообще: Стах с Лалой тут, тут и миска – чего убегать? Разве, вместе с хозяином чуток прогуляться, пока тот постоит на околице да рукой вослед помашет.
Вот и тихо стало в доме. Только Нунёха горшками гремит. Да по ту сторону печки Василь постукивает: взялся что-то тесать с печали. Лала по эту сторону, у окна – и смотрит, как братец с Фролом выводят в ворота лошадей да с прощальной улыбкой на её оконце оглядываются, как вслед им Стах идёт, походкой спокойной и столь притягательной, что век бы смотрела. А ему на неё грустно смотреть. Да и на что смотреть-то? На лице повязка, вечно пропитанная всякими снадобьями. Лечит Нунёха, и все надеются. Брат прощался – только по руке погладил. А головы коснуться боится – тоже надеется. Вот и Стах надеется. Вон, идёт, возвращается от ворот. Сейчас к Лале подсядет, руку ей на колено положит, спрашивать станет: мол, что сделать ей да что подать. И в глаза заглянет. В тёмные провалы между намотанной ветоши. Что там увидишь, кроме тоски? А он всё кормит с ладони чудесную птицу, гладит по пёрышкам – ждёт. Но при перевязке Лала уже склонялась над тёмной дубовой бочкой, полной воды. Она знает.
За окном шёл медленный снег. И никакого мороза. Так, зимняя мякоть. Натащило облаков, дни серые да хмурые, воздух промозглый, и голова болит. Прежде никогда не болела, а теперь – что ни день… Может, облака виноваты. Раньше так подолгу Лала на них не глядела: некогда было. Это нынче – гляди себе. Не велела Нунёха ничего по хозяйству делать. Только третий день, как позволила на холод выйти. Да и не могла прежде Лала выйти. До сих пор ступает еле-еле: так надрала да намяла ей щиколотки верёвка. А чуть нагнёшься – сразу в виски горячая волна. Потому и братца проводить не вышла. Порывалась, было – да он не велел: сиди-сиди. Хотя накануне выводил её. А ещё раньше – Стах. Неторопливо, ненадолго, под локоть поддерживая. Думает, ей от духа свежего лесного радостней станет. Задышится легко.
Жаль их огорчать. Лала не перечила. Опираясь каждому на руку, походила по утоптанному снегу. Только разве доберётся лесной дух под льняные полосы, оставляющие свободным лишь треугольник у кончика носа… странного, чужого носа… Нунёха поговаривает, повязку скоро можно снять. И смотрит на неё вопросительно. Понимает: умрёт Лала, но лица не откроет. Пока Стах рядом. Вот если бы уехал… И стазу жуть берёт: а ну, как уедет? Ведь только и можно жить и дышать, пока Стах рядом.
А старушка не прочь была, чтобы молодец прогулялся. Подольше так. На месяц-другой. Может, ещё поможет Господь. У ребяток всегда дела срочные, уговоры важные, хлопоты барышные. Пути да разъезды – только трубки пыхтят. А Стах поминал по случаю, что и там у него долги, и там… Только ведь не оторвёшь от царевны: всё чуда ждёт. А чуда не будет. Хотя и Нунёху не облетала золотая птица. Смотришь – обронила перо. Сколько живёт Никаноровна – столько сыплет ей крошки. Сперва Бог сыночка забрал, потом и мужа, а там на племяшечку со внучаточкой понадеялась – и тех не стало. Теперь Харитон у неё только. И вот, Лала… Как бы не сложилась девкина судьба, птица не устанет ворковать под окном да о ставень головкой тереться. Мужики – они ничего, конечно… Какой – стена, какой – костыль – а всё не без подпорки… Только уж больно глазастые: всё-то им личико надобно для счастья. А если любишь – значит, счастья прочишь. Вот и отпусти за счастьем. А для себя… Вон по лугам трав немеряно, цветов несчитано, и руки дал Господь умелые-чуткие. Передаст старая молодой всё, что знает.
Взяла и сказала, внезапно и не к слову:
– Ничего не страшись, девка! Всё – трава.
Лала хотела улыбнуться – да не может она теперь улыбаться.
Впрочем, время берёт своё. Февраль сменился мартом, проглянуло солнце, и, пока дороги не развезло, заторопились молодцы. Вернулся Харитон, вести принёс:
– Надо тебе, Стаху, к артели съездить. Ребята спрашивали. Собирают обоз, без тебя никак.
Стах и сам понимал, что на самотёк пустил промысловые звенья. Отвечает же за достаток доверившихся ему охотников. Оглянулся на Лалу, та кивнула.
– Ты отпускаешь меня, Лалу? – понимающе вздохнул он. – Не затоскуешь, обещаешь мне? Кто ж тебя под руку-то поддержит, погулять выведет?
– Да справимся! Зар приехать обещал! – зашумела на него Нунёха. – Уезжай ты, душу не трави! Дай девке обвыкнуться.
– И я пока побуду, – встрял Харитон. – Хоть воды потаскаю, дров поколю, Василя обихожу. Там, поди, без меня сообразят.
– Я побыстрей постараюсь, – всматривался Стах в поисках истинного ответа в проруби Лалиных глаз. Говорить она пока не могла. Да и что слова…
– Разберусь как только со всем, сразу вернусь, – обещал Стах с тяжёлым сердцем: знал, что предстоят дороги, и долгие.
– На рассвете уеду, – буркнул, так что едва разберёшь.
– И правильно, – напористо вмешалась старуха. – Разберись, уладь, чтобы надёжно да наверняка, и назад особо не рвись: не пропадём. Давай-ка складывайся, чтоб сразу с утречка, и не задерживаться…
– Погоди, бабка… – сердито оборвал её Стах и покосился на приятеля, – и ты, Харту, погоди… Дайте проститься…
Ибо предстоят дороги, и долгие. И на дорогах подстерегают опасности. Не только волчье воинство.
Стах подхватил с лавки брошенную серую шубку. На миг задумался, переводя взгляд с шубки на Лалу, в окно и опять на Лалу. Взвилась шубка – Лале плечи окутала. И там и всю завернула. Стала Лала серой-пушистой, словно дымка за окном. Стала мягкой-податливой. Потянул её Стах за собой:
– Пойдём, свежий снег потопчем… – и вывел в густые сумерки. Там падали рыхлые хлопья, ложились под ноги. По ним ступалось тихо и осторожно, словно крадучись. А следом крался мрак, пряча от взоров, а где-то кралась весна, полная теплых воздушных потоков. Совсем в темноте Стах подтолкнул Лалу к сараю. Впервые за всё чёрное время. Прежде боялся: невзначай ещё порушишь хрупкие птичьи перья.
– Ах? – только и смогла удивиться Лала: единственное слово, какое выговорить получалось.
– Вот-вот Масленица… – напомнил Стах. – И нескоро увидимся.
– Ах? – с сомнением выдохнула Лала.
– Да не холодно… сена Харт навёз…
– Ах, – скорбно опустила глаза Лала. И отвернулась.
– Лалу, – сурово сказал Стах. – Ты же знаешь, я тебя очень люблю. А что лицо закрыто – неважно. Я же помню, какая ты красавица! Ты всегда будешь краше всех на свете!
Лала посмотрела на него. В темноте только глаза поблёскивали, светлые любящие Стаховы глаза. А лица не разглядишь. Которое она никогда не забудет. И она пошла с ним в сарай. Хотя даже поцеловать не могла.
Когда взошедшее солнце розовыми и голубыми полосами расцветило мартовский снег, плоский, жёсткий, словно сахар, Лала стояла у калитки и смотрела на дорогу, по которой уехал Стах – и, пока не скрылся за поворотом, то и дело сворачивал шею, оглядываясь. Оглянулась наконец, и потерявшая терпение кобылка.
– Ииииааа! – истошно заржала она со всем лошадиным негодованием. И без лошадиного толмача стало ясно, что подразумевала:
– Хватит, хозяин, уздой меня сдерживать, отпусти на волю, дай разбежаться, расправить затёкшие крылья: считай, с месяц я не черпала грудью свежего ветра, не летела с ним наравне, взрывая хрустящее снежное крошево! Хватит, хозяин, крутиться назад – вперёд смотри, коль решился! Скакать и скакать нам с тобой, а впереди мир, который не паточный и не пряничный, и с которым поладить надо…с ножами его да кольями… Хватит тебе, краля безликая, у ворот стоять. Поцвела майской вишней, ослепила мир, как на солнце в мороз лёд колотый – и будет с тебя. Дай отдохнуть: глаза болят от блеска, хоть прикрой рукой. А руки для трудов надобны. В тусклой жизни сверкание – радость, в бурной жизни сверкание – горе. Устаёт душа, покоя просит… Вот и отдохните.
И понеслась лошадка, себя не помня – вмиг за лес завернула – только уже из-за первой берёзы обернулась на маленькую грустную фигурку вдали. И захотелось смахнуть крупную слезу, ненароком повисшую на длинных пушистых ресницах, да нечем лошадям слёзы с ресниц смахивать. Потому жалобно заржала, закинув назад голову:
– Не плачь, подруга. Такая наша бабья доля. Я, вон, тоже… – всхлипнула и обтёрла влажный глаз о буланый бок, – когда ещё со своим увижусь… думается порой, он мне даже хозяина милей. А ведь прежде – никого дороже не было. Доведётся ли встретиться? А что поделаешь? Служба! Лошадиный долг!
Стах участливо потрепал кобылку между ушей:
– Ну-ну, ты чего, Дева, загрустила! Давай веселей! – и, погладив по холке, сам вздохнул, – вишь, как всё у нас весело…
Лошадка подумала – и согласилась: в самом деле, чего плакать? Живы-здоровы, а наперёд впустую загадывать. И резво версту за верстой одолевала – знай, копыта постукивают, где позвонче, где поглуше, а где и вовсе не слыхать. Один раз только запнулась и всхрапнула в сторону леса.
– Чего там? – вгляделся хозяин в сизый мрак. Но лошадка только головой мотнула и дальше пошла: «Что-что? Не всё тебе, хозяин, знать надо…» В густом лапнике померк пристальный взгляд тусклых зелёных глаз. Хмурая волчица отползла за ближнюю ёлку, а там, отворотясь, трусливой рысцой побежала прочь. Единожды быстро глянув через плечо, мрачно решила: «Не по зубам ты мне нынче, молодец. Вот когда раненый будешь лежать, или другая беда какая – тогда жди…»
Но тут уж ничего не поделаешь – знай, не знай. Известное дело. Волчье дело.
К концу зимы волки совсем обнаглели и подходили почти к самой деревне. Стылыми ночами мужики слышали тоскливый вой. Потому Харитон, день спустя по отъезде приятеля в лес отправляясь, ружьишко на плечо нацепил: а чем чёрт не шутит? С дровами бы ещё и повременить можно: поленница не иссякла, но чего ж до края дотягивать? К тому ж, грех лениться, пока снег лежит. А главное – бабка до того выразительно глянула, что Харт понял: убраться надо на время. Вот, за дровами, скажем…
Когда на закате вернулся он с гружёным возом, чутьё подсказало: что-то переменилось. И, свалив дрова да напоив лошадь, в избу он не заспешил, а ещё долго во дворе всё чего-то устраивал и прилаживал, и толкнулся в сени сумерками. Ему бы с порога разом на печку запрыгнуть: поди, старуха крынку с ломтём и туда подаст, но дёрнуло его бросить взор вглубь горницы, а ведь пищало внутри: осторожней! Не каменный родился Харт, и не железный. Ко всему был готов, но глянул – и губы дрогнули. И сразу в отчаянье понял: эту дрожь уловила та незнакомая женщина, что возле печи свечку от уголька зажигала и обернулась к вошедшему. Так и замерла, со свечой в руке. Покрытое пятнами лицо перечёркивала неровная красная полоса. Рот застыл в странном очертании. И губ словно нет, и нос не строен. Вот оно какое теперь, лицо у прежней красавицы. Одни глаза остались, да и те безрадостные… Нечем тут, как прежде, любоваться, а хочется взгляд скорей отвести… да отведёшь – ясней поймёт, каково на неё смотреть… И Харт улыбнуться себя заставил – уж как получилось, так получилось. И, сколько сумел, беспечности в голос вложил:
– Я вот… дрова привёз… ничего, мороза-то нет, но зябко…
Понатужился и засмеяться:
– Волков, однако, не встретил, только зазря воют…
И поспешно к старухе повернулся:
– А есть хочу, прямо как волк…
И Нунёха выручила его: подхватилась, к столу подпихнула, из печи горшок каши потянула:
– Вот и кстати, вот и умник, только тебя и ждали, давай-ка, садись, и мы подсядем.
Навалив каши Харитону, к Василю обратилась:
– Василь, и тебе миску, ладно?
– Да я ж ел недавно, Нунёх-Никанорна, – откликнулся тот, на досуге по старому сапогу лапоть заплетая, – я не голодный.
– Вот зарастёт рубец – поторгуешься, а пока ешь, раз есть.
Спокойно и весело говорила, словно день был обычный, и вечер обычный. Словно нынче утром, едва затька выпроводив, и не приступала она к Лале с такими словами:
– Ну, голубка. Давай. Начнём с Божьей помощью. Деваться нам некуда, рано или поздно придётся, и давно пора. Ничего. Ветерком обдует, солнышком погладит. Белый свет – особое снадобье.
И незаметно зеркальце с поставца спрятала. А к вечеру окна старательно завесила. Хотя – от всего не убережёшься. Но с этого дня лица Лала больше не завязывала. И на мир смотрела, не таясь.
Харитон, честь по чести, дождался Зара. Накануне на Масленицу наелся Нунёхиных блинов. И тогда только со всеми распрощался.
– Поеду я… Может, и не пригожусь – а кто знает? Чего ж там Стах один с волками рубится? Почему обоз-то задерживался – цену нам опять сбивают. Ещё какая-то пасть ощерилась.
– Кто ж это? – спросил Зар озадачено.







