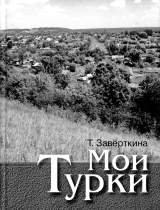
Текст книги "Мои Турки"
Автор книги: Тамара Заверткина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Глава 3. Осины
Сыграли свадьбу. И Наташа с Крымской горы переехала на Лачинову улицу к Петру. Все ей здесь нравилось: и ласковая свекровь, и приветливые старики, и глухонемой брат мужа, которого ей было так жаль, и хорошенькая девочка Лизавета, младшая сестренка Петра. Но больше всего ее привлекал здесь простор этой улицы, который давал будто бы простор и свободу душе:
– Глянешь от вас на Селявку, простор нескончаемый, не то, что на нашей Крымовке, где на улице двум телегам не разъехаться. Красота у вас тут, Петя, только б любоваться.
Обняв жену, Петр повел ее показать огород. Наташа ахнула, всплеснув своими нежными руками:
– Чудо! А у нас там огород идет по склону оврага. Поливаешь, а вода вся вниз убегает. У вас же равнина. Счастье какое! Здесь справа мы с тобой смородину посадим черную и красную.
– А вишня, смотри, к нам от соседей перешла, – показывал Петя. – А видишь этих двух красавиц?
И он показал на две стройные кудрявые яблони. Их он сажал в памятный для него год, когда утонул его отец. Было Пете тогда только девять лет. Доктор Ченыкаев рассаживал сад, а два саженца выбросил. Жаль их стало Пете, хоть доктор сказал, что яблоки от них будут невкусные. Но не засыхать же саженцам на солнце. Посадил их мальчик в своем огороде на самом просторе. Оба саженца принялись, подросли, начали приносить плоды.
– Залюбуешься весной их цветами. Вот эта, что повыше, цветет снежно-белым цветом, даже с голубым отливом, и яблоки на ней до жути кислые, но удивительно ароматные. Даже ни одни из вкусных яблок по аромату не сравняются с этими. Вторая же яблонька цветет ярко-розовым цветом. Яблоки на ней крупные, желтовато-румяные, а вкус у них пресный, чуть сладковатый, но с горчинкой. Мы и прозвали эти яблони Кислушкой и Преснушкой.
{Прошли десятилетия. Давно не стало Ченыкаева сада: одни яблони засохли, другие после хозяина спилили. Лишь Кислушка с Преснушкой стояли как лесные великаны, словно дубы. Под этими яблонями для всех детей Куделькиных, а потом и для всех их внуков было самым любимым местом. Привязывали к яблоням гамак, отдыхали, читали, тут собирались друзья, пели песни, устраивали репетиции. Сюда приходили на свидание. Две красавицы-яблони дождались и правнуков Петра, а сами и не собирались стареть. Но вот вышел закон о том, что у всех жителей, кто не работает в колхозе, уменьшить садово-огородные участки до пятнадцати соток. Почти половина огорода, в том числе и яблони, стали ничейными. Но мы по старой памяти продолжали их любить, считать своими. Когда через много лет в переулке стали строить дома, и отрезанная у нас и наших соседей земля могла потребоваться новым жильцам под огороды, папа Сережа спилил эти яблони на дрова. Я долго по ним горевала).
– Славно у вас, Петя.
– А не трудно ли тебе будет хозяйствовать в семье? Ведь нас восемь человек.
Наташа улыбнулась:
– Да ведь и нас там было восемь. Только на руках у меня – все малыши. А у вас взрослые, все работают: бабка у печи помогает, дед во дворе у скотины, ты работаешь, мать тоже, вот и брат твой училище заканчивает, становится на ноги. А как выйдем всей семьей в поле, никакая работа не страшна!
Любуется застенчивый Петя своей молодой задорной женой. Но вот она спросила:
– А откуда у вас грудной ребенок Танька? Кто отец?
Петр смутился:
– Это мать скрывает. Это ее тайна, ее беда.
И заспешила Наташа домой варить Танюшке кашку.
Да, не мало, думает она, будет работы в новой семье. Все запущено. Чистоту наводить надо, не привыкла Наташа так жить. А сколько чинки! Все у них рваное: наволочки, полотенца, рубахи. Свекровь от купчих старые вещи приносит. Можно из них кое-что перешить и для этой семьи, и для той, на Крымовку. Только и мелькает иголка в ловких пальцах Наташи. А в мыслях сожаление о том снова, что нет у них швейной машины, мысли об отце, о сестренках и братишках, которых постигло горе: вскоре после свадьбы Наташи неумеха Санятка не смогла как надо привязать корову. Бедная скотина запуталась в веревках и задушилась.
Еще ниже склонила Наташу голову над шитьем, еще быстрее заработали пальцы, замелькала иголка.
– Повезло Маше с Наташей-то Осиной, – говорили соседки.
– Что верно, то верно. Вон и Танюшку чуть в зубах не таскает, будто своего ребенка.
Но через год у молодых родился свой ребенок, сын. Назвали его в честь отца Петром. Мальчик прожил всего несколько месяцев. И первого своего ребенка они вскоре похоронили.
Начал самостоятельную работу младший брат Петра. Вскоре он принес свою первую получку и передал ее Наташе.
– Не удивляйся, – сказал муж, – он тебя считает хозяйкой в доме. Да и мы все тоже. А матери деньги доверять нельзя, она их пропьет.
Наташу эти слова ударили как обухом по голове. Вновь вспомнилось, как пьяный отец издевался над матерью и свел ее в могилу такою молодой. Сердцем Наташа жалела свекровь, гнувшую долгие годы свою спину над купеческими корытами, а потом, застывая у проруби Хопра, нуждающуюся в спиртном, чтоб согреться, не заболеть. И все-таки в душе появлялся холодок, когда она замечала, что свекровь возвращалась под хмельком, искала повода к ссоре дома с родными.
Но вот у Наташи родилась дочка Евгения. И этот ребенок только До лета чувствовал себя хорошо. Летом ее смыл понос, и Женечку похоронили.
– А не ешь ли ты девка, огурцов, когда кормишь младенцев грудью? – спросила старая бабка Марья Наташу.
Вот она, причина! Слышала и прежде от кого-то она раньше да не придавала значения. И уж очень хороши были свежие огурчики со своего огорода, которые целыми мисками срывала Наташа. И не верила, что от огурцов будет вредно детям. Теперь зарубила себе на носу твердо – не есть огурцов, если Бог даст ребенка еще.
Дел в доме было невпроворот. Напрасно Наташа думала, что в этом доме будет легче. Взрослым и пищи нужно варить больше, от печки почти некогда было отходить, так как бабка Марья все слабела. И шить взрослые вещи сложнее: они требовали больше времени. Обшивала всех Наташа сама. Хоть всю ночь не спи, а всего не переделаешь.
Третьему малышу в доме все были очень рады, родился Василий. Рос как на дрожжах. Уже быстро перебирал ножонками по полу, смешно лопотал. А имя Василек ему необыкновенно подходило – веселые голубые глаза, вьющиеся светлые волосы. Он не любил плакать, и в доме от него было словно светлее.
А после Василька Наташа принесла Зою. Свекровина Танюшка еще небольшая, свой Василек только еще учится говорить, грудная Зоя заливается плачем в люльке, подвешенной к потолку, куча белья у корыта, и дед один не справляется в поле.
Приходилось Зою и Танюшку оставлять иногда на подросшую уже Лизавету, сестренку мужа, а с Васильком ехать в помощь деду в поле. Но чаще в поле брала с собой Зою, так как ее надо кормить грудью. Укладывала ее в холодке, а сама жала рожь. Не могли все взрослые выезжать вместе в поле, как мечталось когда-то. Они были на заработках, батрачили.
Как-то, возвратившись домой с работы, Петр застал жену в слезах:
– Васька заболел. Горит весь, дышит трудно. Ни в поле не простывал мальчик, и дома простыть негде. И все же простыл.
Умер Вася от воспаления легких. Ох, как горевали родители и все родные в доме!
– Зоюшка, кровиночка, хоть ты не оставляй нас, – молила Наташа.
И Зоя улыбалась. Уже умела стоять на ножках, удивленно глазела на мир.
Однажды ночью проснулась вся семья от страшного зарева. Светло как днем. Горели сразу семь домов, начиная от Кузьминовых, кончая Громовыми. Горели и Куделькины.
Спросонок плохо соображали, что спасать в первую очередь от огня, который рвался уже в окна и двери. Хватали подушки, перины, одеяла. Бабка, обезумев, вытаскивала заслонку от печки.
Но каждая мать знает, что надо спасать сначала. Наташа взобралась на табуретку, пытаясь снять с крюка люльку, в которой спала Зоя. Крюк, как назло, не поддавался.
– Сгоришь! – услышала она над самым ухом. Кто-то с силой дернул ее за руку и поволок через горящие сени и крыльцо. Кто-то сорвал люльку и бросился с ней сквозь пламя. Искры сыпались на полог, висевший вокруг люльки, сыпались на пеленки. Вся люлька запылала, как костер.
Зоя пострадала сильно. Обгорело лицо, шея, грудка, часть живота, ручки. Но у ребенка были еще силы истошно кричать от боли. Наташа потеряла сознание.
Зои больше не стало.
Пожар произошел оттого, что загорелся по какой-то причине один из домов. Ночь была ветреная, а крыши у всех покрыты соломой. Достаточно искре упасть на сухую солому, и все загоралось, как костер. Погорельцы расселились в хлевах, сараях, мазанках, полов-нях. Посоветовавшись, все приняли решение строиться незамедлительно, иначе негде будет зимовать. Не было времени на расчистку пепелищ, дорожили каждым днем.
Строиться стали все в своих дворах. Вот почему часть улицы стала потом много шире: семь домов отступили от центральной линии.
И снова все строили дома саманные, то есть из глины и деревянных чушек (чурок), втопленных в глину. И снова покрывали все свои дома соломой. Иного строительного материала не было, купить – не по средствам. Работали от зари до зари, только б успеть к зиме.
Наташа после всего случившегося долго была словно окаменевшей: молчаливая, безучастная, с отсутствующим взглядом, каменным лицом. Приходил отец, уговаривал:
– Наташа, доченька, а ты поплачь немножко, легче станет.
Уговаривали и другие родные, соседи. Но в груди был ком и в горле ком, а слез не было, хоть и рада была бы Наташа выплакаться.
(И в старости моя бабушка – мама Наташа – не могла плакать; я не видела ее слез даже в труднейшие моменты ее жизни, когда приходилось ей неимоверно страдать, теряя взрослых детей. Ее горе было как бы сильнее слез, она не могла поплакать и расслабиться, а несла муку в себе).
Погорельцам помогали родственники. Куделькиным помогал Наташин отец Николай, в те годы еще сильный, всегда трезвый. Деньгами помогал его брат Алексей. Петру пришлось рассчитаться у мельника и впрячься в работу. Оставила купцов Смоляевых, Ипполитовых и Зеченковых прачка Маша, мать Пети. Только минутами в работе от своего горя забывалась Наташа. Строились всей семьей.
В зиму вошли все-таки в новый дом. На мельницу работать Петр больше не пошел. Он решил своим трудом отблагодарить дядю Наташи – Алексея Осиповича, стал работать у него в колбасной мастерской. За труды поначалу Алексей не платил ничего. Он давал Петру сала, костей, ножки от скотины. Позже стал платить, но очень мало. Однако колбаса и наваристые щи из костей у Куделькиных на столе были часто.
Хорошо помогал семье глухонемой. В слесарном и токарном деле стал большим мастером, зарабатывал прилично. Ему давали на работе ответственные заказы зачастую такие, которые многим были не по плечу, ремонтировал различные машины. И, несмотря на то, что был глухим, поломку машины узнавал по вибрации через землю, ощущая это ногами. Получку, как всегда, отдавал только Наташе. И сам стал одеваться прилично. А однажды свершилось чудо: он купил ей швейную машину – ее заветную с детства мечту.
(Сейчас эта зингеровская заветная машина у нас в Орске, мне ее подарили, когда я выходила замуж. Машина служит уже сто лет и «приказывает» работать ежедневно: чем больше шьешь, тем лучше шьет; пропустишь какое-то время – строчки хуже).
Наташа после пожара, похорон дочки и строительства дома осунулась, похудела.
– Не печалься так, – говорил ей муж, – живут же семьи и без детей. Это уж кому какое счастье.
И Наташа разрыдалась. Впервые после пожара. Да так, что не могла вымолвить ни слова. Так и не узнал Петр на этот раз о том, что у них через несколько месяцев снова родится ребенок.
Шел 1905 год. Вести о революции в городах докатывались и до села. Да и в самих Турках были созданы политические кружки. Рыбников, женившийся на их соседке, приехал из-под Питера. Поговаривали, что он революционер. И о докторе Ченыкаеве ходили разные слухи. Такой барин, с виду богатый, приехал из города, сколько средств вложил в строительство клуба, построил под стать городскому театру. И больницу отгрохал кирпичную с амбулаторией и светлыми палатами стационара. Теперь планируют строительство кирпичной двухэтажной школы – и во главе всего доктор Ченыкаев. А себе домишко поставил крохотный из трех комнат: в одной сам ютится с семьей, в другой больных принимает, а третья с выходом в сад непонятно для чего. Шепотом люди ее конспиративной квартирой зовут.
И никому непонятно, зачем себе такой сад насадил, во весь пустырь в пол-улицы. А плоды из сада либо отсылает в больницу, либо раздает соседям близлежащих домов.
С утра принимал больных у себя дома, а с обеда допоздна посещал больных на дому. Недаром целое столетие спустя о нем с благодарностью вспоминают жители села и посвящают ему стихи:
Словно книгу читаю хорошую,
За страницей страницу листая,
Погружаюсь в историю, в прошлое,
В мир, где доктор жил Ченыкаев.
Там и люди, и судьбы разные… —
Но куда же вы, доктор, куда?
На заборе тряпица красная,
Значит, в доме этом беда.
Бескорыстно спешил на помощь
В дом последнего бедняка,
Где не только каких-то сокровищ,
Где и хлеба порой – ни куска.
Сколько боли людской услышано,
Сколько горя и скорби вобрал!
Он лечил не всегда по книжному,
Добротою своей исцелял.
Сколько доброго и полезного
За день сделать он успевал,
И ночами веселые пьесы
Для турковских спектаклей писал.
Чтоб Турками могли погордиться,
Сделать доброе поспеши.
Пусть же в каждом живет частица
Ченыкаевской щедрой души.
Т. Буткова
А вот Шапошников крестьянам был понятней. Молокосос еще был, а у купца сумел деньгами разжиться, правда, суммой небольшой. Приглянулся ему пустырь, куда мусор сваливали, да иногда кто пускал теленка попастись.
Задумал Шапошников на этом пустыре сад рассадить, а на скопленные деньги купить саженцев, а кое у кого и так взять: небольшие садики при огороде в Турках у всех есть, саженцами поделятся. Стал просить у властей тот замусоренный пустырь под сад. Посмеялись над ним, да и разрешили, коли соседние с пустырем крестьяне будут не против. Поставил Шапошников мужикам две четверти водки, да и попросил не вмешиваться в его затею. А мужикам что, пустыря в репьях да татарнике не жалко.
Женился Шапошников (кстати, на какой-то родственнице мамы Наташи, только очень дальней). И рассадили они огромный сад. В турковской черноземной почве любой прутик расти будет. И потянулся к солнцу молодой сад. Стал давать и плоды. Шапошников – не Ченыкаев: везет возами продавать фрукты в те места, где нет садов, и выручает большие деньги. Вот уже в саду поставил дом, да какой! Раза в три-четыре больше, чем у Ченыкаева. У дома затейливый балкон и веранда. Комнаты отделаны разным цветом: голубым, розовым, белым. Вот уже Шапошников построил себе магазин в центре села, а рядом с ним еще один, уже теперь кирпичный жилой дом.
А Ченыкаев в то время не только лечил больных, но действительно занимался революционной деятельностью. Нелегальную литературу ему поставлял сын из Москвы.
Доктор хотел, чтоб в селе меньше было больных, чтоб дети всех сословий, в том числе и бедноты, ходили в школу, не были темными, которых легче закабалить, заставить бесплатно гнуть спину на богача, чтоб народ понял, что пора сбросить проклятый царизм, взять власть в свои руки и задышать свободнее.
Он организовал политические кружки. На занятия кружков заходил и Петр Куделькин, приносил домой тоненькие брошюрки, читал их украдкой.
– Петя, оставь ты это. Вон сколько уже людей арестовали. А вдруг и тебя заберут?
– Забирать меня не за что. Но жить народу, как жил он веками в лаптях да при лучине, тоже нельзя. Бороться надо, чтоб люд на земле жил получше. Посуди сама: оболтус богатого сидит за партой годами и ничего не смыслит. Он же занимает место другого, пусть бедного, но умного, а, может быть, и талантливого ребенка, который с семи-восьми лет идет в подпаски. Это справедливо?
И Наташа умолкала. Она все понимала. Богатство у толстосумов – не их богатство: оно нажито за счет других людей. По совести оно и не принадлежит им, так как оно народное. Вот и отобрать бы все свое у богачей.
Но всегда неспокойно было на душе у Наташи – каждый вечер до тех пор, пока Петр не возвращался домой.
Днем не раз слышала Наташа о том, что горят по деревням помещичьи усадьбы, особенно самых жестоких помещиков. А в Турках громил народ купеческие лавки.
Однажды Петр принес вечером тюк сатина.
– Не надо, Петя, слышать об этом не хочу, посадить тебя могут, – умоляла Наташа.
И старая мать смотрела на тихого сына с удивлением и испугом.
– А вы не бойтесь, я его под колоду спрятал, никто и не найдет. Но то ли свекровь успела проболтаться соседям и сатин украли, то
ли она сама, опасаясь за сына, сбросила сатин в какой-либо колодец, но утром под колодой сатина уже не было.
Революция 1905 года не достигла успехов, арестовали очень многих. Революционеры ушли в подполье.
В конце ноября (22-го) 1905 года у Куделькиных родилась дочь. Назвали Екатериной.
Девочка была неспокойной, нервной, крикливой. Внешне походила сразу на всех: у матери взяла цвет волос и высокий лоб, у отца восточный разрез глаз и овал лица. А у прабабушки Марьи ее ярко-синий цвет глаз и нежность кожи. (Когда Катюша стала взрослеть, стали говорить о том, что она даже лицом начинала походить на прабабушку Марью, а особенно фигурой, строением шеи, груди).
В Кате вся семья души не чаяла, особенно отец. Едва придя с работы, бросался к малышке. Он только что пылинки с нее не сдувал. Без ума от дочки была и Наташа. После того, как похоронили четверых детей, она уж и не чаяла иметь ребенка. Баловали девочку очень.
Через три года после рождения Кати появился на свет Николай. Его рождение и первые годы жизни проходили для семьи незаметно. Главенствующую роль занимала шустрая любимица Катя. Между собой дети были очень дружными, почти неразлучными. Позже, будучи взрослой, Катя вспоминала, что они в детстве с Колькой повздорили только один раз из-за первого огурца, который Николай нашел на грядке, а Катя вырвала из руки и бросилась по огороду наутек, а брат догнал.
Шли годы, дети подрастали. Однажды вместе с подругой Манькой Таня повела Катю на ярмарку. День был прохладный, все три девочки надели на головы платочки. Вдруг Катя остановилась как вкопанная:
– Вы не так повязали на меня платок.
– Ну, а как тебе его повязать? – спросила Таня.
– Потуже.
Повязали потуже, отошли несколько шагов, опять не так, опять просит повязать еще потуже. Подружки посмотрели друг на друга, расхохотались. Куда же туже?
– Да завяжи ей со всей силой, – посоветовала Манька, – не задуши только.
Татьяна так и сделала. У Кати в глазах даже слезинки появились.
– Теперь так?
– Вот теперь так.
– Отчего она у вас такая? – спросила Маня.
– Взрослые говорят, что Наташа, когда была в положении, тяжело переживала беды: пожар, смерть Зои, строительство дома и боялась за Петю, как бы не арестовали из-за каких-то политических кружков и книжек. Поэтому, наверное, и Катька немного нервная.
– А какая хорошенькая! И поет-то она у вас замечательно, – заметила Маня.
– Да она все до одной песни знает. И знаешь, Манька, умная какая. Иногда большие разговаривают, а она будто их и не слушает, играет в куклы и вдруг подскажет взрослым такое, что они сами и решить не могут, – хвалила свою Катьку Таня.
Любила Татьяна Катю и за смелость. И в самом деле девочка была боевая, шалунья, а порою и драчунья. Сладит – не сладит, а в обиду Колькиным товарищам себя не даст и брата защитит, первая налетит на обидчика.
В 1913 году в семье появился еще один ребенок, тоже мальчик по имени Сережа. Прабабушка Марья, полностью к этому времени ослепшая, спросила, беленький ли ребенок или черненький. И каждый раз радовалась, что дети рождаются у Наташи светлые, русоволосые, ни один не похож на смуглую Машу, отцову мать. Но чертами лица Сережа очень походил не на мать, а на отца.
Кроме повзрослевшей Лизы, подростка Татьяны, в семье у Петра и Наташи уже трое и своих детей.
В доме все преобразилось, повеселело: то тут, то там слышен радостный звонкий смех. И после долгого молчания вновь поет Наташа за шитьем. Стучит ли швейная машинка, наметывает ли ткань вручную, а песня льется:
В тиши ночной, прекрасной, дивной
Стояла тройка у крыльца.
С прелестной девочкой-блондинкой
Прощался мальчик навсегда.
(Текст этой песни записан в тетради мамы Кати).
В начале 1914 года выходила замуж и Лизавета, сестра Петра, крестная Катюши. Хороша была Лиза в юности. Стройная, с тонкой талией и пышной грудью. Служила Лиза в ту пору горничной в одном богатом доме. Часто хозяева приглашали ее пообедать с ними вместе. Не смея отказаться, Лиза садилась за хозяйский стол, но едва поев и поблагодарив, от стеснения стремилась быстренько выскользнуть из-за стола.
– Не спеши, Лиза; чем дольше посидишь за столом, тем дольше пробудешь в раю, – шутила хозяйка.
Однажды к хозяевам приехал их родственник, молодой офицер по имени Семен. Лиза очаровала его, и Семен сделал ей предложение. Готовились к свадьбе, нужны были деньги на приданое, к тому же подрастали и другие дети. И решил Петр уйти из колбасной своего родственника дяди Алексея, где получал гроши, а мастером к тому времени был опытным. Его охотно принял в свою колбасную богач Евдокимов Леонтий Афанасьевич, имеющий еще и свою пекарню, и несколько магазинов.
Лиза же после свадьбы уехала со своим мужем во Владикавказ, где он служил в армии. Там она устроилась в госпиталь сестрой милосердия. Но счастье молодоженов продолжалось недолго: Семен погиб, а Лиза вернулась домой.
В этот год Куделькины сфотографировались всей семьей. Взяли с собой и грудного Сережку. Но он так кричал, так изворачивался тельцем, что фотограф предложил делать снимок без него. {Это фото сохранилось у нас до сих пор).
Сережка порою так кричал, что плач его был слышен через весь овраг на Селявке.
– Ну, Наташа, и крикун у тебя, по всей Селявке слышно. Не иначе, как петь будет хорошо, – шутили селявины женщины.
Сережа, как и Катя, тоже был неспокойным ребенком. Может быть, беспокойнее Кати. Он очень часто плакал, когда немного уже подрос. Его и уговаривали, и стыдили за слезы, и бранили. Но сдерживать слезы он не мог. Были случаи, когда, стыдясь всех домашних, он подходил к старенькой бабушке Маше и шептал на ухо:
– Мама старая, собери меня на улицу, а то я орать хочу.
– Да ты что? Дурачок, что ли?
Но малыш упорно просил помочь ему одеться. Наплакавшись вволю, приходил успокоенный:
– Ну, вот я и наорался.
Но сбылись и слова селявиных женщин, слух и голос у Сережки были прекрасными, и песни он любил не меньше Кати.
Однажды взрослые выехали в поле. Дома бабушка Маша напекла пресных пышек, завязала их в узелок и послала Сережку отнести в поле своим к обеду. Долго шел мальчик полевыми дорогами. Кругом рожь стоит стеной, цветы, поют птички. Запел и Сережа:
Во субботу день ненастный, Нельзя в поле работать. Нельзя в полюшке работать, Ни боронить, ни пахать.
Работающим в поле ветер хоть слабо, но доносил слова песни и знакомый голосок.
– Да ведь это наш Серенька! Вот постреленок! Неужели один идет?
Время шло, а мальчика все не было. И снова вдруг донеслись слова песни, но звук едва был слышен.
– Да уж не заблудился ли он? Скачите кто-нибудь на коне. Искать его надо по голосу, по песне.
Догнали малыша километров за семь от своего поля. От развилки дорог он шел совсем в другую сторону. А когда стали есть принесенные им пышки, все тут же начали плеваться: бабушка Маша вместо соды положила в тесто хину.
Часто Наташа замечала, что ее свекровь после дойки коровы там же, в сарае, отливала молоко в горшок и прятала его в сено. Неужели молоко меняет на водку? Не утерпела, спросила.
– Чесалыциковым я ношу, Наташа. Умерла мать у горемычных. Один Григорий мается с малютками. Ленка нашей Катьке ровесница, а Грунюшка чуть постарше. Жалею девчушек.
Зашла как-то и Наташа к Чесалыциковым, да и ахнула: изба почти нетопленая, по углам иней, пол в избе земляной. Из-за печки выглянули две косматые головки с испуганными глазенками. У Наташи от жалости сжалось сердце.
Позже Катя с Леной Чесальщиковой стали неразлучными подругами. Григорий привел в дом девочкам мачеху.
Однажды Катюша играла с Ленкой у них в огороде. А над оградой из Шапошникова сада свесились спелые вишни. Но не достать ручонками малышкам эти ягоды. Ленка сбегала домой за кочергой. Только наклонила веточку, а кочергу из сада хвать из рук Лены. Вырвала из рук девочки подкравшаяся жена Шапошникова. Горько плакала девочка, молила отдать:
– Тетенька, изобьет теперь меня мачеха, отдайте. Мы никогда больше так не будем.
Так и пришлось Григорию самому идти за кочергой, просить прощения за крошку-дочь. {Вспомнила этот случай моя мама Катя, когда ей было без полутора месяцев девяносто лет).
Соседи Куделькиных стали постепенно забывать их настоящую фамилию. Домом верховодила Наташа по уличной фамилии еще на Крымовке – Осина. Никто не заметил, с какого времени семью Наташи и на Лачиновке стали называть Осиными:
– Я у Наташи Осиной узор сняла. Или:
– Пойду займу соли у Осиных. И так:
– Вон ребятишки Осины в овраг побежали.
И все привыкли, что они Осины, даже сами члены семьи и их дети. Спросят кого из детишек:
– Ты чей же будешь?
– Осин, – отвечает.
Старожилы моей улицы уже пятое поколение зовут Осиными. И я для многих до сих пор Томка Осина, даже моя дочь Люда для старушек тоже Осина:
– Говорят, Людка Осина приехала.
Доходило до того, что старшего сына Куделькиных Николая призвали служить в армию под фамилией Осин. Записывали призывников данной улицы, вспомнили, что у Осиных сын призывного возраста, да так и записали, так и служил Осиным всю действительную. Остался в армии, закончил летное училище, стал офицером. А фамилию Осин носить продолжал.
Шли годы. Началась война с Гитлером. А кадровый офицер, подполковник получает письма от родных то на Осина, то на Кудельки-на. Время военное, неспокойное. Создали комиссию:
– Что же получается, Николай Петрович? Осин вы или Кудель-кин? Объясните комиссии чистосердечно.
Объяснил – не поверили.
И в грозные годы войны приехали из воинской части в Турки представители. Ходят по улице и спрашивают показать, где проживают Осины. Других – где проживают Куделькины. Но только все показывают на один и тот же дом. Поверили, наконец, подполковнику. Но с тех пор он стал носить одну фамилию, настоящую – Куделькин.
Но вернемся к прежним временам, когда Катька, Колька и Се-ренька были детьми.
Дело было под один из больших церковных праздников. Приехали к Осиным из Ильинки дальние родственники, чтоб пораньше утром пойти в церковь к заутрене. Изба у Осиных была тесновата. Спать с вечера положили всех приезжих на овчинные шубняки да тулупы на полу. Неуютно стало в доме, запахло старой овчиной.
Утро выдалось прохладным, и мать надела на Катю шерстяные самовязанные чулки. Аднем припекло весеннее солнышко, ноги вспотели, и шерсть стала покалывать нежную кожу ног девочки. Она уже подбегала к церкви, когда в голову пришла мысль: в чулках вши, коли ноги так чешутся. Села на церковную паперть, сняла чулки, вглядывается в них…
Из церкви валит народ, и многие прихожане спрашивают девочку, что же такое она делает.
– Вшей ищу, совсем заели. Понаехались ильинские черти да и по-напускали вшей.
Окружили ее люди, а иные шарахаются, как от чумной греховодницы, крестятся.
– Твоя артистка-то у церкви спектакль устроила, – рассказывают знакомые Наташе.
Но вот в Турках достроили новую двухэтажную кирпичную школу.
– Катерину в школу надо бы отдавать, – сказал отец.
– Ох, хорошо бы!
И повела мать Катю в школу. Чем ближе подходили к школе, тем больше робела Наташа, а директору призналась:
– Боюсь я. Сумеет ли усидеть за партой и учиться? Очень уж озорная.
– Не тревожьтесь. Озорные еще лучше учатся.
И Катя стала школьницей. Прилежной, внимательной, исполнительной. С первых дней ей было свойственно чувство долга.
Но, как и дома, Катя себя в обиду в школе не давала. Однажды внимательно слушала урок. А мальчик, сын директора, сидевший сзади, вдруг ударил ее по голове учебником. Не жаловаться же на него? Да учительница и сама все видела, но замечания ему не сделала. Это и возмутило девочку. Взяла она свой учебник, повернулась назад и «ответила» директорскому сынку тем же.
Не одобрив этого поступка, учительница приказала:
– Куделькина Катя, сейчас же в угол.
Почему одна Катя? Потому что он – сын директора? Да и он же первый начал. Катя смертельно побледнела от несправедливости. Подняла свою хорошенькую головку и гордо пошла в угол.
Учительница смутилась. Перестала вести урок, подошла к Кате. Смотрит, молчит. Потом вдруг сказала:
– Какой у тебя красивый воротничок! Кто тебе купил?
– Нет, никто! – ответила девочка, с укором глядя в глаза учительнице.
Много было в школе разных шалостей. Но училась Катя прекрасно. Подружкой ее была тоже лучшая ученица класса – Катя Филипенко. Подруги потом переписывались до самой смерти Кати Филипенко.
Но вот в семье Куделькиных появилась новая дочка, Маруся. И вновь слепая Марья спрашивает, беленькая ли она? Маруся из всех детей была самая беленькая, настоящая блондинка. Девочка была спокойная, но все равно для нее нужно сделать многое, и забот прибавлялось. Ходить Маруся начала рано. Не успели оглянуться, а кудрявая звонкоголосая блондинка шустро перебирает ножками.
Танюшка становилась взрослой девушкой, дружила все с той же Маней.
Однажды они спросили, не хочет ли слепая прабабка Марья сходить в гости.
– Как не хотеть, милые? Дед ушел на тот свет, а я, слепая, все лежу и лежу на печке. В гости-то хорошо бы.
Помогли девчата слезть бабке с печки, одели валенки, все остальное. Вывели на улицу да обвели слепую вокруг своего же дома два раза, а потом привели домой. Рада бабка, здоровается, крестится. Усадили ее в «гостях» за стол, угощают чаем, а потом предлагают отдохнуть, полежать на печке.
– А печка-то у вас какая! Ну, совсем как наша.
Засыпает бабка, а потом уже ничего не помнит: на своей ли она печке, на чужой ли.
Зашел как-то к девушкам знакомый парень Федор – проказник на всю округу.
– Не Федька ли у нас? – слышит его голос бабушка. Подмигнули девчата парню:
– Теперь он не Федька, баба Марья, а батюшка Федор, в церкви служит, а сегодня в праздник к нам зашел поздравить.
Поздравляет его бабка Марья, а молодежи потеха. Однажды совсем развеселилась молодежь.
– Да кто это нынче у нас? – слышится снова голос бабки с печки.
– А это барыня навестить нас пришла. И денег принесла. Вот и тебе, бабушка.
Суют ей в руки порванные клочки бумаги, а та крестится, благодарит «барыню». Девчата хохочут, а Кате жаль бабку, обидно за нее.








