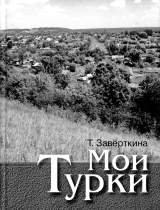
Текст книги "Мои Турки"
Автор книги: Тамара Заверткина
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Глава 11. И беда пришла, да не одна
Мы возвратились в Орск. В субботу было тяжело как никогда. Зная, что в выходной день Игоря легче застать дома, позвонила в Самару. У меня появилось неодолимое желание поделиться с сыном, рассказать, что со мной творится неладное.
– Сынок, я измучилась, готова сорваться и мчаться в Турки.
Игорь, как мог, успокаивал. Сердце – вещун. Я клянусь, что именно в этот день, в тот самый момент, когда я только что не погибала сама от жалости к маме, там случилась беда, в результате которой умерла моя мама, с которой довелось мне хоть мало на свете пожить вместе, но так сильно ее любить.
Но мы пока о беде не знали, лишь сердце не находило покоя. А в среду позвонил папа Сережа и сообщил о несчастье: мама упала и сломала ногу в верхней части бедра. И это случилось именно в субботу, когда мое сердце разрывалось на куски, когда звонила Игорю.
Папа Сережа сказал, что мама до понедельника «скорой» была оставлена дома, а во вторник ей наложили гипс, начались пролежни. Но ухаживать некому, ее предлагают забрать домой. Он просил Люду срочно выехать, захватив клеенку, круг, пеленки.
Люда не ожидала застать маму Катю в таком состоянии: гипс был наложен от поясницы до пяток, вся спина в язвах, под ней куча мокрых халатов, одеяло, простыня, все мокрое. Вчера ее выписали из больницы и поздно вечером привезли домой.
Люда срочно начала приводить все в порядок, застилать сухим и чистым, смазывать пролежни, успокаивать. И мама уснула на целых четыре часа. Но животу мешал гипс, он упирался в тело, сдавливало сердце, и еще жаловалась она на сильную боль в ноге: перелом был на той ноге, где много лет не давала покоя от боли ни днем, ни ночью коленка.
Люда вихрем носилась по аптекам, врачам, медсестрам. Она столкнулась с поразительным равнодушием:
– Да она все равно умрет от сердца или от легких.
Величайшим усилием воли Люда добилась посещения больной всеми врачами: хирургом, терапевтом, невропатологом, добилась и назначения лечения. Она сама делала уколы обезболивающие, сердечные, полностью вылечила пролежни, массировала грудную клетку, а чтоб не было застоя в легких, просила маму Катю надувать воздушные шарики, отвлекала чтением ей книг.
Люда верила в выздоровление, мама Катя нет: ей становилось все хуже, она почти перестала есть.
Хирург вынул из-под гипса простыни, но они оставили в гипсе шипы, неровности, причиняющие острую боль. Срезали еще часть гипса, оставив на животе широкий пояс, за который ее приподнимать, меняя простыни.
Дважды приезжал Игорь, привозя лекарства и специальное питание. Меня по телефону держали постоянно в курсе событий.
Но вот мне приснился сон, будто у меня выпали два коренных зуба. Подержав окровавленные зубы в пальцах, я пытаюсь поставить их на место, но ничего не получилось. И следом новый сон: Люда в тур-ковской кухне моет пол. Сон нехороший, маму «вымывают». Договариваюсь с Карякиными о домоседстве и выезжаю в Турки, сердце больше не выдерживает. В Самару нам звонит Люда, чтобы мы ехали спешно: мама Катя очень плоха.
Папа Сережа, встретивший нас на вокзале, сказал, что ей сегодня будто бы полегче.
Однако, она уже не открывала больше свои красивые, почти до старости синие глаза. Сквозь щелочку левого глаза узнала нас, назвав мое имя тупо: не Тома, а Сима. Игоря назвала Рэмиром, словно выразив желание, чтобы со мной был муж Рэмир. Или Игорь похож на отца.
Продолжали делать уколы, пытались по чайной ложке давать жидкую пищу; все напрасно – жизнь уходила, и даже на миг не удавалось ни руками, ни дыханием согреть ее всегда холодные руки и ноги.
На шее еще билась в жилочке кровь, по-прежнему оставались пунцовыми губы, но она уже не произносила ни слова. Не отходя ни на шаг, я корила себя за то, что была послушной, не «дралась» в последние годы за нее с папой Сережей. А ведь она с рождения была непоседой, никогда не любила быть домоседкой, любила общество, людей, шум, веселье. Напоследок своей жизни она просила так немного: отпустить ее ненадолго в гости. Как птица просилась на волю. В молодости она тяжело болела малярией, навсегда была нарушена работа селезенки, в последние годы из-за приступов вызывали «скорую». Возможно, я ошибаюсь, но не повредили ли опухшую селезенку, поднимая маму на остром гипсовом поясе, когда меняли простыни?
Живот ее слева стал заметно увеличиваться, она умоляла снять гипс, пытаясь избавиться от него своими руками, царапая их о гипс до крови.
Наконец, из нее вышла густая, как печень, кровь. Живот опал.
Она лежала удивительно стройная и молодая: кипельно-белое лицо без морщин с румянцем на щеках и пунцовые губы.
Привели хирурга, и он полностью освободил ее от гипса. Но она уже ничего не чувствовала.
– Нога срослась? – спросил Игорь.
– Нет, – ответил хирург.
Он не захотел ответить и на вопрос, отчего вышла из нее эта кровь. Не повредила ли она что-то в брюшной полости при падении?
Наутро сделали сердечный укол, как советовала с вечера медсестра. Но жилочка вдруг на шее замерла, лицо стало бледнеть, а губы синеть. Помочь мы уже ничем не могли.
22 октября 1995 года нашей мамы Кати не стало. Именно этого года она боялась. Многие члены нашей семьи умирали в разном возрасте, но на цифре «9».
Лида – в 19 лет.
Маруся – в 29 лет.
Старенький папа – в 69 лет.
Сережа – в 79 лет.
Дядя Коля – в 79 лет.
Мама Катя – в 89 лет.
Я кричала и захлебывалась слезами, я не хотела, чтобы тело мамы обмывали, это может быть, еще не смерть, и она придет в себя от сердечного приступа. Но пошел четвертый день, а в себя она не приходила. Совсем недавно она сердцем прощалась со своей горницей:
– Как люблю я свою горницу! – звучал ее голос.
Что бы мы делали без Игоря? Люда, папа Сережа и я были как парализованные. Люда дважды теряла сознание. По силе возможности Игорю в похоронах помогали приехавшие из Саратова Слава и Сер-жик, племянники мамы Кати. Приехала Валя. До поминок «девять дней» Игорь был с нами, а Валя, Слава и Сержик после похорон уехали. Было еще далеко до поминок «сорок дней». Я ходила как обезумевшая, со стеклянными глазами. Папа Сережа все беспокоился, чтобы я не простыла, все предлагал вместо тапочек мамины обрезки от валенок. То вдруг в комоде находил рукавички мамы Кати и совал мне. И все сердился, что в память о маме я раздаю много ее вещей соседям:
– Себе побереги, это и тебе пригодится.
Как-то я вышла на улицу за ворота. Папа Сережа, рубивший дрова во дворе, вышел следом:
– Да ведь продует тебя.
Он ввел меня, словно слепую, во двор.
– Вот тут в затишье и стой, в огороде тоже не ветрено. Однажды папа Сережа заметил Люде:
– Мать-то совсем плоха и ест мало.
– Ничего, все наладится, – ответила Люда.
Как-то само собой у нас распределились обязанности: утром папа Сережа разжигал плиту и варил какую-нибудь кашу, как при маме Кате. Люда варила обед. Я мыла посуду, а папа Сережа вскоре после обеда затапливал голландку, потом ложился отдохнуть, а вечером мы пили чай.
Как-то за завтраком я вдруг обратила внимание на то, что у папы Сережи стали бледными недавно еще розовые щеки. Заметно поседели волосы.
– Люда, папу Сережу надо увозить в Орск, – сказала я дочери.
– Конечно, и я так думаю.
Как все сделать практически? Если нам с Людой уехать к Новому году, а он тут среди своих знакомых поищет домоседа?
Он словно слышал наш разговор. А может быть, и слышал:
– Как вы уедете, эх я и орать буду.
– Мы не уезжаем, папа Сережа, – сказала Люда.
Я по-прежнему жалела маму, но жалела и его. Он много сделал нам хорошего, и о том, что нам не следует расставаться, было ясно.
В мыслях мы все трое уже в Орске, планирую, в какой кастрюле нам удобнее варить кашу, которой он приучил нас завтракать каждый день. Была довольна, что мы сохранили вторую Людину кровать, все берегли на случай, если сагитируем их обоих переехать в Орск.
А пока продолжали жить в Турках, не зная, как нам всем подняться и как быть с домом.
Однажды он пришел домой как будто бы под хмельком и сказал, что провел телефон, чтоб вызывать «скорую», когда потребуется.
Как-то за обедом он сказал нам о том, что после выходных собирается сходить к терапевту за бесплатным рецептом на нитроглицерин. Я удивилась: Игорь привез ему этого лекарства половину целлофанового мешочка.
– Ну и что же? А это дадут еще бесплатно.
Было воскресенье. Мы пообедали, Люда ушла к Алке. Я, вымыв посуду, прилегла на мамину кровать, а папа Сережа сидел у топившейся голландки, подкладывая чурочки.
– Папа Сережа, а как звали твою маму?
– Ее звали Надеждой Ивановной. В семье было трое детей. Жили бедно. Корова, правда, была. А лошадь мы отдали под расписку в Красную Армию в гражданскую войну. Однажды отец получил письмо о том, что из табуна в Балашове он может взять свою лошадь. На чем за ней поедешь? Да и на какие средства? Отец пошел в Балашов пешком, нашел и табун, но в табуне нашей лошади не оказалось. Ходил и второй раз, да без толку. Бедствовали, конечно. Потом организовали колхоз, тоже было не сладко, но уже полегче.
– Отец был талантливым механиком, его ценили, около него и я многому научился, уже помогал в колхозе. Работала и мать, когда могла отойти от младшего ребенка. Но пришла беда: на ремонте веялки отцу оторвало руку. До Турков далеко, жара, пыль. Не сразу до больницы добрались. Только, видно, поздно: началась гангрена, и отец умер.
С горя ли, с чего ли другого, но у матери начался рак желудка. Похоронили и ее.
Я младшим братьям остался за мать и за отца. Из колхоза меня перевели в совхоз ближе к машинам, в которых я уже хорошо разбирался. А вскоре назначили заведующим гаражом. Зарплату положили хорошую, купил костюм, велосипед, ручные часы. А потом и женился.
Отслужил армию. До демобилизации оставались последние месяцы, но началась война с немцами, домой я так и не попал. Ну, а остальное ты и сама знаешь.
Вечером за ужином Люда спросила:
– Папа Сережа, ты идешь завтра к врачу?
Он не ответил. Мне понравилось, что он отмолчался. Я не хотела, чтобы он шел: завтра понедельник, а я не люблю понедельников. Намекнуть о понедельнике не осмелилась, он убежденный атеист, не верит в суеверия. Сказать, что в понедельник будет слишком большой наплыв больных из деревень, тоже нельзя, это уже было и он говорил:
– Я участник войны, прохожу без очереди.
Лучше смолчать в надежде на то, что он и сам передумает. Что-то внутри меня не хотело, чтобы он шел в больницу, тревожило.
Утром и вправду он не торопился. Истопил не спеша плиту, сварил кашу, поели. Вот уже одиннадцатый час, Люда ушла за хлебом. Я успокоилась. Однако, он засобирался:
– Я, пожалуй, кожаный пиджак не надену, утащат еще, пока в кабинет войду.
– А гардероба нет? – спросила я. Он усмехнулся и махнул рукой:
– Какой там гардероб? Пойду в телогрейке бабкиной. Я только к терапевту, а к глазному не пойду. Отрежь мне вот только хлястик у телогрейки.
– А шарф?
– Да на мне гимнастерка с плотным воротничком. И сумку не возьму, карточку заверну в газету да в карман положу.
С возвратившейся Людой мы долго ждали его к обеду, но так и пообедали одни, и Люда куда-то ушла.
Вдруг к нам в дом вошла знакомая женщина и сказала, что папа Сережа упал недалеко от районо, а подняться не может.
Наскоро одевшись, я поспешила к указанному месту, но отойдя всего несколько шагов от дома, встретилась с Людой и Букетом.
– Я проходила мимо, случайно увидела Букета, а папы Сережи почему-то нет, Букета я забрала с собой, – сказала Люда.
– Дочка, бегите бегом, поспрашивайте людей. Где же он? Зайдите в редакцию, может, в окно кто видел и что-то знает.
– Я сначала тапочки захвачу. Вдруг он в больнице, я останусь там на ночь.
И они ушли. Но в редакцию умный пес Люду старался не пускать. Стоит ей сделать в сторону редакции несколько шагов, он начинает негромко лаять и сам за ней не идет. Напротив, бежит к зданию районо, оглядывается на Люду, как бы зовя за собой. Там, в районо, Люда узнала, что деду вынесли стул, а тем временем вызвали «скорую». В больнице после рентгена хирург подтвердил:
– Да, дед, у тебя то же самое, что и у твоей бабки: перелом верхней части бедра.
Люде указали палату. Папа Сережа лежал один, укрытый двумя одеялами. Ногу положили на вытяжку. Лицо его было мертвенно-бледным. Один глаз закрыт, у второго узкая щелка.
– Папа Сережа, не умирай, мы тебя спасем! – закричала Люда. Она собрала медсестер и врачей.
– Это стресс, – сказал хирург.
Да, он видел мучения мамы, и сердце не выдержало, когда подтвердили перелом бедра.
Умер он 13 ноября 1995 года в понедельник, через три недели после смерти мамы.
В течение двадцати дней у нас два гроба. Снова приехал Игорь. Валя на этот раз не приезжала, она была на первых похоронах. Приехал Вова Куделькин, третий племянник мамы. Известили Виктора, сына папы Сережи. Ответил, что на похороны приехать не сможет.
Папа Сережа долгие годы был недоволен Виктором за то, что тот был страстным любителем зеленого змия.
И снова вся тяжесть организации похорон легла в основном на плечи Игоря. Слава и Сержик на этот раз не приезжали.
Положили папу Сережу в ту же могилу, где и мама. Возможно, раньше она просила положить ее с родителями и потому, что считала, будто папа Сережа может после ее смерти жениться, мол, он моложе ее, и его положат потом вместе с новой женой, а совсем одинокой в могиле оставаться не желала, просясь в могилу к родителям.
Но народ и даже хирурги поговаривали о том, что это она позвала его за собой.
Помянули папу Сережу, как и маму, тоже в кафе. Помянули еще и на девять дней. Родные разъехались по своим городам.
Дом опустел. На дворе в этом году была лютая зима.
Глава 12. Остались одни
Нам с Людой предстояло выполнить все обряды, а после Нового года мы решили уехать в Орск. Сделали, как и маме, предание папы Сережи земле, затем каждого из них помянули на сороковой день.
Однако, уехать не пришлось. После всего пережитого я сильно заболела. Давно не помнила такого тяжелого обострения поясничного остеохондроза: ни сидеть, ни лежать, ни спать, ни есть. Дни переходили в недели, недели в месяцы, мне не помогали ни таблетки, ни уколы.
Зима выдалась на редкость морозная. Не всегда удавалось Люде договориться насчет рубки дров. Случалось, брала топор сама, у нее не хватало сил, пробовала рубить и колуном – бревна были тяжелые, а Люда после пережитого была обессилена. Уголь лежал пудовыми глыбами, мелкого не было. На рубку угля времени уходило много. Колола она его сразу после обеда и до вечера, так как дело это еле продвигалось, глыбы не поддавались. И это только на одну порцию, на один день. А завтра – все сначала. Но дело было не только во времени, работать колуном было тяжело физически, и вскоре Люда стала жаловаться на боли в животе. Обиднее всего было то, что уголь ко всему никак не хотел гореть. К кому мы только ни обращались за советом? Все делали так, как учили. Но сколько угля засыпали, столько же и выбрасывали несгоревшего. И никто не догадался подсказать, что требовалось открывать поддувало. Лишь только к весне догадались открыть сами, уголь гореть стал, но вяло. Дело было в том, что у наших стариков осталась не почищена труба: один год это сделать папе Сереже что-то помешало, а уж этой осенью на чистку трубы были отданы Елисееву и деньги, но старики умерли раньше, чем Елисеев выполнил работу.
Только весной Люде удалось притащить этого трубочиста, и выгребли небывалую массу сажи – семь ведер. Это чудо, что через узкую щель трубы, забитой сажей, дым как-то проходил. И сильно подвели дрова. Местные жители все готовят с осени, дрова рубят. У нас же лежали свежие бревна в сугробах снега. И мы замерзали. Помощи и за деньги, и за бутылки добиться было не просто: не идут. Мы ходили в доме в телогрейках, длинных шерстяных трико, шерстяных носках, обрезках от валенок. Спали в шерстяных кофтах и пуховых платках. О том, чтоб искупаться или помыть голову, не могло быть и речи. Температура на градуснике в доме держалась плюс пять, плюс восемь градусов. Мы выглядели как Золушки и практически не согревались. Возможно, еще и поэтому выздоровление ко мне не приходило. Однажды несколько уголечков в голландке никак не хотели гаснуть. Боясь угара, мы долго не закрывали трубу, да так и уснули, к сожалению. К утру с открытой всю ночь трубой выдуло так, что и под одеялами лежать было невыносимо холодно. А что же теперь на кухне, которую топили еще вчера утром? Чтоб лучше разжечь дрова, Люда смочила тряпочку керосином, подожгла и попросила меня полить ей из кружки на намыленные руки. Приняв у нее мыльницу, я хотела положить ее на газовую плиту. Рука нечаянно коснулась конфорки, и я мигом отдернула ее: конфорка была горячая. Люда не поверила, но убедилась сама. Мы смотрели друг на друга остолбеневшими глазами. Люда никогда не была суеверной. Но на этот раз произнесла:
– Неужели это нас, ворон, папа Сережа пытался согреть хоть каким-либо способом?
Я тоже не знала причины. Но газовой плиты мы не зажигали.
Не в обиду маме Кате скажу: мы горевали по ним обоим одинаково.
Когда много лет тому назад в Волгограде умер мой родной отец П.Ф. Трофимов, я горевала недолго, а вскоре об этом стала почти забывать.
Но вот идут годы, как не стало мамы Кати и папы Сережи, но сердцу невыносимо, и я порою плачу, казалось бы, при небольшом воспоминании о простом пустяке. Я прошу у них прошения за причиненные огорчения. И если есть загробная жизнь, они должны услышать меня и простить.
Мне часто не дает покоя один вопрос. Когда папа Сережа провел телефон, то спросил:
– А Игорь не поругает?
Что он тогда имел в виду, за что поругает, я не спросила, только сказала:
– Ну что ты? Нет, конечно.
Вскоре нас с Людой подкараулила новая неприятность: обледенел наш колодец, сделанный из узкой трубы, а водопроводные колонки улицы из-за сильных морозов перемерзли и вышли из строя. Мороз почти всю зиму стоял вокруг двадцати шести градусов. Как добыть воды? Требовалось нагреть не менее трех ведер воды из оттаявшего снега (в наших условиях нагреть не просто: газ в баллоне закончился, огонь в плите чахлый) и горячей водой оттаивать наледь на трубе колодца сада. И так ежедневно. Как же мучительно жили наши старики! Мама писала, что колодец они постоянно оттаивали. И тоже зябли. Писала мама и о том, что часто спали в валенках, не согревались их старые кости.
Итак – газа нет, купить негде. Теперь вся надежда на дрова, чтоб поддерживать теплую воду на плите. Однако топливо экономили. В надежде скоро уехать мы еще в начале зимы много дров продали. Теперь сожалели об этом, топливо для нас дороже золота: мы же погибнем. Но самое трудное ожидало Люду впереди. Тяжелее дров, угля, печек и воды был снег. От его тяжести Люда окончательно надорвалась, мучилась от боли в животе, а снег продолжал нас засыпать. Уже некуда стало его отбрасывать, прочищая дорожки. Сугробы выше головы. Сыпать некуда, и с каждой лопатой снега нужно теперь идти только в огород: раз, два, десять, сто и более раз. Она надорвала живот и простыла. Открылось кровотечение, кровоточили и потрескавшиеся неотмывающиеся от угля заскорузлые пальцы рук. На ночь она бинтовала их, смазывая подсолнечным маслом.
И тогда она сдалась, согласилась принять помощь Юрки, который, оказывается, не раз подходил к калитке дома, искренне пытаясь предложить помощь. Люда отказывалась и крепилась, сколько могла, пока не упала. И страдала и из-за моей болезни.
Теперь и она лежала такая маленькая, как комарик. И как умещалось в этом тельце столько воли, энергии, сил в борьбе с бедой, а потом с невзгодами, с физической мужской работой? Недаром когда-то Игорь сказал: «Она совершила подвиг». Это было после похорон. А сколько ей досталось после!
И все-таки позже в Орске она призналась, что все эти тяжести для нее легче были по сравнению с моральным состоянием – со страданием из-за моей болезни. А я страдала за нее, видя мучения, все время лежала, пытаясь встать лишь для того, чтоб что-то немного съесть, но все равно не ела, не могла, и ложилась снова.
Физически же с помощью Юрки Люде стало легче. Он пилил и колол дрова, таскал их в сени, чтоб у нас не разворовали, а главное – расчистка снега стала полностью его заботой. Оказывается, Люда гробилась, пользуясь не той лопатой: железной, а не деревянной. И мы сожалели, что согласились принять помощь слишком поздно. Приближалась весна.
Я радовалась за Люду и не заметила, как постепенно стала слабеть хондрозная боль, она уже не стала такой жгучей. Но хуже стали ходить ноги.
А весна вступала рано в свои права. Восьмого марта в женский праздник наступил в болезни большой перелом. Я еще не вставала с постели, но принесли поздравительную телеграмму из Самары. Трудно вспомнить, чему я так была рада: телеграмме или облегчению болей в пояснице. Мы шли завтракать, и вошел Юрка с двумя плитками шоколада и открыткой. Мы все пили чай, в окно светило яркое весеннее солнце, и на душе становилось теплее. Я сидела у самого телефона. Он зазвенел: нас поздравлял Игорь. И весь день было какое-то приподнятое настроение. Главное, мне полегчало. Если не шевелиться, то стало можно лежать в постели, не ощущая боли. Но вывозить меня в таком состоянии было нельзя, я принимала таблетки и пила мумие, стала выходить минут на десять-пятнадцать на улицу. Март поднимал меня на ноги.
В мае предстояло переоформление дома с мамы Кати на меня. Ехать сюда вторично в мае не было смысла. И пока мы здесь, Люда занялась вопросом по оформлению в апреле. Конечно, и зимой ей из-за разных справок приходилось десятки раз бывать у нотариуса, женщины вздорной и тяжелой, вредной. Вот и опять у нее застопорилось все дело: то требовались справки из Бюро технической инвентаризации, то из земельного комитета, то необходимые документы о том, что дом действительно маме дарила ее мать – мама Наташа, то подлинник дарения, который ни в каких архивах найти не могли, а наша копия, хоть и заверенная, ей была не нужна. Нервы Люды были доведены до предела, все упиралось в глухую стену. Но кто-то подсказал, что Турки прежде объединялись с Аркадаком. Игорю пришлось созваниваться, а потом ехать туда лично. Но нам дорог был этот дом, с которым было связано столько воспоминаний.
– Если на какую-то долю будет претендовать Виктор, сын папы Сережи, мы выплатим ему эту долю, – сказал Игорь.
Мы решили закончить оформление дома и сохранить его под дачу. На зиму хорошо бы кого-нибудь пускать в дом, а летом приезжать в наш курортный край.
– Неплохо бы найти человека, как сторожа, платить ему немного, купить топлива, – посоветовал Игорь.
Этот вариант нам понравился, дали объявление в газету о том, что сдается дом под квартиру.
Подходил май, а дело с переоформлением дома заходило в тупик: то нотариус на больничном, то уехала на курсы, то потребовала доказать, что дом в прошлом действительно принадлежал моей бабушке.
Люда измучилась.
Подходило лето. Буйно цвели сады. Мы в доме нашли аккуратненькие пакетики с семенами овощей, собранными в последний раз заботливой рукой мамы Кати. Тут были семена моркови, свеклы, тыквы, огурцов. Решили не дать им погибнуть. Кто бы в доме ни проживал, овощи пригодятся. И Люда устроила небольшие грядочки. Рядом с ней в саду всегда была и я. Кажется, сколько ни дыши, все равно не надышишься душистым воздухом весеннего сада.
Все соседи засевали свои огороды. И лишь делянка под картошку, вспаханная папой Сережей под осень, оставалась черной. Скоро у всех зацветет картошка, а у нас – лебеда.
И Юрка с Людой в два утра по холодку засадили часть огорода картошкой, которой в погребе было немало. Пусть и наш огород цветет. Пятого мая к нам на своей машине приехал Игорь и привез ящики с олифой, растворителем, разными красками для наружного ремонта дома.
Документы по оформлению были все, наконец, собраны. Но официальное переоформление должны были сделать согласно закона после двадцатого мая. Решили заняться ремонтом.
В двух местах дома немного протекала крыша; железо стен, которым он был обит, тоже где-то проржавело и требовало покраски. И Люда развернула строительные работы. До малярных требовались многие столярные работы: ремонт карниза, замена досок, а их надо доставать, ремонтировать пилоны. Жизнь в Турках была не лучше городской – народ, отчаявшись, запил, и найти трезвого плотника стало проблемой. Бедняжке-Люде иногда и удавалось договориться с трезвым, но на второй или третий день он уже был пьяный. Пили поголовно все. С превеликим трудом многое все же удалось сделать, отремонтировать: карниз, пилоны, забор, ставни, ворота, заменить доску прогнившего пола в сенях.
Но были и радостные мгновения. Я с самого раннего детства не бывала здесь весной, не видела подснежников и ландышей. А они, оказывается, скрыли всю землю под вишней. И мы, жители пыльного Орска, наблюдали, чуть не затаив дыхание, как поднимался на грядках каждый росточек.
Начала спеть малина, появилась и первая смородина. Всего, конечно, не так много, но поесть хватало, и постоянно тянуло в сад. Поистине Турки – райское курортное местечко. Начала спеть вишня, а вскоре черешник и слива. А яблок – море. Они усыпали землю сплошным ковром, и нужно было выискивать на земле место, где можно было бы ступить ногой.
Было в саду все. Не было лишь моей мамы, которая так любила свой сад и каждый стебелек в отдельности. Не было на привычном месте у колодца и папы Сережи. Как же мне их не хватало, и сердце тосковало, казалось, все сильнее и сильнее. Все было как при них, но только не было их самих. Ум понимал, а сердце не мирилось и ныло непрестанно.
Вот здесь я садилась на кровать под яблоней, где мы так еще совсем недавно каждый день сидели с мамой, и она изливала мне душу.
Люди бывают разные. Есть человек-домосед. А есть человек-песня, человек-птица, ее не радует золотая клетка. Такой была моя мама Катя. Когда, жалея ее, папа Сережа предложил отдохнуть от работы, рассчитаться, домохозяйкой она не чувствовала себя счастливее, чем даже в те времена, когда задыхалась от работы. Она любила движение, многолюдие, вольный ветер.
Имея еще силу, она вырывалась из своей «золотой клетки» на свободу, каждую зиму ехала хоть ненадолго в Орск, а в Турках шла к людям: хоть на лавочку, хоть играть в карты или просто к соседям узнать новости, пошутить, услышать и запомнить новую песню. На каникулы ли или позже в отпуск я всегда привозила какую-нибудь песню. Она мгновенно подхватывала ее даже вторым голосом, хотя слышала впервые. Пожалуй, не было в стране такой песни, которую бы она не знала, потому что сама была не только человек-труд, но и человек-песня, человек-праздник. Никто из нас, к сожалению, не обладает таким музыкальным слухом, чтоб вторить сразу впервые услышанную песню, никто не обладает таким чистым голосом.
Когда пошатнулось здоровье, особенно после того, как она отравилась газом, почти отказали ноги, «золотая клетка» захлопнулась, десятки писем рассказывают о тоске ее вольной души. Она чувствовала себя беспомощной, потому что от всех нас зависимой, никого из нас не хотела огорчать и беспокоить, настаивать на поездке в Орск. Она потеряла силу, а вместе с ней и волю. Мне кажется, если бы у нее не случился перелом бедра, она все равно бы умерла вскоре от тоски. Жить так, как она жила последнее время, она бы не смогла.
Но сложись смолоду ее жизнь счастливо, она прожила бы более ста лет, так как природа наградила ее крепким здоровьем, ни в молодости, ни до последнего своего дыхания она ни разу ничем не болела {кроме малярии в Махачкале).
Нам постепенно нужно было бы жить всем вместе, шутить, петь. На людях ее вечно молодая душа продолжала бы еще долго жить, умея всему радоваться. Своей душой и лицом мама так и не стала старухой, так и осталась в моей памяти задорной выдумщицей и молодой.
Любя маму Катю и в память о них обоих, нам с Людой хотелось все подремонтировать, сохранить этот бесценный дом как драгоценный памятник.
Сделав плотницкие работы, Люда с головой ушла в малярку. Это оказалось еще сложнее. Случалось, что до четырех раз при упорных поисках удавалось договориться и даже начать покраску, но каждый раз срывалась работа по той же причине – пьянка. Мы не стояли в цене, сколько запрашивали, столько и платили, но дело было в другом – народ спивался.
И все-таки задуманное сделали, материально в ремонте помог Игорь, а привезенные им краски оказались великолепными.
Дом стал самым красивым во всей улице. С дворовой стороны сделали цементную отмостку, а к крыльцу – новые дубовые ступени.
Мы очень гордились своим домом.
Нашли и домоседку – старушку, которая не требовала с нас платы, как сторожу. Отказалась и от дров: ей обещала отдать дрова внучка, которая провела себе газовое отопление.
А мы планировали будущим летом вновь приехать в наши родные Турки, где за закрытыми ставнями даже в самые невыносимые знойные дни было прохладно, и мне дышалось хорошо. Это было спасение от Орска, пыльного и знойного, когда в кирпичном доме, раскаленном на солнце, как печка, да еще с огромными окнами, бывает некуда деваться.
Мы собрали с огорода овощи, продать не сумели, спустили в погреб, предложив домоседке ими пользоваться. Их останется и нам, если приедем летом: урожай хороший.
Запланировали на будущее выправить одну стену дома со стороны двора {если это потребуется после тщательного обследования). Приблизительно по этому вопросу договорились с одним из самых опытных плотников.
А пока собирались домой.
Естественно, от ремонтных забот мы устали, но было чувство удовлетворения, что мы поддерживаем родное гнездо, где жили родители, где каждое лето проводили мои дети, а так же все семьдесят лет бывала и я.
Кроме всего прочего, ремонтные дела отвлекали от горьких воспоминаний.
Приехал Игорь, чтобы помочь нам выехать, наконец, из Турков. Я заметила в нем какую-то перемену: от глаз матери не спрячешься. Но зная его характер, расспрашивать не стала: если захочет, скажет сам.
Итак, мы временно покидали свое поместье, которое передавалось от предков к потомкам, с ним связано слишком много воспоминаний у всех поколений, даже у младшего. Этот дом помнит много горестей и много радостей.
В турковской земле лежат родители, и кроме нас никто не навестит их могилы.
Не знаю, как все сложится дальше, но продавать дом я не хотела бы, да наш старенький дом и не имеет материальной ценности.
– По-моему, мама, – сказала Люда, – я люблю этот дом даже больше, чем ты и не вынесла бы, если бы мы его продали.








