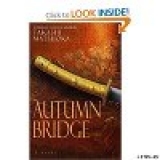
Текст книги "Осенний мост"
Автор книги: Такаси Мацуока
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
Она же просто никак не могла до конца поверить в происходящее. Она, Эмилия Гибсон, девушка с фермы на реке Гудзон, вот-вот станет женой языческого японского князя.
Хидё стоял у кромки воды и смотрел на корабль, бросивший якорь неподалеку от берега. Сам вид этого корабля вызывал у него такую ненависть, что Хидё требовалась вся его заработанная тяжким трудом воинская дисциплина, чтобы дыхание его оставалось ровным и неслышным. Один из принципов самурая гласит: тот, чье дыхание может услышать противник – покойник. Вот и не стоит подавать дурной пример.
Я вижу только четыре пушки, – сказал Ивао. – А на корабле нашего князя, «Мысе Мурото», их двадцать. Мы сильнее американцев.
Ивао был счастлив, потому что отец взял его на руки. Он очень надеялся на это, но не просил. Самураи не просят о милости, даже если им всего пять лет.
Нет, – сказал Хидё. – Пока еще нет. Корабль нашего князя сделан из дерева. А этот покрыт железом. Все двадцать пушек «Мурото» не пробъют его броню. И обрати внимание на размеры его четырех пушек, Ивао. Да, и видишь, как они размещены в башнях? Они могут поворачиваться и стрелять в разных направлениях, куда бы ни плыл корабль.
Ивао не нравилось слушать про то, какие чужеземцы сильные. Он сказал:
«Хэмптон Роудс». Отец, я правильно прочел название этого корабля?
Да.
Дурацкое название. «Мыс Мурото» – куда красивее.
Хидё улыбнулся сыну, чтобы не засмеяться.
Не только мы ценим историю. Хэмптон Роудс – это место, где бронированные военные корабли впервые бились друг с другом.
Что, правда? И кто победил?
Ни один из кораблей не сумел причинить вред другому. Победителя не было.
Если мы не можем потопить такой корабль в битве, мы можем захватить его, когда он стоит на якоре, – сказал мальчик. – Смотри, отец. Часовые на палубе ни за чем не следят. Они просто сидят, смеются и курят трубки. Я думаю, они пьяны!
И что бы ты стал делать?
Ивао сосредоточенно нахмурился.
Дождался ночи, – сказал он. – Баркасы могут заметить, даже в новолуние. Я бы пустил пловцов с востока. На западе город, и его свет будет мешать часовым смотреть.
От воды ваше огнестрельное оружие придет в негодность, – сказал Хидё.
Нам не понадобятся револьверы, – сказал Ивао. – Хватит коротких мечей и ножей. Выстрелы только всполошат врагов. Клинки же бесшумны. Мы захватим «Хэмптон Роудс», пока большая часть его экипажа будет спать. Это смогут сделать двадцать человек, если это будет двадцать храбрецов.
Прошу прощения, господа. – Приблизившаяся служанка встала на колени прямо на песок. – Церемония вот-вот начнется.
Спасибо, – отозвался Хидё. Он опустил Ивао на землю и они пошли следом за служанкой обратно к «Воробьиной туче».
Я рад, что госпожа Эмилия выходит замуж, – сказал Ивао.
В самом деле? – Хидё взглянул на сына. – А почему?
Она больше не будет одинока, – отозвался мальчик.
Да, это не совсем та свадьба, о которой мне мечталось, – сказал Чарльз Смит.
И мне, – отозвался Роберт Фаррингтон. Не считая этих двух американцев, на свадьбе присутствовали лишь местные деспоты и их вассалы.
Должен признаться, я удивился, увидев вас здесь, – заметил Смит.
«Хэмптон Роудс» сейчас не на патрулировании, – пояснил Фаррингтон, – а капитан – мой старый боевой товарищ. Так что зайти сюда было нетрудно.
Я имел в виду скорее социальные барьеры, чем географию.
Не вижу, почему бы мне не поприсутствовать на свадьбе женщины, к которой я отношусь с глубочайшим уважением, – сказал Фаррингтон, – даже если я не одобряю выбранного ею супруга.
Молодые люди на некоторое время умолкли. Никто из них не знал, о чем думает другой. Но об этом можно было догадываться.
Фаррингтон кривился и старался гнать от себя эти мысли.
Смит же улыбался и скорее наслаждался сценами, возникающими у него в воображении.
Не каждый день прекрасная американская девственница приносит себя в жертву на алтаре бусидо.
Спальня новобрачных была обставлена на американский лад, и подобие было настолько точным, что Эмилия с легкостью могла вообразить, будто находится сейчас не в Акаоке, а где-нибудь в Олбани. Наиболее бросающимся в глаза предметом обстановки – возможно, из-за душевного состояния Эмилии, – была большая кровать с пологом на четырех столбиках, с пышными подушками и стегаными одеялами, с бельем из белоснежного шелка.
Эмилия стояла перед туалетным столиком с зеркалом. Она могла без гордости или ложной скромности сказать, что отражение в зеркале – сама элегантность и красота. Если бы она смотрела на чужого человека, ее потрясло бы совершенство явившейся ее взгляду картины, и ей пришлось бы напоминать себе, что все это тщета, что все труды человека и сам человек недолговечны. Но поскольку Эмилия смотрела на себя, ей не требовались подобные воспоминания. Она различала за кажущимся спокойствием отраженного в зеркале лица крайнее смятение.
Церемония сама по себе была… потрясающей. Никакое иное слово тут не подходило. На ней присутствовали и Чарльз, и Роберт, что удивило Эмилию, и они были чрезвычайно вежливы друг с другом, что удивило ее еще больше. Их поздравления вроде бы звучали вполне искренне. Роберт, как обычно, держался очень сдержанно, а Чарльза настолько переполняло воодушевление, что можно было подумать, будто это он сегодня женится. Обряд бракосочетания проводил голладский посланник, по вероисповеданию кальвинист. Он и его предшественники на протяжении многих поколений поддерживали отношения с князьями Акаоки. Эмилия видела явственный знак воли Божьей в том, что никто из предков Гэндзи за это время не сделался кальвинистом, и что сам Гэндзи за неделю до свадьбы принял крещение в церкви Истинного Слова. Это не произвело никакого видимого воздействия на его взаимоотношения с людьми его круга. На свадьбе присутствовали все князья западной Японии, противники сёгуна Токугава, и наряду с этим – высокопоставленный представитель самого сёгуна, и все они были почтительны с Эмилией и веселились на празднестве.
По правде говоря, она помнила лишь отдельные детали. И церемония, и празднество прошли для нее, словно в тумане. Эмилию слишком беспокоило то, что должно было воспоследовать за празднеством.
И вот теперь этот час подошел. Через несколько минут – уже совсем скоро – Гэндзи придет к ней, ожидая от нее покорности. Она будет полагаться на Господа, она сделает все, что сможет, и не позволит, чтобы ее телесная или душевная боль помешали Гэндзи осуществить его супружеские права. Но Эмилия боялась. Она не могла этого отрицать.
Чего он пожелает?
Христиане – даже плохие христиане – понимают, что брак – это средство продолжения рода, а дозволение для сексуальной распущенности. Это создает барьер сознания, дающий хотя бы некоторую защиту от наихудших животных наклонностей. Но для Гэндзи подобного барьера не существует. Он, прежде всего, японец, а жители этой страны считают допустимым любое плотское взаимодействие, если только оно происходит по взаимному согласию. На самом деле, как только женщина вступала с мужчиной в интимные отношения, подразумевалось, что согласие на все последующие действия уже дано, а в число этих действий входили и те, которые по законам и морали любой западной нации расценивались как извращения, зверства и тяжкие преступления.
Эмилия не стремилась разузнать эту ужасную правду. Но невозможно было прожить здесь шесть лет и не обнаружить этого. Первое знакомство с нею состоялось через случайно услышанные замечания дам и служанок клана. То, как они говорили о своих взаимоотношениях, заставляло подумать о поведении, лишенном какой бы то ни было морали. Затем последовал тот случай в библиотеке замка, когда Эмилия наткнулась на коллекцию книг и свитков, прежде не попадавшихся ей на глаза. В первой же книге, которую она открыла, обнаружилось множество картинок, изображающих половые сношения самых отвратительных разновидностей; впечатление усугубляло то, что гениталии, и мужские и женские, были нарисованы преувеличенно большими, и неестественного цвета. Эмилия открыла эту книгу и почти мгновенно захлопнула, в такой ужас ее привело увиденное. Но даже мимолетного взгляда хватило, чтобы все это врезалось ей в память. Прошло не меньше часа, прежде чем Эмилия набралась храбрости и открыла соседний том. Ее вело не жгучее любопытство, а стремление лучше понять людей, среди которых она жила. Чтобы отыскать лекарство, первым делом надо изучить болезнь.
Во второй книге обнаружились рисунки тушью, не более чем наброски, но они оказались еще хуже. В нем были изображены нагие, связанные женщины в нелепых, причиняющих боль, непристойных позах. Эмилия еще недостаточно хорошо знала японский язык, но ее познаний хватило, чтобы уразуметь, что эта книга – подробное наставление по сексуальным пыткам.
Она оставила книги там, где их нашла, и отправилась к себе в кабинет, трудиться. Когда к ней пришла Ханако, чтобы ей помочь, Эмилия попыталась обсудить с ней этот вопрос. Но разве добродетельная женщина может говорить на подобную тему, пусть даже с лучшей своей подругой? Эмилия несколько раз пыталась, но всякий раз лишалась дара речи и мучительно краснела. И так в конце концов и не сказала ни слова по этому поводу.
А затем Ханако умерла, и не осталось никого, кому Эмилия могла бы довериться. Она оказалась предоставлена сама себе.
Она верила, что Бог укажет ей путь. Но сейчас, стоя перед зеркалом, столь ослепительная в своем свадебном платье, Эмилия не видела, не видела никакого пути!
Она начала раздеваться.
Но худшим из того, что ей предстояло, был не какой-либо физический акт, а признание. Она совершила обман еще даже до своего приезда в Японию, выставляя себя чистой и безгрешной. Она не та, за кого себя выдавала.
Она – не девственница.
Хотя она лишилась девственности не по своей воле, она не имела права скрывать этот факт от Гэндзи. Это произошло, когда она была еще почти ребенком, и ее к этому принудили, грубо и жестоко. Но это ничего не изменяло и не облегчало ее стыда. Ей следовало сказать об этом Гэндзи до свадьбы. Она хотела это сделать, она собиралась это сделать – но как-то так вышло, что удобный случай так и не представился. И вот теперь она должна сказать ему об этом, пока он сам все не обнаружил.
Как он встретит эту новость, с легким разочарованием или с гневом?
До сих пор она всего раз видела Гэндзи разгневанным.
И в тот раз он отрубил голову человеку, вызвавшему его неодобрение.
Гэндзи шел к спальне для новобрачных, и его переполняли опасения и страх. Его больше не беспокоило видение, обещающее Эмилии смерть при родах. Они вместе решились на это. Они будут жить и умрут в соответствии со своим собственным решением. Эта мысль больше не терзала его. Его тревожило не отдаленное будущее, а ближайшие перспективы: первая брачная ночь.
С первого его опыта плотской жизни – а было ему тогда двенадцать лет – его партнершами почти всегда были женщины, опытные и искусные в любовных делах. Даже когда это были девственницы, как те две наложницы, которыми он недавно обзавелся, они все равно проходили соответствующую подготовку: их учили давать и получать наслаждение. Они сохраняли девственность потому, что этого требовал их общественный статус – положение возможной матери наследника князя, – а не в результате отсутствия знания, склонности или возможностей. Его репутация искусного любовника, возможно, была не совсем незаслуженной, но заработана она была в ходе взаимных притворных обольщений, игры, следующей давно устоявшимся образцам благородного романа. И совершенство его представления было единственной целью женщин, с которыми он спал. Если он не дотягивал до совершенства, виноваты были они, ибо спальня была царством женщин, а их интимное искусство было их оружием. Конечно же, Гэндзи тоже относился к ним с вниманием. Он получил множество уроков от лучших мастериц этой страны, и он хорошо усвоил эти уроки. Хотя, конечно, об ощущениях женщины никогда ничего нельзя сказать с полной уверенностью, у Гэндзи были основания предполагать, что и он обладает кое-какими умениями.
И лишь после того, как он покинул празднество, чтобы уединиться со своей молодой женой, Гэндзи полностью осознал всю глубину проблемы.
Он понятия не имел, как следует вести себя с женщиной, которая не умеет ни направлять, ни следовать. По сравнению с этой суровой и пугающей правдой жизни то, что она была американкой и христианской миссионеркой, было уже несущественным.
Эмилия услышала стук в дверь. Это мог быть лишь Гэндзи. Все прочие, в соответствии со здешними традициями, сообщали о своем присутствии, подавая голос. Гэндзи же стучался из уважения к ней.
В нынешнем ее эмоциональном состоянии этого простого факта оказалось довольно, чтобы на глаза Эмилии навернулись слезы. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы взять себя в руки и откликнуться:
Войдите!
Гэндзи увидел, что Эмилия уже лежит в постели, натянув одеяло под самый подбородок. Он понадеялся, что она не разделась догола. Чарльз Смит сказал ему, что европейские женщины предпочитают заниматься любовью полностью раздетыми. Гэндзи, конечно же, ему не поверил. Смит по природе своей был шутником и частенько говорил что-нибудь для того, чтобы шокировать своих слушателей, а не для того, чтобы взаправду им что-то сообщить. Единственной женщиной, которая регулярно спала с ним обнаженной, была Хэйко. Это смелое пренебрежение правилами приличия было частью ее очарования. Прочие женщины занимались любовью в традиционных соблазнительных домашних нарядах. В этом было искусство. В наготе же никакого искусства нет.
Или все-таки есть? Вдруг это еще одна сторона жизни, которую чужеземцы воспринимают совершенно иным образом? В японском искусстве нагота отстутствовала вообще, и даже в детальных трактатах об искусстве любви ее было немного, в то время как на Западе наготу воплощали в статуях и картинах, что украшали собою даже официальные здания их столиц. Или он путает древний Запад с современным, греков и римлян с англичанами и американцами?
Гэндзи сел на кровать со своего края – Эмилия отчетливо устроилась на одной ее половине, – и снял верхнее кимоно. Он выбрал для садьбы традиционный японский наряд. Эмилия спрашивала у него, не надеть ли ей то свадебное кимоно, которое она нашла в монгольском сундучке, но Гэндзи сказал, что не нужно. Он знал, что Эмилия будет чувствовать себя неудобно в нем. И он сомневался, что она будет достаточно хорошо смотреться в кимоно. Ее фигура – выпуклые грудь и бедра и столь же эффектно узкая талия – была слишком экстравагантной, чтобы кимоно могло хорошо на ней сидеть. Эмилия превосходно смотрелась в своем свадебном платье, и Гэндзи знал, что так оно и будет. Приспособиться к чему-то – это одно. А пытаться изображать из себя нечто, чем ты не являешься – совсем другое. Ему и его соотечественникам следует хорошенько запомнить этот урок, на будущее.
Гэндзи уже собрался было нырнуть под одеяло, как ему вспомнилось еще кое-что из слов Смита. Тот сказал, что западные женщины предпочитают заниматься этим в темноте.
«В темноте? – переспросил тогда Гэндзи. – Вы имеете в виду – скорее ночью, чем днем?»
«Я имею в виду – в темноте, – сказал Смит. – Ночью и без освещения».
«Без иного освещения кроме света луны и звезд», – уточнил Гэндзи.
«Нет, – сказал Смит. – В закрытой комнате, с задернутыми шторами, и без какого бы то ни было источника света».
«Но в подобных условиях невозможно ничего разглядеть», – сказал Гэндзи.
«В этом и суть», – сказал Смит.
Гэндзи ему не поверил, но он уже знал, что когда имеешь дело с чужеземцами, можно ожидать чего угодно, даже самого невероятного.
Я потушу свечу, – сказал он Эмилии.
Эмилия как раз думала об этом, пока Гэндзи раздевался. Слава Богу, он не разделся полностью! Ей очень хотелось укрыться за темнотой, но в то же время она и страшилась этого. Если ей будет не за что зацепиться взглядом, прошлое с его насилием может взять верх над нею, и тогда она впадет в панику.
Не надо, пусть горит, – попросила Эмилия. Она решила, что будет смотреть ему в лицо, чтобы обрести в нем утешение – конечно, насколько это удастся. Наверняка человек, которого она любит всей душой, исчезнет, когда животная природа возьмет верх над лучшей его частью. Но до тех пор она будет смотреть ему в глаза и видеть в них доброту.
Гэндзи полулежал на своей половине кровати, опираясь на локоть. Эмилия смотрела на него, словно приговоренный, ожидающий удара палача. Воистину, любовь – это шутка богов, раз она может заставить двух человек, любящих друг друга, так друг друга бояться.
Эмилия распустила волосы. Они лежали на подушке, словно ворох золотых нитей, какие используются в самых лучших вышивках. Белый шелк простыней изумительно подходил к ее прекрасной белой коже. В лице ее эффектность соседствовала с невинностью: Эмилия не прибегала ни к каким ухищрениям макияжа. Когда-то эти глаза вызывали у него дурноту из-за своей чуждости; теперь же Гэндзи видел в них почти волшебное отражение бескрайнего неба и океана в самую лучшую погоду. Как он мог прежде не видеть, что она – красавица? Наверное, он был слеп.
Гэндзи осторожно отвернул край одеяла от ее подбородка. Плечи Эмилии слегка напряглись, потом расслабились, когда она убедилась, что он не собирается убирать одеяло дальше. Она надела в постель ночное кимоно. Светло-голубой шелк, под цвет ее глаз, приподнимался и опускался на груди с каждым вздохом.
Гэндзи медленно провел пальцем от подбородка к талии по линии запаха кимоно, слегка раздвинув его края. Тело Эмилии было мягким и горело, словно в лихорадке. Прилив крови окрасил ее скулы и веки в розовый цвет.
Ее дыхание участилось. Она отвернулась.
Гэндзи прикоснулся к ее щеке, и Эмилия снова повернулась к нему.
Можно, я тебя поцелую? – спросил он.
То, что он спросил ее об этом, и спросил так робко, оказалось уже сверх сил Эмилии. Слезы хлынули ручьем из ее глаз.
Да, – ответила она и зажмурилась.
Его поцелуй был таким легким и нежным – чуть больше, чем прикосновение теплого дыхания к ее губам, – но от этого поцелуя Эмилию бросило в дрожь.
Она должна ему сказать. Она должна сказать сейчас, пока умолчание не превратилось в ложь.
Я не девственна, – сказала Эмилия.
Я тоже, – отозвался Гэндзи и поцеловал ее снова.
1953 год, монастырь МусиндоИногда сразу по пробуждении старая настоятельница Дзинтоку оказывалась не там, где ей следовало бы проснуться, в двадцать седьмом году правления императора Сёва, а в пятнадцатом году правления императора Мэйдзи, или шестом году правления императора Тайсё, или, чаще всего, в двадцать первом году императора Комэй. В пятнадцатом году правления императора Мэйдзи Макото Старк впервые появился в монастыре. Шестой год императора Тайсё был памятен тем, что с этого времени Япония начала представлять собою вполне оформившуюся силу, войдя в число победителей в Великой войне. А в двадцать первом году императора Комэй она просыпалась часто потому – так ей казалось – что именно тогда произошла вторая битва при Мусиндо, та самая, в результате которой погибла госпожа Хэйко, Дзинтоку стала настоятельницей, и… и что же там было еще? Что-то ведь было…Вот и нынешним утром старая настоятельница Дзинтоку, проснувшись, принялась размышлять об этом, но так и не смогла вспомнить. Ну и ладно. Само вспомнится. Или не вспомнится. И то, и другое неважно.
Дзинтоку терпеливо сидела на подушке, пока прислуживающая ей монахиня и трое гостей суетились в маленькой гостиной ее домика. Здесь было слишком мало места для такой толпы. Особенно с учетом того, что гости притащили с собой кое-какое весьма габаритное оборудование, в том числе что-то вроде кинокамеры.
Вы готовы, преподобная настоятельница? – спросила молодая монахиня.
Я всегда готова. Или вы хотите, чтобы я была готова к чему-то особенному?
Великолепно! – сказал мужчина в безвкусном западном костюме. – Пусть она скажет это в камеру. Эй, Яс, установи-ка камеру прямо здесь.
У него была стрижка, вошедшая в моду во времена американской оккупации; волосы были длинные и сальные, и смотрелась эта стрижка одновременно и по-гангстерски, и как-то по-бабьи. Дзинтоку не знала этого человека, и он ей не нравился. Не из-за одежды, и не из-за волос, а из-за того, как у него блестели глаза и как он зыркал по сторонам. Такими были глаза у молодых людей во время войны – не Великой войны, та закончилась тридцать пять лет назад, а Великой Восточноазиатской войны, которую все теперь называли Великой Тихоокеанской войной, или еще, в подражание американцам, Второй мировой войной. А были у них такие глаза потому, что прежде, чем отправить их умирать на самолетах или кораблях, им давали маленькие белые таблетки, от которых они теряли потребность во сне и пище, и рвались обрушиться на американские корабли в самоубийственной атаке.
Это будет нелегко, – сказала монахиня.
Почему? – спросила молодая женщина.
Она была одета в том же стиле, что и мужчина, который не понравился Дзинтоку – на американский манер, кричаще и безвкусно; юбка открывала большую часть толстых, некрасивых икр. И косметики у нее на лице было столько, что впору было бы шлюхе из Гинзы. Волосы были уложены в сложную прическу и завиты – это называлось «химия». Молодая женщина не вызвала у Дзинтоку той неприязни, какую вызвал мужчина. Вместо этого настоятельнице стало жалко ее. Несомненно, она так нелепо изуродовала себя ради мужчины – не ради этого, так ради другого. Женщины всегда делают то, чего хотят мужчины, даже если те хотят чего-нибудь странного и вредного. Как это печально!
Преподобная настоятельница никогда не повторяется, – пояснила монахиня.
Но мы просто зададим ей тот же самый вопрос, – сказал мужчина.
Она никогда не дает на вопрос тот же самый ответ, – сказала монахиня.
Вот это типаж! – сказал мужчина, как будто Дзинтоку здесь не было. – Это тоже здорово. Мы получим изумительный материал для программы.
Какой программы? – поинтересовалась Дзинтоку.
Разве вы не помните, преподобная настоятельница? – сказала монахиня. – Сегодня к нам приехали репортеры с канала НХК, чтобы взять у вас интервью. Они хотят заснять вас для своей передачи о жителях Японии, которые перешагнули столетний рубеж. Это часть программы празднования первой годовщины избавления от американской оккупации.
Да, преподобная настоятельница, – подал голос репортер. – Япония снова свободна.
Япония никогда не была свободна, – возразила Дзинтоку. – Князья правили ею прежде, и правят поныне.
Я это заснял, – сказал оператор.
Клево, – сказал репортер, – но мы не сможем это использовать. Это слишком милитаристское замечание.
Она что, не в курсе, что феодализм закончился сто лет назад? – спросила женщина, разрисованная под шлюху.
Преподобная настоятельница говорит метафорически, – ответила монахиня. Это была уже не та монахиня, которую приставили к ней в прошлом месяце. Ту Дзинтоку замотала и выжила. Эта была пока полна сил. И она была молодая. Возможно, она продержится дольше прочих.
Ну, как бы то ни было, давайте переведем разговор на более безопасную почву, – сказал репортер. Он заглянул в свои записи, чтобы освежить память, и произнес, как будто говорил наизусть: – Преподобная настоятельница, вы – одна из самых известных долгожителей нашей страны. Вы как мать-основательница монастыря Мусиндо воплощаете в себе связь с нашими высоко ценимыми традициями. В Японии больше долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, чем в любой другой стране мира – пропорционально общей численности, конечно. Как вы думаете, является ли это результатом того глубокого интереса к вопросам духовности, который разделяют столь много японцев?
Я думаю, что это своего рода проклятие, – ответила Дзинтоку. – Мы, японцы, очень медленно учимся. Мы совершаем одни и те же ошибки снова и снова, войну за войной, убивая всех, кто попадается нам на глаза. Потому боги и Будды обрекают нас на долгую жизнь, исходя из большего количества ошибок у нас на пути.
Снято, – доложил оператор, – но, боюсь, это мы тоже не сможем использовать.
Может, и сможем, – сказал репортер. – Это антимилитаризм, и это звучит достаточно покаянно. Может и пойти.
Человеку не следует жить так долго, – сказала Дзинтоку. – Все, кого я знала в молодости, уже тридцать лет как мертвы. И невозможно удерживать такое количество лет в порядке.
Оператор вопросительно взглянул на репортера. Репортер описал пальцем круг в воздухе, и оператор стал снимать дальше.
Вы, конечно же, находите утешение в религии и помогаете обрести его другим?
Я ничего не знаю о религии.
Вы слишком скромны, преподобная настоятельница. Вы почти на протяжении века являетесь очень уважаемым религиозным лидером. Тысячи людей пришли к вере благодаря вашему духовному руководству.
Не обвиняйте меня за то, во что верят другие, – сказала Дзинтоку. – Секта Мусиндо учит освобождению от иллюзий. Это не имеет ничего общего с религией – это просто упражнения. Тренировка. Либо вы это делаете, либо нет. Все очень просто. При этом вы можете верить или не верить во все, что пожелаете. Вера не имеет ничего общего с реальностью.
Это новый, непривычный взгляд на проблему, преподобная настоятельница. Он явно отличается от того, что сказали бы настоятели других обителей и храмов Японии.
Не обязательно, – возразила Дзинтоку. – Один из дзенских патриархов древности – или это был кто-то из мудрецов секты Кегон? – сказал об этом коротко и точно. Очень известное высказывание, относящееся ко времени Опиумной войны, когда англичане заставляли китайцев покупать опиум. Он сказал: «Религия – опиум для народа».
Репортер провел ладонью по горлу, будто изображал, что перерезает его.
Оператор поднял голову.
Я уже остановил камеру. Еще когда она обозвала англичан наркоторговцами.
Потрясающе, – сказал репортер. – Она умудрилась оскорбить наших английских союзников, опорочить дзенскую и кегонскую церкви и ввернуть противозаконную коммунистическую пропаганду, и все это в каких-нибудь трех предложениях.
Спросите ее про ее книги, – сказала женщина с противоестественно тугими кудрями и кроваво-красной помадой. – Их все любят.
Верно, – подтвердил оператор. – И это – реальная связь с нашими почитаемыми национальными традициями.
Ну, ладно, – с некоторым сомнением сказал репортер. – Фуми, покажи ей какие-нибудь ее книги. Возможно, ей требуется освежить память.
Безвкусно размалеванная женщина, которая была бы довольно красивой, если бы не вся эта косметика, вручила Дзинтоку детскую книжку с красочными иллюстрациями. Это была сказка про Персикового Мальчика, родившегося в персике. Иллюстрации были яркие и веселые. Даже демоны, и те выглядели дружелюбными.
Мне очень нравится, – сказала Дзинтоку. – Спасибо.
Нет-нет! – сказал репортер. – Это вы написали эту книгу, так же как и эти все. – Он положил на стоящий между ними столик целую стопку книг. – Они пользовались огромной популярностью в эпоху Мэйдзи. Теперь, когда оккупация закончилась, эти книги снова стали популярны. Я думаю, они напоминают людям о старых добрых временах.
Я написала эти книги? – Дзинтоку пролистала другую книжку. В ней рассказывалось про Принцессу-Черепаху. – А я и не знала, что умею так хорошо рисовать. Как это печально. Я так безвозвратно утратила этот талант, что даже не помню, что я им когда-то обладала.
Вы написали эти книжки. Записали пересказ старых сказок. Вы не рисовали иллюстрации. Это сделал попечитель этого монастыря. – Репортер повернулся к оператору. – Очень жаль, что мы не можем поговорить с ним. Получилась бы изумительная история.
Не уверен. Вдруг он тоже принялся бы нести то же самое, что и она? – отозвался оператор.
Так эти рисунки нарисовал Горо?
Репортер повернулся к женщине.
Кто такой Горо?
Она просмотрела свои бумаги и покачала головой.
Понятия не имею. Его нет в списке.
Выясните, – приказал репортер и снова повернулся к Дзинтоку. – Вы не помните попечителя этого храма? Это был американец, Макото Старк.
Макото? Макото – наш попечитель?
Он им был, преподобная настоятельница. Он скончался много лет назад.
Бедный мальчик!..
На глаза Дзинтоку навернулись слезу. Неужто он так и не оправился от полученной раны? А ведь когда она видела его в последний раз, он вроде бы так хорошо выглядел… Насколько могла припомнить Дзинтоку, эта встреча произошла в пятнадцатом году эпохи Мэйдзи, семьдесят один год назад. Если Макото и вправду нарисовал картинки к этим книжкам, как утверждает этот развязный человек, значит, должно быть, он все-таки оправился от раны и умер позднее, по какой-то другой причине. И все равно печально. Дзинтоку помнила молодого человека, и потому в душе оплакивала именно того молодого человека, которого сохранила ее память.
Ну чего, можем заканчивать, – сказал репортер.
Что, все провалено? – понитересовался оператор.
Ничего подобного, – отозвался репортер. – Я – мастер монтажа. Соберем все фрагменты, где она улыбается, и вообще все, что удалось. Никаких непосредственных разговоров с нею. Фуми поработает голосом за кадром. В общем, я из нее сделаю конфетку.
Он поклонился Дзинтоку.
Большое вам спасибо, преподобная настоятельница. Мы обязательно сообщим вам, когда передача должна будет выйти в эфир, чтобы вы могли посмотреть на себя по телевизору.
Я вижу себя каждый день, – сказала Дзинтоку. – Мне не нужен для этого телевизор.
Спасибо за то, что вы приехали, чтобы побеседовать с преподобной настоятельницей, – сказала монахиня. – Она не хотела быть невежливой. Просто она всегда идет прямым путем, вот и все. Насколько я понимаю, она была прямодушной с самого детства.
Пока Дзинтоку наблюдала за отъездом телевизионщиков, ей вспомнилось, о чем она думала, когда проснулась этим утром. В начале осени четырнадцатого года правления императора Комэй, когда ей, кажется, было четырнадцать лет, она нашла свиток, спрятанный под камнем старого фундамента. Она собиралась отдать его госпоже Ханако, но госпожу Ханако убили в бою, и потому она решила припрятать этот свиток до тех пор, пока не представится возможность отдать его в руки князю Гэндзи. По причинам, которые настоятельница сейчас уже не помнила, свиток так и остался у нее, по сей день. Разворачивала ли она его, читала ли? Если и да, то сейчас она ничего не помнит. Но точно помнит, куда она его спрятала. Или она его переложила?
Старая настоятельница Дзинтоку с трудом поднялась на ноги и двинулась в сторону своей спальни, расположенной в дальней части монастырского флигеля. Но когда она одолела только половину пути, кто-то крикнул ей от главной двери:
Бабушка! Бабушка! Мы здесь!
Голос принадлежал маленькому мальчику и звенел от нетерпения. Должно быть, он проскользнул мимо отъезжающей группы телевизионщиков. И кто бы это мог быть? Она должна знать его голос. А может, и нет. Их так много!.. После того, как правительство Мэйдзи постановило, что все хранители буддийских храмов должны вступить в брак или отказаться от религиозной деятельности, Дзинтоку вышла замуж. Не то, чтобы ей так уж сильно этого хотелось – но если бы она этого не сделала, она утратила бы контроль над монастырем, а монастырь был для нее всем.


