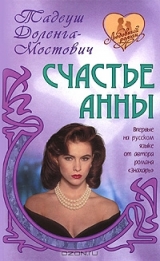
Текст книги "Счастье Анны"
Автор книги: Тадеуш Доленга-Мостович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Анна заверила пани Костанецкую, что Буба вообще не сталкивается со служащими и что, кроме того, у нее достаточно такта, но на всякий случай она обратит внимание на ее отношения с коллегами.
– Я сердечно вас благодарю, – обнимала ее пани Костанецкая.
– Не за что, это почти моя обязанность.
– Большое спасибо вам, дорогая, и не забывайте нас. Мой муж и я будем очень рады, если вы захотите как можно чаще нас навещать.
– Я безгранично вам благодарна за добросердечие, – ответила Анна, – и по мере возможности буду стараться видеться с вами как можно чаще, но у меня действительно очень много работы…
– Пойдемте же! Уже поздно! – звала из прихожей Буба.
Когда они вышли на улицу, она взяла Анну под руку и начала строить планы на будущее. Если Анна получит отпуск, Буба тоже постарается получить, и тогда вместе они поедут за границу, но не с экскурсией, а самостоятельно, без определенной цели…
«Какой же она еще ребенок, – думала Анна, – и какая я уже старая. Пани Костанецкая чуть не сказала, что на работе я должна быть почти матерью. А ведь у нас с Бубой разница всего в несколько лет».
Вдруг промелькнула мысль: в отношении Марьяна к себе она тоже заметила нечто вроде уважения или даже почитания, с каким люди относятся к особам значительно старше, чем сами.
Неужели я действительно такая старая? Нет, это невозможно! Она была уверена, что выглядит молодо, даже очень молодо, что она достаточно свежа и привлекательна и что не меньше, а может быть, даже больше, чем прежде, нравится мужчинам. Вероятно, здесь кроется что-то другое.
Очевидно, такое впечатление у него сложилось из-за того, что она так скрупулезно занималась его делами, точно опекала его.
Это снова напомнило Анне те несчастные триста злотых, которые Минз не хочет выплачивать. И сегодня ей нужно во что бы то ни стало решить эту проблему. Обратиться за деньгами к Бубе было бы неприлично. Хотя у нее самой нет денег, она, конечно, достала бы у родителей. Но это выглядело бы как взятка.
Значит, единственный способ выхода из сложившейся ситуации – воспользоваться вспомогательной кассой, в которой всегда есть несколько сотен злотых. Это вовсе не будет злоупотреблением. Получив зарплату, она вернет в кассу все, и об этом никто не узнает.
Эта мысль у нее уже появлялась и раньше, но сначала она казалась невозможной. В первые минуты она назвала это растратой, потом злоупотреблением, но сейчас это представлялось ей уже только самоуправством. Что, в конце концов, в этом преступного? Она же не собирается присвоить эти деньги. Они лежат неиспользованные, поскольку никаких больших затрат туристический отдел в ближайшее время производить не планирует.
Придя в отдел, она открыла шкаф, вынула кассету и пересчитала содержимое: четыреста тридцать два злотых.
Никто и никогда не контролировал этих счетов, не превышающих нескольких сотен злотых, хотя они были проведены через отдел Анны с исключительной точностью. На каждый выданный грош существовала квитанция с датой и даже с указанием фамилии, которая перечислила в бюро эти деньги.
Каждый месяц Анна передавала в Центральную кассу короткий отчет, после чего получала в распоряжение следующую сумму. Это не практиковалось в других фирмах, где Анна работала раньше, но в «Мундусе» стало традицией и удерживалось, несмотря на несколько «рационализации» и «реорганизаций», несмотря на все усовершенствования, которые время от времени вводил директор Минз.
Анна вынула из кассеты сто злотых, вырвала листок из блокнота и написала на нем: «Начальником отдела взято сто злотых до получения заработной платы».
Она поставила дату и расписалась. Но в тот момент, когда она уже собиралась вложить листок в целую пачку подобных документов, пришла в голову мысль: «А что если Минз захочет проверить кассу?».
Она покраснела и порвала листок на мелкие кусочки, на такие мелкие, чтобы никто не мог достать из корзины, сложить и прочитать.
Она быстро закрыла кассету и начала работать. Минут через пятнадцать позвонил Марьян. Он вернулся из Свидра поздним вечером. У Ирены начались сильные головные боли, и ему нужно было заменить ее у постели Казика, пока тот не уснул.
Они договорились пообедать вместе в каком-нибудь ресторане.
– А после обеда, – добавила Анна, – а после обеда, дорогой, решим несколько твоих проблем.
– Пока это невозможно – рассмеялся он, – у меня еще нет денег.
– У меня уже есть немного для тебя, – ответила она быстро.
– Получила?
– Да. Значит, до свидания.
Анна быстро положила трубку. Она боялась, что Марьян захочет узнать, почему он должен в этот раз получить деньги не из кассы. Она начала работу, но никак не могла сосредоточиться. Сознание наличия в сумке чужой купюры не покидало ее ни на минуту, хотя она старалась успокоить себя: стоит ли так переживать из-за этого факта, хорошего или плохого, правильного или нет, но уже совершившегося?
«Если даже сейчас я верну те сто злотых в кассету, – убеждала она себя, – это все равно не освободит меня от угрызений совести. Если то, что я сделала, неэтично, этому уже не помочь».
Она нервно просматривала бумаги, совершенно не понимая, о чем они.
Разумеется, официальная, костельная или государственная мораль квалифицировала бы это действие как неэтичное. Но это – абсолютная мораль. Она не имеет ничего общего с жизнью. Ее критерии беспощадны. Сколько уже было случаев, которые приводили к жестокости! Да и вообще человек на высоком уровне культуры имеет внутреннее право классифицировать понятия самостоятельно. Единственным судьей может здесь быть только собственная совесть.
Однако этот единственный судья не убеждал Анну. Наоборот, она пыталась его переубедить.
Например, воровство хлеба. Кто-то крадет от голода, и поэтому его не судят. Не осужден, потому что не провинился. Общественность считает, что каждый имеет право на жизнь. Если потребность в пище у человека доведена до крайности, он может получить эту пищу нелегальным путем, который, следовательно, становится легальным, если его за это не судят. Но было бы бессмысленно утверждать, что голод – самое важное чувство, что желудок, поддержание физического существования является высшим благом, законом. Это было бы отрицанием души. Ведь существуют духовные потребности, столь же сильные и безусловно более важные, чем потребность наполнить желудок. Почему же спазм в желудке должен оправдывать нелегальные поступки, а духовными страданиями можно пренебрегать?
Беря деньги, она не взяла их себе. Кроме того, она убеждена, что они принадлежат Марьяну. Если и можно отрицательно квалифицировать ее поступок, то, во всяком случае, высшее право, право логики, безусловно на ее стороне.
И все-таки она была недовольна собой, хотя и не могла понять, на чем основано это ее недовольство. Вероятно, на каком-то суеверии, сидящем в ней в результате жизни многих поколений, которые ни в чем не испытывали недостатка и руководствовались ничего не значащей моралью.
Она вспомнила классический пример такой ничего не значащей морали, не имеющей никаких философских, да и вообще разумных оснований? Однажды Буба Костанецкая рассказывала ей о своем отце. Пан Костанецкий, когда считал что-то неэтичным, категорически заявлял:
– Мне кажется, я бы не согласился.
– Но почему, папочка, объясни мне, пожалуйста, почему? – настаивала Буба.
На что отец неизменно отвечал:
– Ну, потому что как же так можно, дорогая?!
И это было единственным объяснением. Неизвестно зачем, неизвестно почему, на каком основании, просто «как же так можно».
Это вовсе не аргумент, и Анна не удивлялась тому, что Буба в таких случаях злилась. В конце концов, если мы живет во времена, когда люди во всех областях уже умеют пользоваться мозгом, ответ «как можно» явно недостаточен. Такой догматизм был хорош для темных, не умеющих мыслить мужиков сто лет назад, но и тогда находились аргументы. Говорили, что Бог за это будет гневаться, что это приносит несчастье.
Даже в воспитании детей уже давно отказались от такой системы. Каждое рассуждение должно быть мотивировано воспитателем, каждое мнение разумно обосновано.
А поскольку разумное обоснование говорило Анне, что она поступила правильно, то она совершенно успокоилась и, выходя в обеденный перерыв на встречу с Марьяном, даже не взглянула на кассету.
Он ждал ее на остановке. Уже издали она увидела его высокую, стройную фигуру и грустное лицо. Каждый раз, когда они встречались, она замечала, как меняется лицо Марьяна. Вдруг оно озарялось улыбкой или чем-то неопределенным. Лицо оживало, пылало, а глаза из задумчивых становились восторженными.
Как же ей было не верить в его любовь? Как могла она не гордиться тем, что само их сближение меняет такого, как он, человека до неузнаваемости, наполняет его жизнью и радостью!
– Что это, Марьян, что вспыхивает в тебе, точно лампа во мраке ночи? – как-то спросила она у него.
– Это счастье, – ответил он лаконично.
– Счастье? Расскажи мне о нем что-нибудь.
– Да я и сам немного знаю о нем, – улыбнулся он. – Счастье ревнует к своей тайне. Оно не позволяет, чтобы его исследовали, анализировали.
– Даже тебе? – удивилась она.
– Даже мне. Каждому, потому что каждый, я думаю, когда его встретит счастье, становится объектом этого счастья. Он утрачивает возможности, способности, теряет потребность в исследовании. А может… может, такая утрата как раз и является счастьем?..
Она засмеялась и прильнула к его плечу.
– Человече, а чем занимаешься ты в данную минуту?
– Я?
– Да! Ты ведь анализируешь!
Он тоже засмеялся, и, уже не разговаривая, они пошли, прильнув друг к другу, вдоль широкой аллеи Лазенок.
Это было еще в первые дни их счастья, еще накануне того момента, когда они должны были согласиться с тем, что оно неполное.
Но все-таки оно не утратило для них своей удивительной прелести. И сейчас от ее взгляда посветлело его лицо, и он шел навстречу ей, точно без сознания, задевая прохожих.
– Марысь! – приветствовала она его, протягивая руку.
– Просто не понимаю этого, просто не понимаю, – говорил он тихо, сжимая ее ладонь.
– Чего, кухасю?
– Что?!
Она громко рассмеялась.
– Удивила тебя новым эпитетом?
– Кухасью?
– Нет, кухасю! Я попрошу не искажать. Это отец панны Костанецкой так обращается ко всем.
– И к тебе?
– Почти, до этого мало осталось. Я ночевала у них сегодня.
– У Костанецких? Почему?
– Разные были причины домашнего происхождения, – избегая вопроса, ответила Анна. Она не собиралась делать тайны из нападения Кубуся, но не любила говорить о вещах неприятных. – Скажи мне лучше, чего ты не понимаешь?
– Ты красива; я вижу тебя в своем воображении целый день и с точностью помню твои фотографии, но все-таки каждый раз, когда встречаю тебя снова, ты бываешь бесконечно красивее, чем я мог себе представить. И вот этого как раз я понять не могу. В порядке вещей должно быть наоборот.
– Но ты не жалеешь об этом? – игриво спросила она.
Он внезапно нахмурился.
– Марысь! – она легко потянула его за рукав.
– Не жалею ли? Это должно быть моей трагедией.
– Глупый ты. Пойдем обедать.
Они свернули за угол и вошли в ресторан. Как обычно в это время, здесь было пусто. Только за несколькими столиками сидело пять или шесть молодых женщин, быстро справляющихся с обедом.
– Удивительно, – заметила Анна, – только женщины.
– Что ты говоришь? – откликнулся Марьян.
– Я говорю, одни женщины. Где деваются мужчины?
– В барах. Едят в барах. Они должны есть быстро. Вообще и женщины ходят в бары. Эти, что здесь, наверное, начальство, традиционалистки, завсегдатаи. Посмотри, те две едят даже суп. Гастрономический анахронизм. Есть такая индийская драма седьмого века «Маляти и Мадхава», автор которой, если не ошибаюсь Бхаватхути, хочет доказать, что стоит на страже традиции, что она сосуд, в котором хранятся давние обычаи. После него в шестнадцатом веке того же мнения придерживался Бальтазар Кастильони. Да и наш Гурницкий утверждал что-то в этом роде. Зато еврейские мудрецы, Платон например, а из более современных Вейнингер, придерживаются иного взгляда. Все эти мыслители были, увы, мужчинами.
– А что говорят мыслительницы?
Дзевановский рассмеялся.
– Однажды я разговаривал об этом с доктором Щедронем. Так вот он утверждал, что мыслительниц не было, потому что женщина даже когда думает, и тогда лишь мечтает.
– Но, Марьян, ты же не станешь утверждать, что на свете не было ни одной мудрой женщины! – возмутилась Анна.
– Определенно были. Так я, по крайней мере, думаю. Ни одна, однако, не оставила после себя трудов, которые бы это подтверждали. Зато в практической жизни они чаще мудрее мужчин, но для этого вовсе не нужно быть мыслительницей.
– Наверное, и мечтательницей тоже.
– Кто знает?.. Существуют два типа абстракции. Один заключается в создании общих понятий, другой – в выработке впечатлений. Это, пожалуй, следует дифференцировать: оперирование понятиями и оперирование впечатлениями. Второе, скорее, является фантазией, сферой артистов и женщин. А встречаются и женщины, и артисты, одаренные как большой фантазией, так и практическим смыслом. Но возвращаясь к тем женщинам и к их супу… Мне кажется, что они представляют исключение вместе с супом…
– С супом?
– Да. Вообще у женщин необычайно развита способность приспосабливаться. Они акклиматизируются в новых условиях и ассимилируются в незнакомой среде значительно легче и быстрее, чем мужчины.
Анна вспомнила Владека Шермана, который говорил то же самое. Только он утверждал, что это – «плазма».
– Женщины представляют главную и важнейшую часть человеческого вида, – рассуждал Владек. – В женщине сохраняется плазма в незаряженном состоянии. У мужчины произошла дегенерация плазмы посредством духовного развития. Он создал философию, религию, науки, этику и право. Он отдалился от природы и поэтому разучился приспосабливаться. Женщины ее сохранили. Если бы не мимикризм непораженной плазмы, человечество уже давно бы исчезло.
– А консерватизм? – заметила тогда Анна. – Ты же сам не один раз упрекал нас в консерватизме.
– Консерватизм – это уже приобретение цивилизации и как раз продукт мимикризма женщины. Консерватизм образовался в результате патриархата, а патриархат создал условия, вне которых в эпоху всеобщего господства женщина не могла существовать. Незамужних матерей выгоняли из дома и из города. Брак стал единственной формой существования, а консерватизм – инертной тенденцией, которая уже сейчас сводится к нулю.
Когда Анна повторила это пани Гражине, то услышала от нее, как всегда, простое и ясное объяснение:
– Во-первых, я консерватор, а ты считаешь меня такой неразумной, что я стала им только по инерции?.. А во-вторых, задумайся над вопросом: кто заинтересован в сохранении института семьи и кто поэтому создал патриархат – женщины, для кого это так важно, или мужчины, всегда склонные к военным походам, охоте, путешествиям и к… непостоянству?
А Марьян говорит, что женщины не могут быть мыслителями! Такая тетушка Гражина всегда знает, о чем думает. Анна не могла удержаться, чтобы не выдвинуть этот аргумент. Дзевановский слушал внимательно. Как ей нравилась в нем эта черта. Как она ценила в нем то, что он никогда ни одного высказывания не отбрасывал пренебрежительно, что каждое принимал с одинаковой добросовестностью и, признавая аксиому Плинюшевского о том, что нет ничего определенного, в то же время не позволял себе относиться априори даже к самому мелкому вопросу, к задачам, в которых иные сыпят градом аксиом.
Дзевановский говорил:
– Пани Гражина, несомненно, существо мыслящее. Ее аргументы подобраны интеллигентно, если идет речь о результате, поскольку она убедила тебя. У многих женщин следует признать ловкость или, если хочешь эвфемизм, — esprit d ' a propos в поиске эффективных контраргументов. В данном случае можно было бы действительно усомниться в некоторых поспешных выводах, поставить серьезный знак вопроса к консерватизму, например, самой пани Гражины… Хм… Считать себя консерватором?.. Но это еще не решает вопроса. Вопрос интерпретации самого названия и функции мировоззрения остается открытым… Но вернемся к супу. Хорошо? Обратимся к моде.
– В одежде?
– Во всем. Однако, чтобы не расширять задачу, ограничимся модой в одежде, в прическах и т. п. Тут, кажется, Платон больше прав, чем граф Кастильони, так как сам факт повсеместности и беспрестанной изменчивости моды свидетельствует о небольших симпатиях женщины к традиционализму. Наоборот, почти каждая способна к дальнейшим пожертвованиям, к физическим страданиям и даже к риску стать смешной, только бы не опоздать в перемене. Можно, правда, усматривать в этом инстинкт соперничества, но с момента, когда это движение становится постоянным и массовым, индивидуальные импульсы, наверное, играют здесь небольшую роль.
Анна посмотрела на часы. Она очень высоко ценила разговоры с Марьяном, хотя обычно спустя какое-то время ее начинало утомлять уже то, что содержание этих разговоров не имело никакой связи со срочными и более близкими делами. «Мир мы все равно не изменим, – думала она, – а в нем нужно жить». А Марьян как раз не умел этого и потому ее обязанностью было следить, чтобы он не отдалялся слишком далеко от обычных жизненных потребностей.
Кроме того, она не умела с ним дискутировать. Что бы он ни говорил, она готова была принять, потому что принимала его таким, каким он был, потому что любила его, и те или другие взгляды не оказывали на это ни малейшего влияния. Вероятно, поэтому она не находила аргументов, опровергающих его утверждения. В разговоре с ним не было необходимости в обостренном внимании, памяти и мысли. Здесь не нужно было тотчас же реагировать на каждую мысль, быть настороже, чтобы последовательно дискутировать, иметь постоянно открытый состав реквизитов – фамилии, цитаты, названия произведений, чтобы всегда можно было найти что-нибудь соответствующее и даже эффективное. Когда она еще не знала Марьяна так близко и относилась к нему, как к другим мужчинам, она могла быстро мобилизовать свой интеллект и дискутировать по самым трудным отвлеченным темам, подчас удивляясь самой себе. Острота, живость, проницательность приводимых доводов складывались в единое целое, блистательное, интересное, утонченное и часто очень убедительное. Такой разговор, такой спор напоминал партию тенниса, а отличался тем, что, чем более высокого класса был противник, тем совершенней реагировал на него ее интеллект. И как после партии тенниса, она чувствовала себя иногда уставшей, исчерпанной и какой-то ошеломленной.
Но ее партнером в дискуссии не мог быть кто-то полностью безразличный или уж совсем близкий. Внутренний допинг рождался лишь тогда, когда она хотела понравиться и вызвать к себе интерес или чувствовала к этому человеку неприязнь, спонтанную антипатию и просто хотела добиться над ним победы. Если такая победа в глазах аудитории приносила ей лавры, если давала возможность эффектно показать себя, а в противнике она отмечала восторг, то уже не питала к нему неприязни. Муж Анны неоднократно острил на эту тему, что раздражало ее. Эти остроты были довольно банальными. Кароль всегда подходил к ней поверхностно. Так, пожалуй, все мужья трактуют своих жен. Когда однажды она ему об этом сказала, он пожал плечами:
– Знают их.
– Но знали их также, когда женились.
– Тогда было другое дело, они были другими.
– Нет, были теми же, – ответила она спокойно, хотя все в ней негодовало, – только такой муж после свадьбы считает лишним усилием вообще разговаривать с женой.
– Наверное, не находит в этом ничего интересного.
– Спасибо тебе, – оскорбилась она.
– Но, моя дорогая, – удержал он ее, – я не говорю о нас, я не говорю о тебе. Мы ведь часто разговариваем.
Однако это было не так. Они действительно разговаривали, но только о домашних делах, о Литуне и ее здоровье, о прислуге. Кто же назовет это дискуссией?
Владек Шерман утверждал:
– Брак уже в самом основании неустойчив. Устойчивость рождается из обмена мыслей, чувств и наслаждений. Спустя несколько лет наслаждение приобретает привкус черствого хлеба, чувства охладевают. Все мысли знакомы, точно истершаяся от использования монета. Остается иной обмен: плохим настроением днем и неприятными запахами ночью.
В другой раз он говорил:
– Там, где среди мужчин находятся женщины, не может быть дискуссии. Женщины в большинстве своем не способны дискутировать. Когда они остаются без мужчин, их удовлетворяют сплетни, болтовня, споры или ссоры.
Несмотря ни на что, Анна любила Владека и с улыбкой воспринимала то, что называлось его цинизмом. Ее развлекало даже то, что она считала парадоксами, а злобу и женофобию Владека она относила за счет его увечья.
Она любила разговаривать с Дзевановским, любила слушать его заключения, правда лишь в том случае, если они не были слишком длинными. А как раз чаще всего так и случалось. У них никогда не было времени, и часы уходили на общие проблемы, ни в коей мере не касающиеся их личных. А она была слишком во власти жизни, чтобы надолго забыть о ее требованиях.
– Нам уже нужно идти, – она посмотрела на часы и пригласила официанта: – Прошу счет.
У официанта не нашлось сдачи, а у Марьяна не было мелких, и Анна поспешила этим воспользоваться. Под разными предлогами она всегда старалась регулировать общие счета, зная, что он не обращает на это внимания и что ему очень нужны деньги.
В оставшееся до возвращения на работу время они еще успели решить несколько проблем.
Когда она отдавала ему остаток из ста злотых, он спросил:
– Мне нужно зайти в «Мундус» и расписаться в ведомости?
Она быстро отвернулась, чтобы спрятать румянец.
– Нет-нет, я все это сама уже сделала.
– У тебя не было проблем?
– Никаких, будь спокоен. Остальное получишь в следующем месяце.
– Так в «Мундусе» тоже затруднения с выплатой? – удивился он.
– Вовсе нет, лишь некоторые формальности.
– Ты знаешь, – улыбнулся он, – когда я беру деньги, у меня возникает какое-то странное чувство изумления: эти деньги нужны для жизни, а мне они достаются всегда как бы случайно.
– Как это случайно? – растерялась она.
– С неба.
– Ты ведь заработал их!
– Нет. Я не умею зарабатывать. Я поехал руководителем той экскурсии, чтобы оставить тебя в приятном заблуждении, что я могу для чего-нибудь пригодиться. Иллюзии развеялись, а деньги есть. Поэтому с неба.
Анна не могла справиться с нервами. На мгновение ей показалось, что он догадывается, откуда взялись эти мерзкие сто злотых. Подсказала интуиция или прочел в ее глазах? Она поразилась, но тотчас же отбросила эту нелепую мысль.
– Я ухожу, – сказала она, – не провожай меня. Я не хочу, чтобы нас постоянно видели вместе, особенно в районе моей работы.
На углу она оглянулась: он стоял и смотрел на нее. Она улыбнулась и пошла быстрее. У входа в «Мундус» задержалась на минуту и медленно повернулась.
Где-то поблизости был магазин. Она уже не раз видела белую вывеску на витрине между кольцами, часами и цепочками: «Покупаю бриллианты, золото, бижутерию по самым высоким ценам».
«Нужно успокоиться, – подумала она, – а то ведь могут подумать, что предлагаю ворованное».
Она вынула из сумки зеркальце, слегка припудрила нос и вошла. За прилавком сидела пожилая еврейка и читала книгу.
– Я бы хотела продать это, – сказала Анна и положила на стекло браслет.
Продавщица не двинулась с места, но из какого-то угла за прилавком мгновенно высунулась маленькая фигурка молодого толстяка.
Он молча взял браслет, осмотрел его через увеличительное стекло, бросил на малые латунные весы и положил перед Анной.
– Это античность. Я его не куплю у вас. Я мог бы дать вам за это только цену золота и камней.
– Это сколько?
Он еще раз осмотрел браслет.
– Сто двадцать, ну пусть еще пять.
– Но это очень мало, это же ценная вещь.
– Видите ли, – пожал плечами еврей, – каждый то, что имеет, хочет считать необыкновенно ценной вещью. Если бы имущество всех людей рассчитать в соответствии с тем, что они сами о нем думают, не хватило бы всех миллиардов мира. Конечно, для любителя этот браслет стоит гораздо больше.
– Сколько?
– Может, двести, двести пятьдесят злотых. Я могу принять в комиссионный.
– А… вы дали бы мне, скажем, сто злотых авансом?
– В комиссионном? Нет. Не могу.
– А как скоро можно это продать?
– Откуда же мне знать? Бывает, что и за неделю, а иногда и год можно ждать покупателя. Это ведь необычная вещь.
Анна отвернулась к окну и размышляла.
– Мне очень нужны деньги сейчас, – сказала она наконец, – дайте мне сто пятьдесят.
– Дам сто двадцать пять.
– Ладно, – согласилась она.
Он открыл ящик и медленно отсчитал деньги, после чего на фирменном бланке написал несколько слов.
– Будьте любезны подписать, что вы продали свою собственную вещь. Я попрошу вас отчетливо написать фамилию и адрес.
Она чувствовала, что краснеет, однако подписала и, боясь, что он может попросить паспорт, быстро достала его сама.
– Пожалуйста, проверьте.
Еврей покачал головой.
– Спасибо, я и так вам верю. Это лишь формальность.
Когда она входила к себе в отдел, часы показывали пятнадцать минут послеобеденного времени, а ей следовало сразу же после перерыва отослать Минзу документы на подпись.
Ее уже ждали двое сотрудников с папками, а какой-то посетитель стоял у дверей. В их присутствии она никоим образом не могла переложить деньги из сумочки в кассету. Она поспешно решила их вопросы. Однако, как назло, сразу же пришел кассир.
– Извините, в вашей кассе не найдется мелких денег? – спросил он.
Анна опустила глаза и сжала зубы. Она просто потеряла дар речи.
– Я был бы вам благодарен, если бы вы разменяли мне сто злотых.
– Ах… да-да… пожалуйста… я с удовольствием… могу вам разменять… пожалуйста…
Пальцы были какие-то онемевшие, когда она открывала сумочку и подавала ему свиток купюр по двадцать злотых, а прятала сотню.
– О-го-го! – пошутил он. – Вы – банкир. И это накануне первого, а денег – как песку морского. Сердечно благодарен и целую ручки.
Наконец она осталась одна. Спокойно осмотрелась. В этом боксе человек сидит, как в витрине. К счастью, не встретила ничьего взгляда. Быстро открыв кассету, она вложила в нее сотню, а когда села, вздохнула с облегчением, с необыкновенным облегчением. Она дрожала как студень и была почти в бессознательном состоянии.
– Боже, как это ужасно! – шептала она едва слышно. – Как это страшно! Никогда в жизни больше не совершу ничего подобного. Никогда!
Лишь в тот момент, когда вошел кассир, она осознала, какие последствия могла иметь ситуация, если бы она не вернула деньги. Минз имел право в любую минуту потребовать произвести ревизию кассы, и тогда – увольнение, полиция, компрометация. Ее бы вычеркнули из списка лиц, которым можно подать руку. Какой мог быть позор для всей семьи, для Кароля, для Литуни! Подумать только, на всю жизнь к ее дочери приклеился бы ярлык, что ее мать была воровкой… Литуня поняла бы это и простила, но их бы обеих травили близкие и знакомые, общественное мнение. Кароль бы не простил никогда. А может, и Марьян, который бы даже предположить не смог, что сделала она это для него…
Каким ясным и привлекательным стал мир и как хорошо на душе! В тот момент, когда она продавала браслет, так трудно было с ним расстаться, но сейчас она уже совсем его не жалела. Это было ничто по сравнению с покоем и радостью, которые она в результате обрела.
Одного ей сейчас не хватало до полного счастья – возможности поделиться с кем-нибудь своим переживанием. От этого, однако, она вынуждена была отказаться. Единственным человеком, которому она могла довериться, был Марьян, и он же был единственным, кому ни за какие сокровища нельзя было рассказать. Если бы это не касалось его, все было бы просто. Он, наверное, не осудил бы ее, скорее, наоборот, почувствовал бы все и все понял. Его наполненное чуткостью спокойствие напоминало неподвижное озеро, словно мельчайшая, самая невесомая песчинка, даже незначительное слово, брошенное в эту гладь, отзывалось колебанием волн, которые расходились широко и далеко, достигая самых берегов.
Когда-то она сказала ему об этом, и он в ответ рассмеялся:
– Иными словами, результат – как вилами по воде. Может, это и правда.
Но Анна была уверена, что это не так. Она знала, как глубоко он переживал все, что бы ни попало в эту глубину. Он не демонстрировал этого. Каждое колебание, передаваемое миллиардам частичек воды в озере, проникает в его глубины, хотя мы этого и не видим. А ведь были такие бури, которые не удалось замаскировать благоприятной погодой на поверхности и которые вновь возвращались.
И сегодня он снова повторил ей то же самое. Она сделала вид, что не слышит, что не придает этому значения, но это было не так. В действительности вначале она надеялась, что это не сыграет никакой роли в их любви. Только однажды она поразилась тому, что могла тогда считать отсутствием физического влечения к себе или его неполноценностью, но с течением времени поверила, что сможет с этим примириться.
Однако уже само то, что он терзался, не давало покоя и ей.
– Если можно в такие минуты извиняться, – сказал он тогда, – то извини, пожалуйста. Если бы мог стыдиться, то, наверное, стыдился бы.
Она не смотрела на него: ей было неловко. Она стыдилась своей наготы и того, что пришла, и того, что после этой встречи обещала себе. Вдруг само отсутствие физического акта, глупого и, по крайней мере, не составляющего ни для одного из них сущности их любви, внезапно это отсутствие как бы обнажило безобразность самой ситуации, животной и шаблонной: мужчина и женщина в постели, вот и все.
Он объяснял, что страдания являются потребностью говорить, а она думала, что он не любит ее. Где-то она читала, что у породистых животных-самцов часто наблюдается импотенция по отношению к менее породистым самкам. И он снова говорил о психастении. Он объяснял это психастенией: повышенное желание исключает возможность реализации желания.
Она не уважала бы себя, если бы из-за этого ее чувство по отношению к нему стало менее сильным, а он слишком высоко ее ценил, чтобы не отметить ее понимание и извинить себя за психастению.
Она знала, что он обращался ко многим врачам, хотя ей об этом не говорил. Как-то, убирая в его комнате, она нашла несколько свежих рецептов, бром и другие аналогичные средства для успокоения нервов. Она верила, что время и привычка сделают свое дело. Но время шло, а он не мог привыкнуть, скорее наоборот, в этом убеждала каждая новая попытка.
Ситуация была настолько неприятной, что единственным выходом из нее было молчаливое согласие отказаться от дальнейших попыток. Они избегали даже ласк, так как и это возбуждало их обоих.








