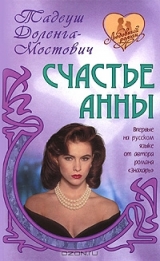
Текст книги "Счастье Анны"
Автор книги: Тадеуш Доленга-Мостович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Она оделась и, уходя, заглянула в комнату мужа. Он что-то писал, покусывая погасшую папиросу. Его голова была смешно наклонена в сторону, а правое плеча вздернуто. Он выглядел горбуном.
– Я выйду, – объяснила она. – А ты… ты в своем психологическом самоанализе мучительно банален.
– Я?.. Да. Не умею искать проблем. Смотрю на вещи просто, – ответил он, не отрывая глаз от бумаги.
– Простота не должна быть невежеством, – процедила она сквозь зубы. – Ты беспредельно толстокож.
– Согласен, – кивнул он головой.
– До свидания.
– Возьми зонт. Похоже на дождь.
Она и сама собиралась сделать это, но сейчас она злилась на мужа, на его предложение взять зонт. Он игнорировал ее переживания, ее душевные кризисы. Он умел лишь заботиться время от времени, чтобы она не промокла и чтобы у нее не начался катар.
На улице на нее повеяло отрезвляющей свежестью. Так очень легко простыть. Вот если бы у нее началось воспаление легких и она бы боролась со смертью!.. Это было бы достойной карой для Дзевановского, Щедроня и для всех остальных эгоистов.
А впрочем, что ей до них? Пока она существует, пока представляет определенную часть действительности, до тех пор они считаются с ее присутствием. Если бы ее не стало или если бы она неизлечимо заболела, самым банальным образом в мире они забыли бы о ней.
– Еще один номер вычеркнут, – как говорил Ян Камиль Печонтковский, встречая погребальное шествие.
Никто бы не оплакивал ее. Мать ходила бы в трауре, но, в сущности, была бы рада, что «позор семьи» ушел в вечность. Чтобы сделать эту вечность для «позора» более приятной, она заказала бы, вероятно, несколько панихид. А почтеннейший Куба покрякивал бы только и ворчал о том, что «это» должно было плохо кончиться. Под «этим» подразумевалась ее жизнь, ее понимание жизни… Но разумнее ли, правильнее ли понимает ее он? А Дзевановский? Тот даже на кладбище не пошел бы. Брезгует. Патетический трюизм и только, потому что кто может не брезговать смертью? Словом, никто, абсолютно никто не почувствовал бы, что ее больше нет. Только Щедронь, но он не в счет. Вот иное дело, если бы у нее были дети, сын или дочь, а лучше сын. Он бы не забыл никогда.
– У меня должен быть сын, – прошептала она с убежденностью и одновременно подумала, что постоянно пытается убедить себя в потребности материнства, когда встречается с чем-то неприятным.
На следующий день она уже трезво взглянула на события. Несколько месяцев деформированная фигура, мешки под глазами, обмороки, потом роды, боль, мучения, писк ребенка, мокрые пеленки и набухшая грудь… Это хорошо для животных, которые не понимают хитрой уловки природы, когда за минуту блаженства требуется платить длительным периодом мучения и унижением, потому что унизительно быть орудием природы, автоматом, в который бросается хотя бы случайная монета, а тот должен, хочет он этого или нет, просто должен выполнить свое механическое задание. Именно поэтому, как верно утверждает Шавловский, у нас есть душа, чтобы не зависеть от природы. Душа создала цивилизацию, а что такое цивилизация, если не комплекс средств, противодействующих природе? «В таком случае почему, когда мы усмиряем водопады, – писала она недавно в одной из статей, – когда регулируем свободное течение рек, когда строим дома, защищающие от атмосферных влияний, когда устанавливаем громоотводы, почему тогда цивилизация должна быть чем-то возвышенным, а когда мы хотим с ее помощью сделать независимым наше тело от нежелательных функций природы, цивилизация должна отступить с покорным страхом?»
Нужно не иметь и тени здравой логики, чтобы думать иначе! И Ванда действительно не могла понять тех, кто с такой ожесточенностью выступал против нее и против всей «Колхиды» в защиту бессмысленного почитания законов природы. Были среди них и люди образованные, способные в других вопросах мыслить последовательно. Исповедуя, например, христианство, они не могут отрицать, что нарушение законов природы, нарушение инстинктов, постов, сексуальная воздержанность, подставление щеки или мученичество исходят из духа человека, а душа тем выше устремляется, чем больше может сделать независимым человека от его животной натуры. Отрицание этого только доказывает их коварство.
Дзевановский, кто в самых простых вещах находит глубину и многогранность, утверждал, что и сопротивление оппонентов исходит из духа…
– Ах, ну какое мне дело до всего этого, – произнесла она громко.
В одиночестве она брела по мосту Понятовского, по середине которого двигались трамваи, как «длинные фонари, заполненные насекомыми, слетающимися на свет». Внизу лежала черная и неподвижная Висла. По берегам виднелись освещенные террасы яхт-клубов.
Она медленно повернула в сторону города. Прошла по Новому Свету, миновала Ординацкую и вышла на Свентокшискую.
«Значит, так, – призналась она себе, – да, иду взглянуть на его окна. Ни он, ни кто-нибудь другой не заметит этого, а я должна. Должна, потому что это сильнее меня».
Всю дорогу после выхода из дому она прогоняла эту назойливую мысль. Стыдилась ее. Ходить, как влюбленная швея, к дому неверного любовника? Ну хотя бы с каким-то конкретным намерением, но у нее не было никакого. Просто «ее тянуло», неизвестно зачем и почему. Не было же у нее в сумочке ни револьвера, ни бутылочки с серной кислотой! Только этого еще не хватало!
Она рассмеялась.
Ну вот, уж и готова уговорить себя, что он мне действительно дорог, что без него мне и не жить. Что за глупость, что за идиотизм!
Однако она шла дальше, шла все быстрее, с растущим внутри презрением к себе, с невыносимым чувством унижения.
Два окна на первом этаже, два хорошо знакомых окна слева от балкона были открыты и темны. Легкое дуновение ветра колыхало белые занавески.
Ванда так была подготовлена к опущенным шторам и цветному освещению, а может, даже и к теням, двигающимся в окнах, что остановилась неподвижная и беспомощная. Если бы случилось так, как она предполагала, она тоже не знала бы, что ей делать, но сейчас была просто поражена: их не было, вышли.
Во всяком случае, стоять на краю тротуара в такую пору было бессмысленно. Самым разумным было бы вернуться домой, но тогда пришлось бы отказаться от идеи узнать что-нибудь определенное, а сейчас ей необходимо было узнать все, ибо иначе она не нашла бы и минуты покоя. Поэтому оставалось лишь ждать Марьяна. Разумеется, они вышли вместе, и он пошел ее проводить. Значит, должен вернуться. Однако на улице ждать его она не могла. Собственно, служанка ее хорошо знает и, наверное, не будет иметь ничего против, если она подождет в его комнате.
Не колеблясь более, она вошла в калитку, быстро поднялась по ступенькам крыльца и нажала кнопку звонка. Прошло довольно долго, пока появилась служанка.
– Пан Марьян дома? – спросила Ванда.
– Мне кажется, вышел, но я сейчас посмотрю.
Ванда вошла за ней в прихожую и сказала:
– Если его нет, я подожду. У меня важное дело.
– Прошу вас, я только зажгу свет, – ответила служанка.
– Спасибо.
Ванда вошла и потянула носом, но никакого запаха не было. При открытых окнах ничего удивительного. Однако, не успев еще изучить взглядом комнату, что-нибудь заметить, она уже не сомневалась, что ее подозрения были обоснованны.
Только спустя какое-то время она заметила, что книги уложены, что ее пижамы нет на обычном месте, что на столике лежат апельсиновые корки и кожура бананов, а постель измята. Вероятно, она застилала ее, но сделала это наспех, не так, как застилали обычно.
– Подлый! Подлый! – повторяла Ванда в крайнем возбуждении.
Ей пришла в голову мысль, что следовало бы просмотреть бумаги, заглянуть в ящики. Наверняка найдет какое-нибудь письмо, фотографию или что-то такое, что дало бы ей в руки ощутимое доказательство измены. Сейчас она вовсе не задумывалась над тем, зачем ей понадобилось бы это доказательство. Ей хотелось только убедиться самой, но все же, отодвигая ящик стола, она задумалась.
Нет! Это было бы вообще глупо. Бросить ему в лицо такое доказательство было бы равносильно признанию, что рылась здесь, что… Нет.
У нее дрожали руки. Она, конечно, не сделает этого. Она села на неудобном стуле у двери, как бы обозначив свое присутствие. Пусть бы увидел, что рылась, что способна на все, но что дальше? Пожмет плечами и может сказать: «Напрасно утруждала себя. У меня действительно есть другая, а с тобой я расстаюсь. С меня хватит».
Кровь бросилась в лицо Ванды. Этого она не пережила бы. Этого не смогла бы простить. Чтобы ей, ей, Ванде Щедронь, кто-нибудь мог дать такую отповедь! Э, нет, сейчас она уже знала, что сделает: она порвет с ним, порвет сейчас же. Она даже вида не подаст, что догадывается о чем-нибудь, что подозревает об измене. Разрыв должен исходить от нее, причиной разрыва не может быть никто другой, в том числе и он сам: просто наскучил ей, надоел – и только. Она ему скажет:
– Я пришла тебе сообщить, что не имеет смысла продолжать наши отношения.
Он, разумеется, изобразит удивление и сожаление, хотя, может, и действительно будет жалеть. Он не спросит почему, лишь будет всматриваться в ее глаза своими интеллигентными нежными глазами.
– Прощай, Марьян, – она протянет ему руку, – мы провели вместе немало приятных минут.
И еще добавит с пренебрежением:
– На протяжении какого-то времени мы оказывали друг другу мелкие услуги, удовлетворяя взаимные чувства. Веди себя хорошо, а мне будет приятно время от времени встретиться с тобой.
Так будет лучше всего, уговаривала она себя, лучше всего. Не дать ему почувствовать, что хотя бы па секунду придавала какое-нибудь значение их роману, что догадывалась об измене.
Взяла себя в руки она довольно быстро и, пересев в кресло, ждала. Прошло десять минут, четверть часа, полчаса.
– Ах, подлый, подлый, – прошептала она сквозь сжатые зубы, поглядывая на часы.
Она не могла здесь ждать вечно, но и уйти тоже не могла: весь план был бы нарушен. Ее присутствие после этого разговора по телефону можно будет объяснить только чем-то очень важным: например, разрывом. Если уйдет и служанка скажет Марьяну, что она была здесь и ждала, то она будет осмеяна и унижена в его глазах. Можно было бы написать записку, но тогда он может подумать, что она вообще не собиралась порвать с ним, а решение такое приняла здесь – из ревности…
Несколько раз она снимала и натягивала вновь перчатки. Она была уже совершенно расстроена, когда в прихожей щелкнул замок.
В дверях стоял улыбающийся, почти веселый Марьян.
– Ах, это ты! – воскликнул он. – Я терялся в догадках, кто это может быть, потому что помнил, как, выходя, выключил свет. Добрый вечер, Вандусь!.. Что случилось?..
Она стояла неподвижно и чувствовала, как бледнеет.
– В чем дело? – спросил он, удивленный.
Его глаза округлились.
– Ничего, ничего…
– И все-таки… Ты такая бледная! Может быть, дать тебе воды?
Она отрицательно покачала головой:
– Нет, спасибо. Со мной все хорошо…
Она лихорадочно искала достаточно правдоподобное объяснение этого несчастного вида и своего присутствия. Разрыв сейчас имел бы совершенно иной смысл, нее бы в себе что-то драматическое. Несмотря на это, встретил ее так сердечно… Что ему сказать? Что ему сказать?.. Что угодно, только бы скорее. Чем длиннее пауза, тем важнее должно быть то, что привело ее сюда. Если она сейчас же не придумает чего-нибудь, он решит, что случилась трагедия.
– Все у меня нормально… – заговорила она. – Я пришла… потому что… у меня большие неприятности… Щедронь умеет быть неделикатным, очень неделикатным… Мне нужен был ты… Это, я думаю, вполне естественно, что мне хотелось быть рядом с тобой… Только прошу тебя, не спрашивай ни о чем, не спрашивай… Уже все хорошо…
По выражению лица Дзевановского она сделала вывод, что объяснение было вполне достаточным. Какое счастье, что она вспомнила о муже! Марьян нахмурил брови и опустил голову.
– Я не буду спрашивать… – сказал он, – но это страшно, это невыносимо больно. Как он может, как он смеет! Это гнусно… Я догадывался, что он груб… Но чтобы издеваться над тобой…
– Давай уж не будем говорить об этом, – вздохнула она.
– Как хочешь, – прошептал он, – как пожелаешь…
Он взял ее руки и целовал их нежно и ласково. На коже ладоней она ощущала дрожь его губ. Он был потрясен. Значит, беспокоится о ней, значит, эта измена не так серьезна… Возможно, это что-то мимолетное?.. Он так взволнован… И в то же время в нем нет ничего мужского. Другой бы начал проклинать, придумывал бы способы защиты оскорбленной мужем любовницы, был бы разгневан, а его расстроила такая глупость. «Если бы Щедронь действительно издевался надо мной, – думала Ванда, – Марьян не сумел бы сделать ничего, чтобы освободить меня от грубияна. Он даже не умеет найти слова утешения».
– Любовь моя… – обнимал он ее, – ты слишком добра и снисходительна… Я просто не понимаю, как может человек быть вульгарным, грубым по отношению к тебе…
– Если бы только слова, – горько добавила Ванда.
Это вырвалось невольно. Просто подходило к ситуации, крещендо усиливало настроение. Она представила себе, что такой толстокожий Щедронь действительно мог ударить ее, даже бить и насиловать… Она ощущала себя в этот момент вполне заслуживающей сочувствия любовника, избитой и униженной. Она уже настолько вжилась в роль, что в глазах ее появились слезы под его взглядом, который, казалось, искал на ней синяки, она почти чувствовала боль во всем теле, изуродованном хамскими кулаками мужа.
Она совершенно точно отдавала себе отчет, что не ломает комедии перед Марьяном. Она действительно была такой, какой он видел ее. Она не умела иначе, сама не зная, вина ли это ее или заслуга ее интуиции, чувствительности и деликатности. Она не позировала, не притворялась, она становилась тем, что в ней видели. Вероятно, она обладала большими запасами душевных возможностей. Именно этим она и объясняла себе такую способность к переменам, а скорее, к приспособленчеству. В данном случае ложь была произнесена случайно, а остальное уже было не ложью, а реальностью, может быть несуществующей, но тем не менее правдивой.
Когда несколько лет назад Шавловский открыл в ней писательский талант и предназначение на роль общественного реформатора, она стала им и заняла одно из ведущих мест. Когда Щедронь увидел в ней архигосподского ребенка, тепличное экзотическое растение, она перестала интересоваться футболом и прыжками в высоту, перестала пользоваться студенческим жаргоном и начала смягчать звук «р». Когда с течением времени муж пришел к убеждению, что Ванда распущенная, за одну неделю она завела два романа и при этом чувствовала, что совершенно свободна. Позднее он открыл в ней эксгибиционизм, мазохизм, внутреннюю фальшь, высокомерие, лень, расовый тотемизм, аристократизм, которые она усваивала с одинаковой легкостью, как когда-то для влюбившегося в нее футболиста стала врожденной спортсменкой, а для того же Щедроня – коммунисткой. Дзевановский искал в ней женщину незаурядного ума, независимую от бытовых условий и деятельности, свободную от доктрин и внутреннего принуждения, он искал в ней отсутствие эмоций, холодный разум и восторг по отношению к Рильке и Марцелию Прусту. И, разумеется, он все это в ней нашел. О том, как глубоко все это вросло в нее, свидетельствовала постоянно усиливающаяся сложность, с которой она удерживалась на уровне своей публицистической деятельности. Сейчас он увидел в ней несчастную, подвергающуюся издевательствам жену, женщину, которая под угрозой, вероятно, наказаний вынуждена удовлетворять звериное желание нелюбимого человека, по каким-то таинственным причинам не имея возможности освободиться от него.
Как выразительно Ванда чувствовала это в себе, в поцелуях и ласках Марьяна! Она никогда не сидела у него на коленях, но сейчас это было так к месту. Кроме того, постоянно ее возбуждали его близость и желание. Дрожащими руками он снял с нее туфли и чулки. Как хорошо она знала этот ритм его волнующего дыхания и сжимающихся мышц!
«Нет, это невозможно, – подумала Ванда, – чтобы он изменял мне сегодня с другой».
Следующий час убедил ее в этом еще больше. Видимо, в чем-то она все-таки ошибалась. И, опираясь на его локоть, Ванда громко спросила:
– Послушай, ты уверен, что… не заразил меня?
Его голова, бессильно лежащая на подушке, не шелохнулась, только от удивления широко раскрылись глаза: вероятно, он не понимал вопроса.
– Я спрашиваю, уверен ли ты в том, что женщина, которая здесь была сегодня, здорова? Та, вторая твоя любовница, здорова?
Она всматривалась в него изучающим взглядом, но он не опустил век.
– Ошибаешься, – сказал он спокойно, – у меня нет никого, кроме тебя.
В его голосе прозвучала как бы грусть, и Ванда пожалела, что позволила себе такой непродуманный и резкий вопрос.
– Верю тебе… Хочу тебе верить, – поправилась она. – Но ты не будешь возражать, что у тебя сегодня здесь была женщина?
Он как-то неопределенно улыбнулся и ответил:
– Да, была. Однако эта женщина не моя любовница.
С минуту она колебалась, желая спросить, кем же в таком случае является для него эта женщина, но просто поверила. Она знала, что он не умеет и не любит врать. Знала она также, что он возненавидит ее, если она будет его допрашивать. Следовало как-то сгладить возникшую неловкость, чтобы не осталось после горького осадка в их отношениях. Для себя ей хотелось какого-то окончательного выяснения, но она достаточно хорошо знала Дзевановского, чтобы быть уверенной, что он больше ничего не скажет по собственному желанию, а оказывать давление было бы равнозначно вселению беспокойства, чего-то вроде ссоры или борьбы, чего он больше всего боялся и самым тщательным образом избегал.
– Не думай, что я ревную, – усмехнулась она. – Лучшее доказательство тому то, что я с тобой осталась. Впрочем, я верю тебе. Я слишком ленива, чтобы утруждать себя сомнениями. Мне просто хотелось продемонстрировать тебе свои способности детектива и свою интуицию.
Она коснулась кончиками пальцев его губ и добавила:
– Люблю тебя за все, даже за то, что столь незначительное вторжение в твою личную жизнь ты не умеешь мне простить.
Он хотел что-то сказать, но она предчувствовала неприятные слова и закрыла ему рот рукой.
– Нет, не говори. Я боюсь, что у меня сегодня плохой день. Услышать новую серию оскорбительных выражений было бы уж слишком. На сегодня достаточно… Видишь ли, если бы не это, то у тебя не было бы повода чувствовать ко мне неприязнь.
В молчании сильно и нежно он привлек ее к себе, точно хотел этим жестом заверить, что неприязнь уже исчезла и ему хочется забыть обо всем, что их на несколько минут разделило.
Ей не хотелось, чтобы он провожал ее. Несмотря на поздний час, улицы центра города не угрожали опасностью, а кроме того, ей пришла в голову мысль, что он уже провожал ту, другую.
На часах в столовой пробило три, когда она вернулась домой. В комнате Щедроня еще горел свет. Работал. На этот раз она не заглянула к нему. Возвращение ее в это время вызывало бы язвительные подозрения, он готов был бы потребовать компенсацию за понесенное оскорбление, а этого, единственно этого она бы не перенесла: слишком большого труда стоило убедить Марьяна, чтобы рисковать сейчас и поколебать эту веру.
К тому же она чувствовала себя глубоко оскорбленной по отношению к Щедроню: он ведь такой грубиян, который может избивать и мучить ее. Правда, он этого не делает, но может.
Она быстро прошла к себе, закрыла дверь на ключ и начала раздеваться.
ГЛАВА 4
– Вы допустили ошибку, – начал Минз, небрежным движением указывая Анне стул. – Я получил сегодня еще две жалобы. Семья Ропчицких требует деньги за экскурсию, так как вернулась отдельно и за свой счет.
– С точки зрения закона… – начала Анна.
– В коммерции нет такой точки зрения, если идет речь о клиенте, – грубо прервал ее Минз. – Ропчицкий – председатель Союза землевладельцев в Куйявах, у него широкие связи. И нужно не только вернуть ему эти деньги, но я вынужден буду лично извиниться перед ним. Вы понимаете? Собственно, три дня назад не кто иной, как вы, убеждали меня здесь, что формалистика права годится только для государственных учреждений. Речь шла тогда о случае, когда прозевали оформление коллективной визы на транзит через Чехословакию. А сейчас вы рассуждаете здесь о правах.
Он сопел все громче и говорил все более грубым басом, что было бесспорным указанием на то, что он едва сдерживает раздражение. Анна боялась его в такие минуты, однако не могла покорно принять всю вину на себя.
– Тогда было совсем иное, – буркнула она.
– Конечно, – он стукнул толстым пальцем по столу. – Не об этом речь. Экскурсия в Венецию принесла нам такие потери в общественном мнении, что я даже не знаю, когда мы сможем загладить это. Я предупреждал вас о том, чтобы вы не доверяли руководство экскурсией человеку, который совершенно не ориентируется в этих вопросах.
– Он весьма интеллигентен, пан директор, и, кроме того, вряд ли в Польше есть кто-нибудь, кто бы лучше знал Венецию и вообще всю Италию.
– Я говорил вам уже тогда, – нахмурил брови Минз, – здесь нужны были не интеллигентность и знания, а ловкость, ориентация, энергия и знакомство с такого типа путешествиями. Это неслыханно! Заставлять людей ночевать на вокзале, запихнуть их в такие автобусы…
– Изменили расписание движения…
– Для этого существует экскурсовод, чтобы все заранее изучить!.. Где вообще вы его раскопали?!
Анна побледнела и сжала губы:
– Пан директор, вы выражаете свое недовольство такими словами, что… извините меня…
– Я не хотел, черт возьми, вас обидеть, – спохватился Минз.
– Я нигде его не раскапывала. Три месяца назад он претендовал как раз на то место, которое вы отдали мне. И поскольку он находится сейчас в весьма затруднительном материальном положении…
– Мы не благотворительное заведение. Вам придется запомнить это. Не благотворительное, не клубное или там… будуарное. Здесь не имеет значения, что кто-то бедный или богатый, пристойный, симпатичный, играет в бридж или на флейте! Это совершенно безразлично!
– Но ведь вы сами, пан директор, рекомендовали подбирать экскурсоводов из числа общительных и симпатичных, – заметила она с триумфом.
– Но это не главное, и мне очень… хм… жаль, что вы как руководитель такого ответственного отдела этого не заметили.
Сердце Анны забилось сильнее. «Ага, – подумала она, – вот о чем речь. Привязался к экскурсии в Венецию и к Дзевановскому, чтобы освободить меня…»
Она испугалась этой мысли. Отставка, потеря должности сейчас была бы полной катастрофой. Нужно было защищаться, следовало любой ценой остаться. И, осознав это, она все же не могла удержаться, чтобы не стать в защиту своей амбиции, хотя хорошо знала, что тем самым может повредить себе еще больше.
– Если я даже совершила ошибку, то пан директор сделал ее тоже, доверив столь ответственную должность такой несоответствующей особе, как я.
Она выпалила это на одном дыхании, не глядя на директора. Минз аж подскочил в кресле.
– Что вы говорите?..
– Я говорю, что, вероятно, не подхожу для этой должности. Люди, приглашающие несоответствующих подчиненных, не годятся на руководящие роли.
Она украдкой взглянула на Минза. Его широкое лицо с высоко поднятыми бровями и открытым ртом выражало крайнее изумление. Анна уже не сомневалась, что выйдет из кабинета освобожденной от должности. Поэтому нужно было бороться до конца. Она уже хотела заявить, что за восемьсот злотых и так много работает, когда Минз сказал:
– Видите ли, из того, что я услышал от вас, мне следует сделать далеко идущие выводы… Хм… Если я не сделаю этого, то лишь потому, что я в некоторой степени снисходителен… Хм… Меня удивляет только одно: вы не отдаете себе отчета, что совершили ошибку! Вы совсем не чувствуете, что должны нести за то, что выполняете, полную ответственность. Если бы вы обладали большим чувством ответственности, то не рисковали бы добрым именем фирмы для личного удовольствия помочь хотя бы даже самому симпатичному для себя человеку. И более того скажу вам: ни один мужчина не поступил бы так. Если я принял вас, то это стечение обстоятельств… Хм… Во всяком случае, ни ваша красота, ни обаяние… Хм… хотя трудно отрицать их существование… Я провел эксперимент, и он не удался… Хм…
Анна чувствовала, что еще минута, и она не сможет сдержать слез.
– Я могу освободить… – сказала она дрожащим голосом.
– Не об этом речь, – решительно прервал ее Минз. – Я только хочу, чтобы вы поняли, что я больше не могу доверять вашему чувству ответственности. Поэтому с сегодняшнего дня я прошу вас каждый раз представлять мне кандидатов на экскурсоводов. Хм… и вообще все персональные дела прошу представлять мне для решения. Думаю, что такое ограничение вашей компетенции вы сами посчитаете правильным.
Анна ничего не ответила. В принципе она не расстроилась по этому поводу. По крайней мере, такие вещи ее не трогали.
Минз крякнул и добавил:
– Что же касается оставшегося вознаграждения для этого, как его там… Дзевановского, то это исключено. Ведомость не подпишу. Вам придется уничтожить ее. Он и без того получил большой аванс, а вообще он должен был бы заплатить штраф.
– Я уверена, – заметила Анна, – что пан Дзевановский обратится в суд и выиграет дело…
– Возможно. Добровольно я не заплачу ему.
– Придут судебные издержки.
– Трудно, ничего не поделаешь.
Анна расстроилась. Она была совершенно уверена в том, что Марьян ни за какие сокровища не обратится в суд. Он хотел отдать даже аванс. В то же время остальные триста злотых имели уже свое конкретное назначение. Были просто необходимы: воротник к шубе, перчатки, по крайней мере, шесть рубашек и прежде всего шляпа. В конце концов, перчатки он примет от нее, но рубашки и воротник… Она уже два раза присылала Минзу ведомость для подписи. Надеялась, что в поспешности не заметит. Она решила торговаться:
– Я обещала ему, что он получит деньги еще на прошлой неделе. Может быть, вы оплатите ему хотя бы двести? Сколько-нибудь…
– Ни гроша, – решительно прервал Минз.
– Вы ставите меня в глупое положение.
Минз возмутился:
– Вы шутите?! Вы должностное лицо фирмы «Мундус», а то, что ваш личный знакомый, меня совершенно не интересует. Собственно, если вы хотите… я не могу, хм… запретить вам выплатить эту разницу из собственного кармана.
– Мне придется сделать это.
– Пожалуйста.
– Однако я не располагаю такой суммой. Могу ли я попросить аванс?.. Я выплачу его на протяжении трех, а может, и двух ближайших месяцев.
– Нет. При других обстоятельствах не отказал бы, но сейчас вообще удивляюсь, что вы могли ждать этого от меня.
– Извините, пан директор, – она встала, поклонилась официально и вышла.
Несомненно, в резкости Минза должно было что-то скрываться. Анна вспомнила сейчас, что однажды невольно подслушала разговор коллег. Они утверждали, что «Минз влюблен в Лещеву» и поэтому уволил Комиткевича. Возможно, это и глупость, но не исключено, однако, что он откуда-то узнал о Марьяне…
«Боже мой, – думала она, – откуда я возьму эти деньги?»
Она знала, что у тетушки Гражины денег нет, Жермена не одолжит. Оставалась только Ванда, но обращаться к ней для Анны представлялось чем-то ужасным. Еще позавчера она могла бы попросить у Кубы. Несмотря на тяжелые времена и затраты на развод, он наверняка нашел бы для нее эти триста злотых. Но сегодня она уже не могла об этом даже подумать. Обращаться к такому глупцу… Он готов был бы подобную просьбу расценить как повод для дальнейшей активности. Ну, а эта его активность!..
При одном воспоминании Анна не могла удержаться от смеха, потому что все это было скорее комичным, нежели гадким. Началось это спустя неделю после отъезда Жермены. Куба пришел в комнату Анны с серьезным и страдальческим выражением лица. Он спросил, не помешает ли, сел и, какое-то время поковыряв в носу, заявил, что он совершенный банкрот, что Жермена бросила его самым омерзительным образом и он чувствует себя несчастным. На замечание Анны, что депрессия такого рода пройдет с течением времени, он крякнул и сказал:
– Если бы у меня была такая жена, как ты… Ты ведь не поступила бы так, как Жермена.
Он вынул из кармана коробочку с мятными драже, съел одну, очень быстро двигая челюстями (еда была единственным, что он делал быстро), после чего спросил:
– А ты, ты тоже чувствуешь себя одинокой? Муж в Познани. Я всегда считал, что он тебя не любит.
– Откуда же такой вывод?
– Позволил тебе уехать.
– Это было необходимостью, – пожала плечами Анна.
– Я бы ни за что на свете не позволил.
Он придвинулся к ней так, что она услышала запах несвежего дыхания и мяты.
Одновременно Куба несмело положил ладонь на ее ногу.
– У тебя такие ножки, – вздохнул он.
– Ты с ума сошел, Кубусь – рассмеялась она весело.
– Почему?
– У меня сложилось впечатление, что ты заигрываешь со мной.
– И что в этом ненормального? Оба мы одинокие, под одной крышей… Ты всегда мне очень нравилась, а ведь любишь меня, правда? Правда?..
Он провел рукой по ее ноге, и Анна заметила, что у него грязные ногти.
– Перестань, – сказала она мягко, но решительно, – убери руку и веди себя прилично.
– Почему, почему? – повторял он.
Его дыхание все учащалось, и он прижал ее к себе. Одновременно резким движением сунул руку под платье. Как это было омерзительно! Выше чулка она почувствовала прикосновение липкой потной ладони. Изо всех сил она оттолкнула его и вскочила на ноги.
– Убирайся сейчас же! Ведешь себя, точно пьяный! – закричала она.
– Ну что ты? – бормотал он. – Анка, ну что ты?..
– Ты омерзительный, убирайся сейчас же! Никогда не предполагала, что ты можешь вести себя так со мной. Убирайся!
Куба стоял с беспомощно опущенными руками.
– Оставь меня в покое! Прошу тебя!
– Ага, видишь! – он вытянул указательный палец жестом напоминания. – Ты сама полыхаешь! Конечно! Горишь! Посмотрись в зеркало, у тебя румянец на щеках. И не прикидывайся, что тебе не хочется!
Анна на мгновение остолбенела и взорвалась громким откровенным смехом. Кубусь выглядел так забавно, что был просто похож на карикатуру, и, о Боже, какой наивный! Она бесцеремонно вытолкала его за дверь. Целый день она думала, не рассказать ли обо всем его матери, но пришла к выводу, что это бы весьма огорчило пани Гражину и поэтому лучше не рассказывать. Куба держался, точно ничего не произошло: за ужином, как всегда, ел неэстетично, чесал все участки тела, ковырял в зубах; ногти у него по-прежнему были грязные. На Анну он вообще не обращал никакого внимания.
Она уже подумала, что он отказался от амурных желаний, но около десяти вечера, когда пани Гражина пошла в свою спальню, Анна услышала скрип двери. Она как раз раздевалась и едва успела накинуть халат, как вошел он, даже не постучав.








