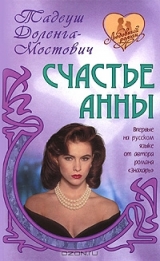
Текст книги "Счастье Анны"
Автор книги: Тадеуш Доленга-Мостович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
– Извини, – холодно заметила пани Гражина, – но, противопоставляя мои методы воспитания методам твоей матери, не хочешь же ты сказать, что результатам ее педагогики можно позавидовать?
– А почему бы и нет?
Пани Гражина снисходительно усмехнулась:
– Потому что полагаю, что ты обладаешь достаточной степенью самокритичности, чтобы не считать себя образцом… Что же касается твоей бедной сестры… Карьера шансонетки кабаре – это не то, чему можно позавидовать. Ни карьере, ни общественному мнению. Атмосфера нежности и тепла, как вижу на вашем примере, не была разумно продуманным инкубатором.
– Допустим, – легко согласился Владек, – но в этом инкубаторе было хотя бы тепло. Я вообще противник доверять женщинам какие бы то ни было функции, кроме рождения и вскармливания детей. Моя мать была только женщиной, но когда я говорю об этом с вами, то должен сказать, что она была настоящей женщиной.
– Добавь: женщиной с ограниченным кругозором и такими же запросами, которая не занимала в общественной жизни никакого места. Дорогой мой, я ценю твою сыновнюю любовь, но не нужно делать такие рискованные противопоставления, особенно в день моего рождения. Я подозреваю тебя если не в объективизме, то, по крайней мере, в стремлении к нему. Поэтому положи на одну чашу весов мою пятидесятилетнюю общественную работу, а на другую – плоды жизни твоей драгоценной матери: себя самого и твою сестру.
Владек нетерпеливо заерзал:
– Мы не понимаем друг друга, тетя…
– Ты меня не хочешь понять.
– Вы сами себя не понимаете. Извините! Значит, полвека вы потратили на выполнение работы, предположим полезной. Вы оказали услугу человечеству, скажем, отчизне, хорошему делу или как там еще звучат эти дутые избитые фразы, но вы забросили то, что в соответствии с провозглашаемыми вами лозунгами было именно вашей обязанностью, – семью, детей, дом. Я последний из тех, кто что-нибудь делает лишь из чувства глупого так называемого долга. И никого не собираюсь принуждать к исполнению его обязанностей. Пусть каждый делает то, что ему нравится, и пусть потом не имеет претензий к другим. Я согласен с тем, чего вы не сказали, но что спрятано в вашем сердце. Да, Куба и Ванда – жизненный мусор, но пусть тетя на это не обижается, если работу свою предоставила челяди, а сама просиживала в прачечной на посиделках.
– Красиво выражаешься!
– В прачечной, потому что ваше бабское общество и политиканство – это обычная прачечная, куда сходятся кумушки, чтобы помолоть языками. Более широкая арена, более отточенные языки, более важные фигуры, а в сущности происходит то же самое: «Моя дорогая, моя дорогая…» Закладываются основы мира, составляются – трактаты и рецепты для соления петрушки, куется бронзовая мысль и порочатся соседки. А тем временем отродье делает, что хочет, и вырастает в черт знает что с катаром кишок, потому что за кухней никто не следит. В прачечной чешут языками о священном институте семьи, о священном домашнем очаге, а тем временем костер чадит в собственном доме, святой институт семьи поглощают дьяволы, а удивленная панюся спустя пятьдесят лет нашла минуту времени, чтобы заглянуть в дом, и с ужасом узнает наконец, что это лишь меблированные комнаты, а ее родные дети даже пальцем для нее не шевельнут. И они, черт возьми, правы! Правы или нет?!
Пани Гражина вся дрожала от негодования. Она предпочла бы умереть, ну если не умереть, то, по крайней мере, перенести снова сильнейший сердечный приступ, чем подвергнуться выслушиванию столь грубых упреков. Никто и никогда не осмеливался так говорить с ней. Этот сопляк просто сошел с ума.
– Как ты смеешь, как смеешь! – сумела она выдавить из себя. – Шут!
Она искала наиболее сокрушительные слова, но ничего достаточно сильного найти не могла. Разумеется, даже на одно мгновение ей не пришло в голову, чтобы обсуждать эти вульгарные оскорбления. Они не могли своей грязью коснуться даже ее стон. Она была выше этого.
– Если вы позволите поинтересоваться, – снова спокойно отозвался Владек, – почему вы назвали меня шутом?
– Потому что только пошлое шутовство и самонадеянность сопляка, – взорвалась пани Гражина, – могли позволить тебе забыть о всяком уважении ко мне, уважении, которое следовало бы проявить хотя бы по причине моего возраста!
– Не нервничайте, пожалуйста. Я говорю это не как шут, а как врач. А кроме того, почему, собственно, я должен уважать пожилой возраст? Если кто-то родился на несколько лет или несколько десятков лет раньше меня, это вовсе не его заслуга и не основание для уважения. Он может быть болваном, убийцей, идиотом или просто мусором независимо от возраста, между нами говоря, среди почтенных старцев, требующих к себе уважения, мне не удалось встретить личность, на которую бы распространилось мое чувство уважения. Они были и не умнее и не этичнее молодых. Отличались они только ревматизмом, склерозом, старческим маразмом и геморроем. Но это разве что может пробудить в нас сочувствие, жалость или отвращение, а для уважения я не вижу здесь места.
Пани Гражина старалась не слышать его вообще. Ее раздражение нарастало. Вначале она боялась повторения приступа, но сердце оставалось спокойным. Она определенно не могла больше вынести присутствия Владека.
– Я попрошу тебя, – отозвалась она тоном, не допускающим возражения, – оставь меня.
– Как вам будет угодно. Вам прислать медсестру?
– Спасибо тебе. Позвони служанке и можешь идти. Сколько живу, я не встречала такого доктора, который бы таким образом понимал свои обязанности.
– Я никогда не утверждал, что являюсь хорошим доктором.
– Ты не только плохой доктор, но и плохой человек. Прощай. Утром я отправлю тебе гонорар.
– Ха, до свидания, дорогая тетя, – сказал он со вздохом.
Она отвернулась, чтобы больше на него не смотреть, а когда дверь за ним закрылась, произнесла только одно слово:
– Большевик!
Служанка, наверное, не проснулась от звонка: к пани Гражине никто не пришел. Правда, она могла достать рукой до звонка и сама звонить до тех пор, пока кого-нибудь не разбудит, но какое-то время предпочитала оставаться одна. Болтовня Владека не только вывела ее из себя, но и измучила. Почти час она лежала с полуоткрытыми глазами, отгоняя всякие мысли. Около четырех она услышала скрип входной двери и шаги в передней. Это возвращалась Анна.
– Анна! – позвала она так громко, как могла.
Шаги затихли, а минуту спустя раздался стук.
– Входи, Анна.
– Тетя меня звала?
– Да, моя дорогая, я хотела тебя попросить, чтобы ты побыла со мной ночью.
– Вы больны? – испугалась Анна.
Пани Гражина постепенно рассказала, что у нее был сердечный приступ, что ее привезли и вызвали Владека, присутствие которого, однако, она дольше не могла вынести.
– Возьми, Анка, свою постель и ложись здесь на оттоманке. Собственно, я чувствую себя значительно лучше, но все-таки хотелось бы, чтобы кто-нибудь был рядом, а слуг не могу добудиться.
– Хорошо, тетя, – кивнула головой Анна и спустя несколько минут вернулась в халате с подушкой и пледом в руке.
Они обменялись еще несколькими фразами, и Анна легла на оттоманке. Пани Гражина долго не могла уснуть. В приглушенном свете лампы она присматривалась к Анне. По правде говоря, ей следовало спросить Анну, откуда она так поздно возвращается. Все-таки она ее племянница и живет в ее доме. Нехорошо, чтобы весь дом знал, что молодая замужняя женщина половину ночи проводит где-то в городе. Правда, так же было с Жерменой, а раньше и с Вандой. Но уж если об этом речь, то Анна всегда вела себя очень пристойно, и сегодня… Но… в конце концов, этот Дзевановский просто свихнувшийся человек, но, в сущности, его не в чем упрекнуть. Пани Гражина чувствовала даже своего рода удовлетворение оттого, что Дзевановский порвал с ее дочерью ради Анны. Она, конечно, узнала об этом в Благотворительном обществе: они там всегда и все знают… Дзевановский, насколько она могла заметить, никогда не приходил к Анне, однако она несколько раз видела их вместе в городе. Они выглядели как влюбленные.
Как-то пани Гражина спросила Анну:
– И что с твоим мужем? Ведь это невозможно, чтобы мужчина со специальностью в руках, имея какие-то связи, ничего не зарабатывал.
– К счастью, хоть я сейчас зарабатываю неплохо, – ответила Анна. – Кароль очень неприспособленный человек, и разные люди отнимают у него работу из-под носа… А вообще мужчины не умеют справляться…
– Во времена моей молодости было иначе, – вздохнула пани Гражина и вспомнила, что тогда происходило в Подлесье. После поражения восстания молодые люди тайком возвращались из-за границы, из Сибири. И как прекрасно они справлялись на земле, сами впрягаясь в плуг! Конечно, было тяжело. В молчании сжимали зубы и работали. Тихо оплакивали убитых, о восстании не вспоминали. Женщины ходили в трауре, а мужчины никогда не смеялись.
В Сохове было полно людей, деловых мужчин, которые под вымышленными фамилиями укрывались здесь как практиканты, работники, резиденты. Усадьба Ельских была как бы этапом, откуда передавали несчастных пострадавших героев в другие места. Нужно было с необычной осторожностью искать и находить для них аренду, работу или хотя бы безопасные углы. Тогда она и познакомилась с Антонием. Был он молод и всей душой предан делу. Приезжая ночами, он каждый раз забирал кого-нибудь, чтобы отвезти его в Варшаву и устроить на одной из фабрик своего отца. Он рисковал собственной свободой и состоянием, но особенно усердствовал еще и потому, что хотел подчеркнуть свой польский характер.
Произошло это в безлунную ночь в боковой аллее, когда она укладывала продукты в бричку. Он припал к ее коленям и признался в любви. Она дала ему слово. Отец не возразил против решения дочери, и спустя четыре года после обручения она стала женой Антония.
Она никогда не любила его, но были достаточно важные животрепещущие другие дела, которые их соединяли, а брак ведь не заключается в любви.
Если она даже и сделала ошибку, выходя за Антония, то никогда об этом не жалела. Человек, который раз принял решение, не должен потом позволять себе сомневаться в его правильности. И пани Гражина была верной женой. Никогда ни на мгновение она не думала о поисках личного счастья вне брака, который этого счастья ей не принес, и даже не допускала мысли о разводе.
Однако, глядя на Анну, вопреки убеждению о необходимости строго придерживаться принципа о нерасторжении браков, она все чаще думала о разводе.
Ей было жаль Анну. Такой бездельник, как Кароль Лещ, недостоин ее. Пани Гражину возмущала какая-то неодолимая лень этого человека. В конце концов, хорошо, что Анна зарабатывает и может его содержать, но и ему следует подумать о будущем. Когда последний раз он был в Варшаве два месяца назад, пани Гражина сказала ему это прямо в глаза и достаточно вразумительно, а он только развел руками. Если бы Анна перестала посылать ему деньги, может быть, он наконец взялся бы за что-нибудь.
Забрезжил рассвет. Через тяжелые шторы на окнах в спальню проникали серые полосы зимней утренней зари, смешиваясь с желтым светом лампы. Пани Гражина выключила свет и поправила подушку. Она чувствовала себя значительно лучше, почти хорошо. «Сейчас нужно уснуть, – думала она, – а завтра подымусь совершенно здоровой. У этого Владека понятия нет о медицине».
На следующий день все-таки оказалось, что понятие было. После завтрака, который пани Гражина съела уже одетая и за столом, произошел новый приступ, на этот раз сопровождавшийся острой болью в области сердца и в левой руке. Пани Гражину охватил панический страх смерти. Слуга позвонил доктору, а тот не скрыл от пациентки серьезности ее болезни: angina pectoris [3]3
Стенокардия.
[Закрыть] нервного характера на основе сильно развитого атеросклероза. Само по себе это бы не было опасным, если бы не недостаточность сердечных клапанов. Поэтому необходим постельный режим. Покой, тишина, легкоусваиваемая пища и никаких физических нагрузок.
Сейчас пани Гражина знала, что она тяжело больна и что должна отказаться не только от прежней активной жизни, но и от жизни вообще. Это вовсе ее не пугало. Смерть заложена в программе естественного порядка вещей, и, неожиданно узнав, что сейчас это касается и ее, она спокойно приняла мысль о смерти. Пока врач запретил все визиты да и вообще не рекомендовал их, но она должна была вызвать своих детей, чтобы сообщить о сложившейся ситуации.
Куба все выслушал, озабоченно ковыряя в зубах, и сказал:
– Это действительно очень досадно, но что же я могу сделать?.. Э… маме еще станет лучше.
Он поцеловал маме руку и пошел в свою комнату, так как у него была срочная работа. Пани Гражина знала, что он раскладывает пасьянс.
Ванда прийти не смогла. Она позвонила, сообщила, что очень занята, и появилась только через два дня, когда была уже медсестра. Даже не нашла в себе сил, чтобы выразить обычное сочувствие. Она заявила, что «мама выглядит в целом неплохо, а врачи часто ошибаются», после чего начала рассказывать о своей портнихе, дочь которой, восемнадцатилетнюю девушку, бросил какой-то телеграфист.
– Перестань, – прервала пани Гражина.
– Это беспокоит тебя?
Пани Гражина не ответила, сделав лишь знак рукой, чтобы Ванда ушла. Ей было стыдно за дочь перед пани Янковской, бывшей курьершей, исполняющей сейчас функции медсестры. Ванда всегда была холодной, хотя ее безразличие – это результат пагубного влияния Щедроня.
После ухода Ванды медсестра сказала:
– Я случайно знаю эту историю, потому что девушка из нашего дома на Коперника, 7…
– Какая история? – удивилась пани Гражина.
– Об этой дочери портнихи. Она очень способная и красивая девушка. Закончила начальную школу с отличием, а шьет даже лучше матери, правда медленнее, потому что опыта еще такого нет, но я предпочитаю ее работу, потому что и строчки ровнее и закончит все, как следует. Правда, иногда опоздает с выполнением на день-два, но уж лучше подождать, чем будет испорчено. Так вот действительно эта Фэлька, дочь портнихи Ямелковской, ходила с неким телеграфистом, даже и ничего себе парень, и чистенький, и вежливый, бывало, на лестнице всегда дорогу уступит. Кто бы это, мой Боже, подумал, что он ее бросит? А все это из-за этих герлз!
– Из-за кого?
– Из-за такой герлз, что в театре танцует. Познакомился с ней где-то, не скажу точно где, потому что не знаю, ну, а тут шасть-прасть – и остался без денег. И к занятиям уже не так серьезно относился, вот и выбросили. Смотрю я, а он снова стал ходить к Ямелковской. Та герлз его побоку; извините, без денег зачем он ей? Так вот эта Фэлька, такая глупая, опять начала с ним встречаться, как будто ничего и не случилось. То ему это, то ему другое, жалела его, что он безработный, и до того дожалелась, что ему позволила. Пусть, говорит, хоть такое утешение будет у бедного. А была же девушка честная, и доказательство тому, что сама говорила мне на мои замечание: голодного, говорит, накормить не грех, жаждущего напоить не грех, а что я, значит она, делаю? Так я ей говорю: «Не врала бы, панна Фэлька, потому что из-за распутства, для собственного удовлетворения, а не из-за милосердия!» Так она клянется мне, что ни за что! Она и сама удивляется, говорит, как это другие женщины могут чем-то таким заниматься, потому что и противно и больно.
Янковская рассмеялась, закрывая рот рукой, и добавила:
– Потому что еще молодая, воли Божьей не чует.
– И что дальше?
– Оно известно: дьявол не спит. Мать раз смотрит, второй и говорит: «Ах ты такая-сякая, выгоню из дому!..»
– А что этот телеграфист? – спросила пани Гражина.
– Он? Только его и видели. Как убедился, что она беременна, так и фьють!.. Говорят, что в Миляновек поехал. В самом начале так он ей советовал, даже велосипед хотел продать, чтобы она отказалась рожать, а она нет и нет. Мать кричит: выгоню из дому, а она отвечает: ну и пусть!
– Почему же не попытались склонить этого телеграфиста жениться, это было бы проще всего.
– Женатый был. Женатый, только жена куда-то с другим убежала. А на развод нужно иметь деньги. Так значит, что это я хотела сказать… та девушка на глазах стала меняться, а мать прямо к вашей дочери, к пани Щедроневой (они там умеют и знают литературу): что делать, чтобы детей не было? Пани Щедронева отвела девушку в сторону и давай ее убеждать, чтобы глупостей не делала, что боли никакой не будет и чтобы она отказывалась рожать. А та малая ни на шаг: хочу иметь ребенка, говорит, и конец. Так мать, долго не думая, выгнала ее из дому, чтобы позора перед глазами не иметь. А Фэлька ничего. Пошла, ну и…
Пани Гражина не слушала. Какое ей дело до этого? Наверное, странное социальное явление, результат переворота в голове молодежи. По правде говоря, даже интересная тема для обсуждения в Гражданском союзе женщин… И что из того, если уже не она выступит и укажет правильные пути? Если раньше она могла с уважением и не скрывая интереса слушать даже обычные сплетни, потому что все знали, да и она сама была уверена, что сплетни эти представляют ценный материал для общественного обсуждения как определенные характерные проявления окружающей нас жизни, то сегодня заниматься чем-то подобным было бы ниже ее достоинства.
Поэтому она часто прерывала рассказ говорливой медсестры, временами даже в моменты весьма интересные. Да, они говорили о жизни, которая течет дальше и будет течь мимо нее без ее участия и влияния. Она оказалась выброшенной из течения на какой-то берег, откуда уже нет возврата, где останется бесполезной и никому не нужной до конца.
Пока она работала, действовала, держала в своих руках нити многих дел, ей самой казалось, что она незаменима, что продление на неделю ее отдыха в деревне вызвало бы невосполнимые потери в ходе общественных дел. Сейчас она удивлялась ясности, с которой видела незначительность ущерба по причине ее отсутствия. Все пойдет своим чередом. Ее место займут другие. Может быть, менее ответственные, может быть, менее способные, по не настолько, чтобы это имело видимую разницу.
Так что же? Какую-нибудь награду, душевное удовлетворение забрала она с собой на тот пустой берег? Какова же цель жизни? Долгие годы, очень долгие годы она служила обществу своей работой, самоотверженной, разумной, неутомимой, и это общество рассчиталось с ней брызгами юбилейного банкета. Разумеется, когда она умрет, они организуют ей похороны. Вероятно, пышные, вероятно, торжественные, но безразличные и холодные.
«Никто не будет плакать на моих похоронах», – представила она себе.
И она взбунтовалась: но почему?! Разве ее смерть не будет потерей? Разве вместе с ней не уйдет существо высокого человеческого достоинства и позитивной общественной значимости? Даже враги не смогут бросить на ее гроб камень. Могут сказать, что ошибалась, но не откажут ей в добросовестности, самоотверженности и верности. Кого же им жалеть, если не ее?
Перед закрытыми глазами пани Гражины проплывали лица людей, с которыми она сталкивалась в своей деятельности. Они были серьезными и торжественными, но ни на одном из них она не могла заметить слез.
А дети?
Если даже она допустила какие-то ошибки в их воспитании, то такой ограниченный человек, как Куба, не может иметь об этом своего мнения, а такая самонадеянная женщина, как Ванда, не может иметь к матери никакой претензии, потому что, вероятно, считается идеалом.
И, однако, на их лицах тоже не будет слез.
Неужели только потому, что не сюсюкала с ними, не баловала их, не портила их желудки сладостями? Антоний тоже этого не делал: она ему категорически запретила всякие нежности по отношению к детям, но все-таки на его похоронах они плакали. И до сегодняшнего дня у них сохранились к нему какие-то чувства.
Тогда разве то, что нас соединяет, сплачивает с жизнью и людьми, то, что после нашей смерти говорят «жаль» и действительно жалеют, это лишь сантименты?..
Невозможно. Очевидный нонсенс даже тогда, если мягкое слово «сантименты» заменить более глубоким «чувства».
Проходили дни и недели, а мысли пани Гражины по-прежнему возвращались к тем проблемам. Не считая полуинтеллигентной сиделки, она была обречена на общество этих мыслей, поэтому проблемы вырастали, становились огромными, усложнялись и заполняли собой все.
Куба на две недели уезжал в Закопане. Он пришел попрощаться, а в передней громко приказал слугам, чтобы прислали телеграмму, «если что случится». И пани Гражина по его тону поняла, что это что-то, что может произойти, чего Куба ждет, это ее смерть.
В эту ночь повторился очень сильный приступ, но пани Гражина не умерла.








