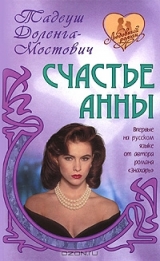
Текст книги "Счастье Анны"
Автор книги: Тадеуш Доленга-Мостович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
– Для женского разума, – вставил Щедронь.
—…Балластом, без которого можно обойтись, если…
– При чем здесь женский или мужской? – протестовал Шавловский.
– Если признаем в нашей речи определенные сокращения, – закончил Дзевановский.
– Учтите, – поднял вверх палец Щедронь, – женщины – рассадники произвола как в терминологии, так и в логике. Все, что они делают, нечленораздельно. Пан Дзевановский! Приведите какой-нибудь пример, ну хотя бы последнее высказывание Ванды.
Дзевановский скривился:
– Квалифицируя обсуждаемый предмет столь досконально, вы не оставляете места для дискуссии.
– Так значит «высказывание» удовлетворяет вас?.. Следовательно, нужно извлечь из этого основные элементы, разведать пути, по которым пришли к такому виду метафор. Это как раз наиболее характерно, наиболее типично для женщин. Если бы я был психиатром…
Анна взглянула на часы. Уже было очень поздно, и к тому же она осталась без ужина. Она посмотрела на Шавловского, который откровенно зевал, чтобы проигнорировать оратора, закрывая ладонью рот. Ванда сидела неподвижно, вглядываясь в кончики пальцев. Это было едва уловимо, и Анна ничем не сумела бы обосновать свое впечатление, но ей казалось, что Ванда как бы наслаждается тем, что говорил ее муж, находит нечто приятное в звучании его голоса, резких и зачастую грубых слов, которыми он характеризовал ее. И все это в присутствии Дзевановского, который Ванду очень интересовал. Щедронь говорил о женщине вообще, но Анна не сомневалась, что все это относится исключительно к Ванде.
Наконец подали ужин. На пути в столовую Ванда спросила вполголоса:
– Не скучаешь, Аннушка?
– Ничуть, – не совсем искренне ответила Анна. – Удивляюсь только, что Станислав разговаривает с тобой в таком тоне в присутствии чужих людей.
– Ах, дорогая моя, это его обычай. По отношению к каждому мужчине, которого он считает моим любовником, он ведет себя таким образом, стараясь убедить его в моей никчемности. По всей вероятности, верит в целесообразность этого метода.
– И ты соглашаешься с этим?!
– Я? Мне это совершенно безразлично.
За ужином, который – как оказалось из замечаний служанки – был принесен из ресторана, Щедронь не переставал убеждать Дзевановского, что Ванда – смесь проворства и чудачества. Ванда прислушивалась к этим выводам. Анна же вынуждена была слушать Шавловского, который развлекал ее рассказами о себе, своей общественной деятельности, о своих книгах. При том он ел крайне неэстетично: чавкал, ковырял ногтями в зубах, накладывал себе огромные порции. Анна с облегчением вздохнула, когда наконец можно было встать из-за стола.
Шавловский ушел сразу же после ужина. Вскоре и Дзевановский начал прощаться, после чего встала и Анна. Щедрони не задерживали их, только Ванда полушепотом обменялась несколькими словами с Дзевановским.
– Я провожу вас, если вы не возражаете, – предложил Дзевановский, когда они оказались на улице.
Она улыбнулась ему почти игриво. Ей хотелось каким-то образом показать ему свою доброжелательность и сочувствие по поводу занятой должности. Такой эмоциональный человек, как он, должен почувствовать это сразу, без слов. Некоторое время они шли молча. Только когда повернули на Мокотовскую, Дзевановский сказал:
– У меня сложилось впечатление, что вы сочувствуете мне по поводу «Мундуса»?
Она не любила разного рода хитросплетений, поэтому не возразила.
– Видите ли, – продолжил он, – я могу только радоваться, что так случилось, что именно вы заняли это место. Прошу нас поверить мне, что я был бы глубоко несчастным, если бы получил эту должность.
– Почему?
– Я ненавижу бюро. Работа там – это что-то ужасное. Меня можно было бы пугать им, как пугают детей, что старик заберет их в мешок. Это действительно мешок.
Анна вспомнила Литуню. Нет, это невозможно, чтобы бонна пугала ее мешком. Ей строго приказано ничем не пугать девочку.
– Только детей не пугают, – заметила она громко.
– И взрослых тоже нет. Наоборот, им этот мешок представляется как предел мечтаний, во всяком случае как желаемая необходимость. Поэтому вы встретили меня у входа в этот мешок.
– Вы сказали, что… вам приятно, что это я. Не понимаю. Почему?
Они проходили мимо какого-то магазина, сверкающего неоновой рекламой, и в этом свете лицо Дзевановского показалось Анне удивительно близким, давно знакомым каждой черточкой, но в то же время отмеченным печалью.
– Почему? – повторила она мягко.
– Сложно на это дать краткий ответ. Я уже давно и напрасно пытаюсь найти в себе те конкретные понятия, на которых основывается моя тоска, а скорее, мое благоговение перед вами, перед тем комплексом различных сил, которые дают вам, таким женщинам, как вы, преимущество, безапелляционное преимущество передо мной.
Анна не могла разобраться в сложности всего этого. Она даже не была уверена, нравится ли этому интеллигентному и нервозному мужчине, а может быть, только страдающему психастенией парню.
– Выходя из кабинета Минза после получения должности, – сказала она, – я встретила ваш взгляд. Колючий, нехороший взгляд. Тогда мне казалось, что вы ненавидите меня. Обидели вы меня тем взглядом.
Дзевановский остановился и широко раскрыл глаза:
– Но это же неправда!
– Такое у меня создалось впечатление, – объяснила она. И в то же время ее охватил страх, чтобы он не посчитал ее банальной. Этот грубиян Щедронь назвал ее анатомический женщиной. Еще только не хватало, чтобы и Дзевановский составил себе о ней подобное мнение.
– Мною руководило, – добавила она поспешно, – чувство грабителя, захватившего чужую собственность. Я чувствовала себя шакалом, который, воспользовавшись невнимательностью больших и сильных хищников, ускользает стороной, унося добычу.
Дзевановский рассмеялся, отрицательно покачивая головой.
– Нет, пани Анна. Видимо, подсознание независимо от воли придало вам такой совершенный вид. Вы шли как победительница. Это было олицетворение смелой победы. Это было шествие новой жизни… Вы плохо прочли мой взгляд.
Он замолчал и шел рядом с ней, опустив голову.
– Значит, мы оба плохо прочли наши взгляды. Это забавно. Когда видишь человека в первый раз, никогда не знаешь, кто он в действительности.
– Иногда наоборот.
– И в этом случае тоже?
– Да, – кивнул он головой.
– Но я же говорю вам, что мне было тогда скорее стыдно, я была сконфужена.
– Это в вашем сознании, – прервал он, – подсознание является значительной частью нашего существа. Это мир, неизвестный тому, кто носит его в себе.
– Я здесь живу, – остановилась Анна у ворот.
– Скоро ли… я увижу вас? – спросил он, целуя ей руку.
Анна заколебалась:
– Когда… когда вы захотите этого.
– Спасибо вам.
Анна вбежала наверх, как можно тише открыла дверь и прошла в свою комнату. Раздеваясь, она думала о том, есть ли какое-то глубокое чувство между Вандой и Дзевановским или только мимолетный роман.
ГЛАВА 2
Дзевановский еще стоял с минуту на тротуаре и курил, как бы ожидая возвращения Анны. Он был искренен с ней, говоря, что она произвела на него сильное впечатление, и он действительно не мог проанализировать это странное чувство. Он никогда не охотился на женщин. Если такое определение охотников допустимо, то, скорее, он бывал зверем, но и это случалось крайне редко. Дзевановский избегал женщин, а они обращали на него столько внимания, сколько может привлечь к себе мужчина, абсолютно лишенный агрессивности и притом бедный. Он не стыдился своего скромного материального состояния. Его отношение к деньгам всегда выражалось полным безразличием, поскольку пособия в двести злотых, которое он получал от тетушки на основании каких-то родственных отношений, собственно говоря, было достаточно для необходимых затрат. Ничто не заставляло его искать способы увеличения бюджета. Правда, несколько раз он делал попытки в этом направлении, но были они или результатом нажима, вызванного тетушкой, время от времени впадавшей в амбиции, или по желанию женщины, которая усматривала в нем непризнанного гения.
Честно говоря, ему нравилось это принуждение, и он поддавался очередному нажиму без сопротивления до тех пор, пока данный план не перечеркивался силой обстоятельств. Одним из основных факторов всех его неудач было, несомненно, его хроническое отсутствие воли, и Дзевановский давал себе в этом отчет.
– Моя воля – незаряженный аккумулятор, – сказал он как-то Ванде. – Напряжение этой воли выражается ничтожным током, неспособным ни к постоянному действию, ни к внезапному взрыву.
А Ванда как раз меньше других женщин умела и хотела подпитать его энергию. Она, правда, иногда говорила:
– Тебе нужно написать исследование об интеллигенции. Обязательно займись этим.
Но уже назавтра она забывала об этой необходимости и просила, чтобы он сделал новый перевод Гомера или добился должности в «Мундусе». Импульсы были слабыми и разных направлений, поэтому не давали никаких результатов. А Дзевановский чувствовал, что под воздействием иного, более сильного и последовательного влияния нашел бы достаточно сил для той или иной деятельности. Ванду, однако, это не интересовало. Ей хотелось иметь его для себя, исключительно для себя, чтобы он всем своим существом концентрировался на их связи, чтобы думал для нее и возле нее, чтобы она была как бы антенной для его чувств и мыслей. Просто, как утверждал ее муж, была дионеей, таким экзотическим липким цветком, который ловит своими лепестками неосторожных насекомых и питается ими. Ванда и представляла собой дионею, прекрасное насекомоядное растение, которое питается посредством раскрытого цветка. Раскрытые уста для поцелуя, раскрытые красные влажные уста, когда она слушает кого-то. В ее лености, в ее медленных движениях и в бессильно звучащем голосе таилась та неведомая, необъяснимая сила, которая парализует, гипнотизирует, притягивает.
Дзевановский, по крайней мере, не стремился освободиться от ее ауры. Он не любил ее, хотя чувствовал блаженство принадлежности, а если бы она любила его, можно было бы сказать, что он только позволял любить себя. Однако сантименты Ванды он никак не мог бы назвать любовью. Это было что-то совсем иное, что можно было бы назвать эксплуатацией, если бы это слово не было таким жестоким. В своем стремлении к постоянному анализу Дзевановский тысячи раз углублялся в лабиринт тех нитей, которые сплетались в узел их романа. Неутомимо идя вдоль каждой ниточки, он находил бесчисленные клубки и бережно размещал их в неисчислимых ящичках, но, когда уже, казалось, все было готово, внезапный порыв Ванды, один ее неосторожный взгляд или слово разбивали в прах всю конструкцию. И снова было непонятно, что зачем, где чего начало и в чем смысл. Был он, правда, наблюдательным, чтобы обнаружить источники перемен Ванды. Соприкосновение с каждым человеком, с каждой книжкой, с каждым событием отзывалось в ней тотчас же, как на чувствительном клише.
Все это в Ванде импонировало ему. Не своей объективной значимостью, поскольку мерой значимости он не расценивал ни людей, ни явлений, а внутренним богатством, разнородностью, множеством, непостоянством, непрерывной эволюцией, ни цели которой, ни направления он не мог определить. Если Щедронь отказывал своей жене в какой бы то ни было значимости, делая это с общественной точки зрения, то для Дзевановского этого мнения не существовало. Собственно, вопрос полезности Ванды для большинства, для окружающей среды, для народа, для семьи или общественного класса заключал в себе массу осложнений, обсуждение которых даже с человеком с таким аналитическим умом, который следовало признать за Щедронем, было немыслимо. Кроме того, Щедронь осуждал Ванду за отсутствие просто человеческих качеств и все же продолжал любить это ходячее ничтожество.
– Я люблю в ней не человека, – яростно защищался Щедронь, – ведь человека в ней нет. Я люблю женщину.
– Физиологический экземпляр?
– Нет. Физиологический, психический, словом, все.
– Не понимаю, – качал головой Дзевановский, и на этом, как правило, заканчивались их беседы.
Дзевановский никогда не мог понять, отвечает ли Ванда хоть в какой-то мере чувствам мужа, живет с ним или нет… Интерес Дзевановского в этом направлении вытекал не из ревности любовника, не из претензии, чтобы она принадлежала только ему. Он хотел лишь создать образ психики и природы Ванды.
Связь их продолжалась уже несколько месяцев. Началась она почти случайно, а утвердилась, как казалось Дзевановскому, надолго благодаря сильной заинтересованности и чувствам. Обе стороны с этой точки зрения соответствовали друг другу по темпераменту, обе не знали и не искали поглощающей страсти, а находили осознанное блаженство, которое можно было впитывать, созерцать, переживать и пить каплю за каплей.
С Вандой было ему хорошо еще и потому, что она ничем не нарушала его покой, а покой был для него, пожалуй, единственной необходимостью. С детства он привык к нему в пустом доме родителей. Отец появлялся редко. Занимаясь строительством железной дороги в Сибири, он приезжал в Варшаву в течение года на несколько недель. Мать отбывала дважды по нескольку лет тюремное заключение за свою политическую деятельность, а когда была дома, то ее присутствие ничем не нарушало тишину и установленный порядок, так как она много работала, закрываясь в своей комнате. Воспитание детей, хотя и осуществлялось точно в соответствии с указаниями матери, было поручено исключительно мисс Трусьби, пожилой, выцветшей даме, которая сблизилась с пани Дзевановской на каком-то международном съезде, где они так подружились, что мисс Трусьби покинула Лондон и согласилась принять должность воспитательницы в Варшаве. Марьян помнил, что эти женщины придерживались совершенно разных политических взглядов: мать была социалисткой, мисс Трусьби – либералкой, однако в вопросах воспитания они были единодушны.
Это воспитание основывалось на раннем просвещении, на исключении всякого рода лицемерия, на абсолютной правде. Вопросы детей никогда не оставались без ответа, соответствующего действительности, по мнению старших. Человеческое добро и зло не облекалось в какую-то тайну. Дети рано знали, что нужда порождает преступления, что мир несправедлив, а религия служит для удержания масс в смирении. Проходя возле костела, они с жалостью смотрели на эти покорные массы и разницу, которую замечали между своими опрятными костюмчиками и убогой одеждой людей из этой толпы, объясняли себе темнотой верующих. В сфере полового воспитания у них не возникало вопросов. Девятилетний Казик и шестилетний Марысь присутствовали в спальне матери, чтобы, по ее желанию, видеть, как появляется на свет маленькое красное и плачущее существо, их новая сестричка Иренка. На обоих мальчишек, а особенно на Марьяна, эта картина произвела страшное впечатление, и потом Марьян еще долго просыпался ночью с ужасным криком. Он рос с убеждением, что жизнь жестока, несправедлива и сурова, что лучше всего держаться от людей как можно дальше.
Отец умер, когда Марьяну исполнилось только восемь лет, а мать – пятью годами позднее. Если он не прочувствовал слишком тяжело ее смерти, то это было лишь результатом их взаимоотношений. Пани Дзевановская никогда не баловала детей, никогда не болтала с ними просто так, и те краткие минуты, которые могла посвятить им, использовала для серьезных разговоров, на выяснения, указания и замечания. Это была рациональная воспитательная система, пожалуй, даже официальная. Мать была просто инстанцией, к которой следовало испытывать не любовь и благоговение, а просто уважение и доверие. В меньшей степени те же чувства возбуждала мисс Трусьби, а когда обеих не стало, – тетушка Барбара Дзевановская.
Марьян предполагал, что именно это оказало решающее влияние на зарождение в нем органической потребности связи с женщинами, влиянию которых он мог поддаваться с полным доверием, которые представляли индивидуальность, отбрасывая достаточно большую тень, чтобы в ней можно было чувствовать себя зависимым, безопасным и спокойным. Он не искал таких женщин, но, встретившись, не мог пройти мимо. Они притягивали его, как магнит притягивает к себе железные опилки. Он не сомневался, что именно это удерживало его возле Ванды.
Это же наэлектризовало его, когда в приемной «Мундуса» он увидел Анну. Вообще-то трудно представить себе двух более разных женщин. Анна уже у Щедроней, а особенно когда они вместе возвращались, показалась ему совершенно иной, удивительно светлой, изумительно простой, манящей тем теплом, которого он не знал, но которое представлял себе. Это говорили наблюдения, однако он оставался под первым впечатлением, которое подсказывало, что перед ним женщина осведомленная, сильная и властная. Кроме того, уже сам факт получения Анной руководства отделом в такой большой фирме подтверждал безошибочность инстинкта.
«Инстинкта или самовнушения, вытекающего из благих пожеланий?» – Он остановился на углу улицы и улыбнулся сам себе, как бы поймав себя на внезапной плутовской мысли.
Было тепло, небо уже становилось серым и прозрачным, гасли фонари. Он повернул к дому. В квартире тетушки он занимал большую комнату, заваленную кипами книг. Случалось, он не покидал ее целыми неделями. Тогда он не брился, не одевался, не брал в руки телефонной трубки, а только читал. Не было такой области знаний, которую он мог бы считать неизвестной, как не было, в свою очередь, и такой, где он чувствовал бы себя совершенно свободно. Периодами он погружался в философию, историю, биологию, математику, социологию и науку о религии, палеонтологию и физику, этнографию и музыку. Он одинаково хорошо знал коран и теорию квантов, Шекспира и карту внегалактических систем. Эта его страсть, если можно назвать страстью постоянный голод, придавала характерные черты занимаемой им комнате. Были здесь, однако, и другие предметы, представляющие следы эпох, связанных с тремя или четырьмя женщинами: несколько экспрессионистских полотен на стенах, диковинные буддийские безделушки, незаконченный бюст Лукреции Боргии в мраморе, автомобильный шлем из зеленой кожи и пижама пурпурного цвета в черные треугольники. Последняя принадлежала Ванде и пахла орхидеей.
И все это было чужим, холодным и не имело никакого смысла.
Неизвестно почему пришла ему в голову мысль, что здесь не хватает чьего-то присутствия, не хватает даже его самого, что это реквизитная прошедших лет и часов, времен, ничем не связанных между собой. А Анна была бы здесь какой-то непонятной неожиданностью.
– Анна, – громко произнес он, и в звучании этого имени он нашел ту самую теплую ноту, которая звучала в ее смехе, в голосе, в ритме шагов.
Он уснул только под самое утро, а разбудили его в полдень. Звонила Ванда и пришла, прежде чем он успел одеться. В черном костюме, она снова выглядела иначе, только глаза оставались теми же задумчивыми и далекими, а уста все так же раскрытыми, как цветок дионеи.
Она принесла корректуру своей статьи, не будучи уверенной в точности некоторых содержащихся в ней данных и цитат. Марьяну предстояло просмотреть это и проверить. Заголовок, как обычно у нее, восхищал оригинальностью: «Наследники вранья». Говоря о недавно изданной повести одной из французских писательниц, Ванда сделала ряд замечаний о нравах довоенного мира, противопоставляя тогдашнюю мораль и доктринерство жизненным принципам, получившим гражданские права в последнее время.
Изящный и яркий стиль Ванды, богатство языка и писательский темперамент способствовали тому, что статья в целом производила впечатление совершенства. Что же касается содержания, здесь у Марьяна, похоже, были возражения: читая, он делал длинные паузы в каждом абзаце. Заключения, по его мнению, были чрезмерно резкие, выводы слишком поспешные, аргументы не опирались на бесспорные факты. Обычно в таких ситуациях он дискутировал с Вандой, не касаясь все же сути вопроса. Принципиальный спор раздражал Ванду, если раздражением можно было назвать легкий румянец и едва уловимое возбуждение. Сегодня, однако, он чувствовал себя несколько разленившимся и, зная, что все равно ничего не добьется, ограничился исправлением нескольких ошибочных ссылок на авторитеты, которые не разделяли взглядов автора статьи.
Это несколько огорчило Ванду, так как следовало в принципе изменить направление, что значительно ослабляло выразительность.
– Ты знаешь, мой дорогой, – сказала она, сворачивая корректуру, – у меня нет желания вносить эти изменения.
– Однако, мне кажется, они необходимы.
– Ах, наверняка никто не заметит этого. Собственно, кто у нас читал Массинса или Хебинга?!
– Ну, например, хотя бы я.
– Ты один.
– Я думаю найдутся и другие, – настаивал он.
Ванда пожала плечами:
– Я читала это сегодня Бернарду, и если он не заметил…
Марьян примирительно кивнул головой:
– Как хочешь. Я не сомневаюсь, что ты лучше меня знаешь, что у нас читают. Шавловский, однако, не может служить примером по той простой причине, что он вообще ничего не читает.
– Преувеличиваешь, – спокойно заметила Ванда.
– Ничуть. Я не отрицаю, что когда-то он что-нибудь прочел, может быть, поэтому знает некоторые труды Хебинга, но ни Массинса и никого из более современных авторов не коснулся. Твой муж придерживается мнения, что Бернард читает только свои книги. Ему зачтется это на том свете как добровольное умерщвление. Но я хотел обратить твое внимание на эту избитую фразу: на том свете. Не заметила ли ты, что это звучит подобно патриотической декларации наших парней пограничных областей? Когда их спрашивают национальность, они отвечают: местные. То же самое мы встречаем у многих племен, находящихся на низком уровне культуры: у индейцев, негров, эскимосов. Примитивизм нашего ума – я говорю о людях интеллигентных – отчетливо выражается трюизмом о «том свете». У мужиков ответ типа «местные» мы называем узостью горизонта, а у себя – сокращением комплекса понятий. Но самое интересное заключается в том, что мы действительно «местные», «здешние» в жизни, во времени, в пространстве, и это самое мудрое определение существования человека.
Ванда внимательно слушала со своим очаровательным выражением сосредоточенности в глазах.
– Ты знаешь, Map , – сказала она спустя какое-то время, – как Щедронь определяет вас обоих?
– Нас, это значит?..
– Ну, не обижайся, тебя и Бернарда.
– Это меня не оскорбляет. Чего ради, – пожал он плечами. – Я даже с лифтером нашел бы общий язык.
– Так вот Щедронь говорит, что Дзевановский все знает, но утверждает, что ничего не понимает, зато Шавловский ничего не понимает, а твердит, что знает все.
Она тихо рассмеялась и поцеловала его в лоб:
– До свидания, Map , приди за мной в кафе.
– Хорошо. А Хебинга лучше вычеркнуть.
– Я посмотрю, – кивнула она головой и вышла.
Щедронь, однако, хорошо ее знал, во всяком случае, некоторые черты. Имея пристрастие к абстрактным темам, она сводила все к фактам, к действительности, к предметности. Марьян, конечно, не соглашался с мнением ее мужа о том, что Ванда неспособна понять абстракцию. Это было преувеличением. Но в ней, вероятно, был заключен своего рода мыслительный утилитаризм. Бесполезность работы интеллекта находилась вне границы ее возможностей.
«А какая же та?» – подумал он об Анне и поймал себя на слове «та». Зачем ему потребовалось определение именно ее. Может быть, как противопоставление?..
Одновременно ему в голову пришла мысль, что Анна может зайти в кафе, чтобы встретиться с Вандой, и это было бы так мило. Достаточно поднять трубку телефона и позвонить в «Мундус», а затем спросить, не хотелось ли бы ей встретиться. Если она удивится, нет ничего проще, чем сказать ей прямо:
– Потому что я хотел бы вас увидеть.
– Почему именно меня и почему именно вы? – спросит Анна.
На это он не смог бы ответить. А хотелось ему по многим причинам, и невозможно определить, какая из них главная, какая существенная… Он подошел к аппарату и положил на него руку. В конце концов, во всем этом нет ничего неприличного…
Он поднял трубку, но когда телефонистка ответила, отказался от намерения.
– Извините, – сказал он, – я просто так…
– С каким номером?.. – нетерпеливо зазвенел в мембране голос.
– Не нужно, извините.
– Только время отнимают! – гневно ответила телефонистка.
Марьян поспешно положил трубку. Этот мелкий и смешной инцидент вывел его из равновесия. Следовало сразу нажать на рычаг и ничего не отвечать. Следовало вообще не поднимать трубку. Эта нелепая мания оправдываться… Желание оправдаться, разумеется, возникает из чувства стыда, ведь стыдно за отсутствие своего решения и постоянное отступление.
Он посмотрел в зеркало и убедился, что покраснел. Эта ничтожная и почти безличная компрометация уже возбудила его. Каждый подобный случай способствовал параличу воли, неосознанному страху перед каким-то действием. Он лег и возвратился к чтению «Дневников» Манон Ролан де Ла Платьер. Ролан де Ла Платьер лишил себя жизни в тот день, когда узнал, что гильотинировали его любимую жену, которой было в то время около пятидесяти лет. Это – любовь, а любовь – это жертвенность и утрата себя… Это – жертва. Он не способен на это. У Манон Ролан были пламенные глаза, которые пленяли мужчин, и пылкий темперамент, а кроме того, железная воля. Пани Анна Лещева совершенно иная. Он прикрыл глаза и попытался представить ее образ в сером изящном костюме… Ее мир другой. Манон владела собой. Ванда спокойна совсем иначе. Это покой дионеи, покой паучьих сетей, интенсивный покой мрака, в котором безгласно что-то происходит. А покой Анны?.. Он не мог этого определить.
Он встал, взял шляпу и вышел из дому. В кафе нужно было повернуть направо, но часы на углу показывали семь, а в семь часов Анна выходит из «Мундуса». Он повернул и медленно пошел вперед.
Она как раз выходила из бюро, но была не одна. Ее сопровождала какая-то девушка. Когда они поравнялись с ним, он быстро отвернулся к витрине и только в окне видел ее отражение. «Что за глупость и как это мучительно», – подумал он.
В кафе, как обычно в это время, было многолюдно и шумно, все столики заняты. Над прилавком возносилась крупная полнобюстая пани Маркевич, так называемая «ее обширность пани Маркевич». За столиком «Колхиды» уже сидело несколько человек с неизменным Шавловским, размахивающим руками и говорившим очень громко, так, чтобы зерна его ценных мыслей могли достичь, по крайней мере, дюжины стоявших вокруг столиков, где группировались каждый вечер менее значительные, тихие и восторженные почитатели этого Олимпа.
Великие аргонавты делили здесь золотое руно мудрости, а скромным зрителям время от времени удавалось отщипнуть бесценный клочок золотой шерсти, чтобы поражать им глупцов до тех пор, пока не израсходуется. Название «Колхида» появилось неизвестно при каких обстоятельствах еще до того, как Дзевановский получил привилегию зачислить себя к полномочным посетителям и участникам этого постоянного симпозиума, хотя он один не принадлежал к Олимпу. Несколько художников, писателей, музыкантов, журналистов, актеров, несколько женщин – писательниц и поэтесс – представляли то, что решало успех или несчастье каждого смертного, вторгающегося в артистическую жизнь. Здесь сублимировались мнения, конкурировали таланты, провозглашались лозунги, давались компетентные оценки всего, что находилось в рамках культурных программ.
Введение Дзевановского в «Колхиду» не вызвало никаких возражений, ни активных, ни пассивных, уже по той простой причине, что представлен он был Вандой Щедронь, а его быстрая акклиматизация свидетельствовала о его пригодности. С поэтами он умел говорить о поэзии, с музыкантами – о музыке, с актерами – о театре, с журналистами – обо всем. Он не только умел говорить, но и почти в каждой области располагал большим запасом знаний.
– Пан Марьян, – спрашивали его, – кто этот Бехайм, о котором Ландау написал труд?
И Дзевановский рассказывал, что монография Ландау насчитывает семьсот страниц, биография Михаила Бехайма пера Корнборга написана на двухстах страницах и, кроме того, есть еще много литературы о Мейстерсингерах.
– Вы счастливый человек, – вздыхал получивший информацию, – у вас есть время читать.
А на следующий день в печати появлялась статья, в лучшем случае начиналась дискуссия о пробелах монографии Ландау.
Дзевановский чувствовал себя в кругу членов «Колхиды» вполне хорошо и не соглашался с Щедронем, что это название должно быть осовременено и носить имя губернии Кутайской.
– Следует уважать номенклатуру географии, – говорил Щедронь, потирая руки.
В кофейне «Мазовецкая» Щедронь бывал редко. О каждом из ее завсегдатаев он мог сказать что-то язвительное. Шавловского называл Орфеем и предсказывал, что тот будет растерзан менадами, разумеется, с Вандой во главе.
Марьян находил, однако, в «Колхиде» интересное общество и скучал здесь лишь тогда, когда темой споров становились какие-нибудь личные разборки, кулуарные приемы и планы реального действия. Об этом, правда, говорили нечасто.
В тот день на повестке дня была статья Ванды о наследии вранья, в связи с чем говорил Шавловский. И конечно же, о себе. Он цветисто расписывал свои встречи с разными известностями еще тридцать лет назад.
– Не придет ли твоя сестра? – спросил Дзевановский, наклоняясь к Ванде.
– Анна! – удивилась она.
– Да.
– Понравилась тебе?
– Не знаю, – пожал он плечами.
Ванда мельком взглянула на него, закурила и спросила:
– Ты же не считаешь, что я хочу ввести ее сюда?.. Если, однако, тебя интересует… Нет ничего проще, чем позвонить ей. Она живет у моей матери, найдешь номер в каталоге.
– Это ревность? – скривился Марьян.
Ванда взорвалась тихим смехом:
– Ну уж нет, нет, мой дорогой. Я только не могу понять, что тебя заинтересовало в Анне? Красота?
– Не знаю, – повторил он безразлично. – Если ты не хочешь, я могу вообще не встречаться с ней. Мне все равно.
К столику подошли еще несколько человек, и они вынуждены были прервать разговор, что Дзевановского как раз устраивало. Он не терпел конфликтов с кем бы то ни было, а особенно с Вандой, и решил больше не возвращаться к вопросу, который вносил некоторое волнение в их отношения. Поэтому ни в тот день, ни на следующий они не вспоминали Анну. Ванда, правда, пыталась несколько раз коснуться этой темы, но, поскольку это происходило в присутствии Щедроня или Шавловского, Марьян мог не реагировать.
Однажды они встретили в театре Жермену. Марьян ее мало знал и не любил. Она действовала ему на нервы. Жермена была олицетворением постоянного движения, скорости, погони. За пять минут она успела рассказать, что за бесценок купила шиншилловое манто, что у какого-то боксера, с которым она ехала, сломалось рулевое управление под Меховом, что будет сниматься в фильме, потому что хочет проверить, фотогенична ли, что пани Ельска-Шерманова избрана делегатом в Амстердам, что последний матч в Праге закончился поражением «Полонии», потому что Цибух-второй вывихнул ногу и его заменил Пискальчик, тот, который купил красный «Фиат» у Поженковского, что она разводится с Кубой и что после спектакля они идут танцевать с боксером, страшно милым парнем, и с Анной, за которой они должны зайти на Польную, так как она еще в «Адрии» никогда не была.








