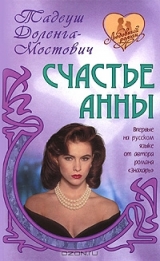
Текст книги "Счастье Анны"
Автор книги: Тадеуш Доленга-Мостович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
ГЛАВА 5
Банкет должен был начаться в восемь, а уже в семь часов пани Гражина была готова. Волнения не было. За свою долгую жизнь она участвовала во многих подобных торжествах и столько раз выступала, что и сегодняшний юбилей, хотя он был ее собственным, не мог вывести из равновесия ее идеальную нервную систему.
Стоя перед зеркалом в новом черном бархатном платье, она присматривалась к себе не столько с удовлетворением, сколько с признанием. Высокомерная, серьезная и почти красивая в ореоле седых волос, в своей величественной здоровой старости, она была такой, какой желала быть. Ее собственный взгляд, самый придирчивый из критиков, не мог в отражении всей фигуры отыскать ничего, абсолютно ничего, что бы ей хотелось изменить в себе. Именно так она представляла свою старость и до такой старости дожила.
– Старость, – усмехнулась она, – и, отвернувшись от зеркала, медленно приблизилась к стене, на которой висел большой написанный маслом портрет молодой высокой девушки в бальном атласном платье.
Так она выглядела пятьдесят лет назад…
– Старость, – повторила она с оттенком удивления.
Она вовсе не чувствовала себя старой, скорее наоборот! Та девушка на портрете, тоже серьезная и горделивая, тоже представляющая образец физической и духовной гармонии, никогда не была молодой. Может, это вытекало из ее характера, а может быть, объяснялось тем, что на молодость у нее не было времени.
Нет, пани Гражина не чувствовала себя старой. Годы прошли через ее жизнь очередностью дат – дат, составляющих пятидесятилетний календарь совещаний, съездов, встреч, визитов и собраний. Время мчалось мимо нее. Оно касалось ее деятельности, ее работы, ее обязанностей, но не се самой. Все, что составляло се личную жизнь, не занимало почти места в этих пятидесяти годах. Она не жила для себя. Она жила для всех, для народа, для общества, и именно сегодняшний юбилей должен быть видимым выражением благодарности, почитания и верности со стороны общества, которые она вполне заслужила.
Это не будет манифестацией, а лишь честно заработанной наградой, и она примет ее с высоко поднятой головой, с полной осознанностью права на эту награду.
Все, с кем она сотрудничала, кто близко присматривался к ее неустанной работе, кто ценил ее деятельность, соберутся сегодня на банкете или пришлют поздравительные телеграммы. Уже с утра пани Гражина получила их несколько десятков.
Она просмотрела их еще раз и решила показать эти свидетельства признания сыну.
Она постучала к нему. Он сидел у стола и раскладывал пасьянс, бормоча себе что-то под нос. Посмотрев исподлобья на мать, он спросил:
– Что это мама сегодня такая нарядная?
– Я же тебе говорила, а вообще-то ты бы мог узнать и из газет, что сегодня отмечается пятидесятилетний юбилей моей деятельности. Видишь, сколько телеграмм получила!
Она хотела положить перед ним пачку телеграмм, но Куба крикнул:
– Мама, что ты делаешь! Пасьянс! О Боже, все карты мне передвинула! Вот дьявол, сам не знаю теперь, смогу ли уложить так, как было!
Пани Гражина отшатнулась и закусила губу.
– Я думала, – помедлив, сказала она, – что для тебя важнее твоя мать, чем пасьянс.
– Ну вот, местное слово, теперь не знаю, где лежала эта восьмерка треф, – плаксивым голосом причитал Куба.
– Ты меня даже не поздравил. Ты плохой сын, Якуб.
– Ну, я поздравляю тебя, но это еще не повод, чтобы мешать кому-нибудь раскладывать пасьянс. Вот здесь лежала дама пик, но сейчас я не знаю… Мама, ты не заметила, не лежал ли на пиковой даме бубновый валет?..
Пани Гражина ничего не ответила. Она измяла в руке телеграммы и вышла. В прихожей света не было. Она остановилась здесь и неподвижно стояла.
В квартире царила абсолютная тишина.
«Как же я одинока!» – подумала пани Гражина.
Ванда тоже не помнила о юбилее матери. Наверное, она читала о нем, но не считала нужным поздравить. Не чувствовать долга. Можно иметь другие взгляды, можно быть злой, испорченной женщиной, но хотя бы из приличия помнить о таком важном, таком торжественном дне. Куба – другое дело. Это глупый парень. Просто кусок мяса, но Ванда!.. Подлая.
Пани Гражина чувствовала, что презирает своих детей, что просто брезгует ими. Первая попавшаяся секретарша или сотрудник были во сто крат ближе ей, чем эти двое. Родные дети… О, если бы все дети так относились к своим матерям, чего бы стоили тогда возвышенные лозунги, провозглашенные пани Гражиной Ельской-Шермановой, депутатом и председателем, юбилей которой сегодня отмечался! Не ирония ли это судьбы, что именно она обречена иметь таких детей, такой семейный очаг, пустой, холодный, безразличный, дом, в котором жителей ничто не связывает…
«Если бы жил Антоний», – подумала она о муже и тотчас отбросила эту неискреннюю попытку противопоставления.
Она хорошо знала, что и Антоний ей не был близок. «Как же я одинока, как я одинока, – думала она в тишине, опираясь о стену, – одинока и стара…»
И вдруг возник вопрос: за что? Чем она заслужила такое? Пятьдесят лет она отказывалась от всего для себя – от поездок, балов, нарядов. Отказывалась от всех радостей… Чем она провинилась?
Часы в столовой пробили восемь.
Пани Гражина сжала пальцами виски и медленным, усталым шагом прошла к себе. Она не позвала служанку. Сама надела шляпу и шубу. Шуба была тяжелая. Пани Гражина чувствовала себя необыкновенно измученной и ослабевшей, и ей показалось, что в комнате очень душно.
На улице был мороз, очень сильный мороз, что тоже затрудняло дыхание. Внизу ее ждал автомобиль, присланный пани Ябжесской, всегда такой внимательной и предупредительной. Это был большой черный лимузин с мягкими подушками и замшевой обшивкой. Он двигался так тихо и легко, что достаточно сомкнуть глаза – и можно потерять ощущение движения. Пани Гражина открыла их только тогда, когда машина остановилась возле ярко освещенной гостиницы.
С каким бы удовольствием она сказала шоферу повернуть обратно! Она легла бы в постель, потому что действительно была измучена, как никогда. А здесь столько огней, столько людей. Уже в гардеробе она снова почувствовала учащенное биение сердца, которое в первый раз проявилось в прихожей. Очень плохое биение, точно сердце пропустило одно или два удара, а потом вдруг пыталось нагнать.
Улыбающаяся, она здоровалась с толпой знакомых, потом сидела за столом на большом, украшенном цветами кресле и слушала длинные поздравления. Но было очень душно. Если бы не опасение, что другие дамы в декольтированных платьях могут простыть, то попросила бы открыть окна.
Речи были красивые и возвышенные, полные самых теплых слов в адрес юбиляра, полные почитания и благодарности за ее многолетнюю деятельность. Говорили мужчины и женщины. Превозносились заслуги пани Гражины в цементировании общества, в осознании роли женщины, которая является гарантом института, святого института семьи.
«Ей благодарны сегодня тысячи женщин, жен и матерей, которые не только не являются тяжестью для своих семей, но и составляют в них активный элемент, ответственный за дело создания духа новых поколений».
В зале было невыносимо душно и в то же время холодно. Ноги и руки пани Гражины просто леденели. Несмотря на это, на ладонях выступал пот.
Когда она встала, чтобы ответить на тосты, сердце отреагировало новой атакой, в глазах потемнело и она медленно опустилась в кресло, но сознания не потеряла. Она видела и слышала все, что происходило вокруг. Какой начался переполох! Ей вливали в рот воду, проверяли пульс, затем перенесли в боковую комнату, где открыли окно. Ее очень мучил шум. Подали какие-то горькие капли. Она никогда не болела, и они показались ей до невозможности противными.
Минут через пятнадцать она уже чувствовала себя настолько хорошо, что могла встать. И сообщила, что очень хочет вернуться домой. Ноги были невыносимо тяжелые, но, опираясь на плечи двоих мужчин, как-то добралась до машины. Провожали пани Гражину две женщины. Одна из них, доктор Сарнецкая, велела перепуганному слуге пригласить тотчас же сына пани.
Куба появился в комнате матери заспанный и в халате.
– Пани сенатор, – проинформировала его доктор, – перенесла легкий сердечный приступ. К сожалению, это не моя специальность. Сейчас нет никакой опасности, но нужно вызвать специалиста и во всяком случае было бы хорошо, если бы всегда кто-нибудь был рядом.
– Я не могу, мне нужно завтра очень рано встать, – сказал Кубусь. – Может быть, вызвать какую-нибудь медсестру?
– Мне кажется, что доктор Шерман – ваш брат. Так вот он специалист по сердечным заболеваниям. Может быть, вы бы вызвали его?
Куба вопросительно посмотрел на мать.
– Я могу позвонить Владеку, но я не знаю, захочет ли мама.
– Позвони, – лаконично ответила пани Гражина.
Доктор Шерман приехал сразу же. Войдя в комнату пани Гражины, он прежде всего проверил пульс, затем разбудил храпевшего на софе Кубу и отправил его в постель. После этого он сел возле пани Гражины и спросил:
– Как это случилось? Расскажите мне, тетя. На банкете? Может быть, вы много выпили вина?
– Я не пила совсем. Еще дома я почувствовала неприятный ритм сердца, а на банкете это повторилось дважды…
– Так…
– Никогда ничего подобного со мною не было. Скажи мне, Владек… Я умру?
– Ну, когда-нибудь обязательно. Сейчас опасности нет. Вы позволите, я послушаю вас.
Он приступил к детальному осмотру. Пани Гражина сквозь полусомкнутые веки видела его лоб, на котором, когда он наклонял голову, вздувались толстые вены. Когда он одной имеющейся у него рукой держал стетоскоп, ей казалось, что он потеряет равновесие. Она неоднократно слышала о нем как о специалисте очень лестные отзывы, однако их не разделяла, так как считала Владека премудрым материалистом и циником. Будь он хорошим специалистом, то уже давно заработал бы себе если не на дом, то, по крайней мере, на приличное существование, а он все продолжает лечить на окраинах и в больницах.
Сейчас, однако, пани Гражина пожелала, чтобы вызвали именно его, а не какого-то другого доктора. Этот хотя бы скажет искренне и прямо, что с ней и требует ли заболевание серьезного лечения.
– И как находишь? – спросила она, когда он сел и посмотрел на часы.
– Нахожу, что хорошо, – пожал он плечом.
– Ничего опасного?
– Невроз сердца. Сколько вам лет?
– Семьдесят.
– Прекрасный век, как сказал бы любой врач. Что ж… склероз, артрит… Стул регулярный?
Пани Гражина не терпела ни этой темы, ни такого способа называть вещи своими именами. Однако ответила:
– Всяко бывает.
– Да, и печень тоже, – произнес он приговор.
– Но это опасное заболевание?
– Это зависит от того, как кто на эти вещи смотрит. Я бы сказал, что эта болезнь вообще опасна: старость.
– Спасибо тебе, но я бы хотела знать, этот приступ сердечный…
– Нервного характера. Вы, должно быть, из-за чего-то перенервничали, а сердечные клапаны не закрываются. Значит, нужно меньше двигаться, а лучше всего лежать в постели.
– Ну хорошо, а как долго?
– Говоря вашим стилем, пути Господни неисповедимы. Я бы посоветовал не вставать вообще.
– Как это – вообще?
– Ну, вообще, если вы не хотите ускорить свое путешествие из юдоли скорби к вечному счастью.
– Ага…
– Кроме того, никакой работы, никакого напряжения, никаких потрясений, хотя этот последний запрет для тети не нужен. Лежать, читать Крашевского, консервативные письма и есть кашку на молоке, легкоусваиваемую пищу, принимать приятные визиты… Хм… Как раз по этой причине я бы посоветовал вызвать какого-нибудь более церемониального врача. Пока я посижу, потому что лучше подождать, но попрошу не разговаривать: это может вам повредить.
Пани Гражина ничего не ответила. Большая физическая ослабленность, лежачее состояние и в известной степени зависимость от этого грубого человека не позволяли надлежащим образом отреагировать на его наглость. Собственно, она боялась умереть, потому что по-прежнему чувствовала боль в области сердца и опасалась нового приступа.
Владек встал и проворчал:
– Я попрошу вас слегка приподняться!.. Еще…
Он поднял выше подушки, проверил пульс, подвинул себе кресло, большое, не очень удобное, но импонирующее размерами, на котором сиживала обычно пани Гражина, когда принимала посетителей. Она делала это не для позы. Кресло подчеркивало достоинство ее особы, а также ценность и важность высказываемых ею слов. Владек развалился в этом кресле с той невыносимой развязностью, которую при других обстоятельствах она не потерпела бы.
Он сел, прикрыл глаза и молчал.
В глухой тишине она слышала только собственное дыхание и неровное биение сердца. Она не верила Владеку. Умышленно, из-за своей обезьяньей злобы он сказал ей, что она уже не встанет с постели. Все в ней бунтовало против этой чудовищной неподвижности. Если бы не обычный физиологический страх, что каждое резкое движение может вызвать новый приступ, сейчас же бы встала…
А может быть, это правда?.. Даже такой циник не отважился бы на подобное бессовестное вранье. Завтра же вызову доктора Лисовского и профессора Кленга. Это просто абсурд – верить такому сопляку, самонадеянному сопляку. Она, которая никогда не болела, которой даже роды оба раза прошли так легко, должна уже умереть!.. И более слабые люди живут зачастую значительно дольше…
Ведь до вчерашнего вечера она чувствовала себя прекрасно!
Ей хотелось спросить Владека о состоянии своего здоровья, вытянуть из него информацию о подробностях недомогания и начать разговор, в котором – она была уверена в этом – он вынужден был бы признать, что с ней все не так уж плохо, но она все-таки стеснялась показать ему свое беспокойство. Это унизило бы ее достоинство. Однако молчание было еще более невыносимым.
– Скучаешь? – откликнулась она едва слышным голосом. – Может быть, взял бы какую-нибудь книгу?
Он отрицательно покачал головой.
– Посмотри в салоне, на полке у стола. Там есть несколько новых авторов, может, тебя заинтересуют.
– Спасибо. Представляю себе, как бы наскучили мне авторы, которых почитает тетя, а оставаясь со своими мыслями, я меньше скучаю, чем вам кажется.
– Я ценю значимость твоих мыслей, но думаю, ты не настолько самонадеян, чтобы пренебрегать чужими мыслями.
– Впитываю их в огромном количестве. А вообще люди в таких случаях поступают комично: или поглощают их для личного пользования, или отбрасывают. Им жаль времени на основательное переваривание собственных размышлений. Более того, свои удобства и умственную лень считают основанием для гордости: так называемые незыблемые принципы, неизменные взгляды. Я предпочитаю тех, кто с покорностью духа, а проще с покорностью куриных мозгов, просто говорят, что верят. Верят и все. Верят объявлению, честному слову. Когда-то я давал консультации какому-то офицеру, готовившемуся к штабным экзаменам. Он никак не мог понять, что сумма углов в треугольнике равно двум прямым углам. Наконец, выйдя из себя, говорю ему: «Даю слово чести, что это так!» Мой офицер сразу же согласился: «Почему же вы мне сразу так не сказали?» И в то же время на следующий день его снова охватили сомнения. Дело было в том, что он не был уверен, можно ли полагаться на слово чести человека еврейского происхождения. Но я не об этом хотел говорить. Вера, несомненно, является способностью, которой можно позавидовать. Все сомнения, все проблемы решены. Поэтому можно махнуть на них рукой и заняться практичными, выгодными и приятными занятиями, такими, как ростовщичество, сплетничанье и нравоучение близких. Вера – это клад.
– Это правда, а ты это должен знать более всего, потому что без заявлений и без слова чести популяризуешь материализм, который тоже является верой.
Владек нетерпеливо заерзал:
– А кто это вам сказал, что я материалист?
– Это ясно.
– Ну, разумеется. По пятницам ем колбасу, сплю с женщиной на постели, не окропленной святой водой, принадлежу к району без вероисповедания и занимаюсь естественными науками. Кто я? Материалист. И я должен, соблюдая долг врача, здесь сидеть, но если вы мне еще скажете, что мое мировоззрение основано на происхождении человека от обезьяны, то я уйду. Это хорошо заявлять на собрании союза домработниц. Конечно, черт возьми, материализм, с которым тетя так рьяно сражается, Является верой, а точнее, был верой в девятнадца том веке. А сегодня он не существует вообще, и борьба с ним – это не что иное, как борьба с вымышленным врагом. Удивительно, зачем нужен вражеский институт? Люди погибли бы от тоски, если бы не с чем было бороться. Я опасаюсь, что заложено это в инстинкте.
– Я думаю, что в стремлении к правде.
– Стремление к правде посредством распоротого живота ближнего? Но вернемся к материализму и его проблемам. Тетя, разумеется, не читает таких еретиков, как Бергсон, Пуанкаре или Джинс? Значит, вы не знаете, что современный материализм дошел до отрицания самого своего названия и открыл, что мельчайшая частица материн, электрон, не является материей, а лишь пучком волн, поэтому материи нет вообще; что она представляет одну из непродолжительных фаз энергии; что сущность этой энергии мы не знаем; что, возможно, это энергия воли или мысли?
Пани Гражина посмотрела на него внимательно. Нервное лицо Владека как-то странно сжалось, пальцы его руки сгибались и разгибались, а глаза в полумраке, казалось, светились. Она никогда не видела его таким. Кроме того, слова его тоже удивили ее.
– А что же является источником этой энергии, этой воли или мысли? – спросила она.
Он рассмеялся и оборвал ее:
– Кто это может знать!
– Значит, те люди, те ученые, которых ты упоминал, не дают на это ответа?
Владек, подперев голову рукой, молчал. Только его узкие бескровные губы временами подрагивали. Наконец он сказал:
– Осторожно с ответами! Слишком поспешно делаем выводы. Каждый из результатов лабораторных исследований обременен длинным хвостом мыслей. Каждая из них должна подвергаться детальному анализу, каждая стоит целой жизни. Нет ничего проще, чем сказать: если электроны в волновом движении составляют энергию, а во вращательном – материю, то что же они представляют собой без движения? Ничто. Чего проще, чем сделать отсюда вывод: энергия, материя, Вселенная являются только лишь мыслью… Мысль о необъятной силе. А дальше, если мысль создает, если из ничего образует осязаемые предметы, чувства, движение, разум и нашу собственную человеческую мысль, не способна ли эта наша мысль в таком или в меньшем объеме создавать новые миры, где живут существа, ощущающие тепло и холод, любовь и ненависть, правду и фальшь?
Он нервно рассмеялся:
– Видите, до каких «чертиков» можно дойти путем логического рассуждения. Насколько безопаснее вера!
Пани Гражина глубоко вздохнула. Ей казалось, что напряженное внимание, с каким она слушала рассуждения Владека, приостановило нормальную работу ее легких, что повредило сердцу, так как в висках стучало все сильнее.
– Я чувствую себя хуже, – обратилась она спокойно.
Владек встал, легко нажал большим пальцем на сгибе кисти. Она наблюдала за выражением его лица, но он, казалось, был погружен в свои предыдущие размышления. Она почувствовала сильное давление в горле, а потом вдруг сердце начало останавливаться.
«Умираю», – подумала она.
Хотела поторопить Владека, попросить, чтобы он помог, чтобы позвонил другим врачам, но не было сил. Ноги и руки леденели, затылок давила какая-то непонятная пустота, в глазах становилось темно, а слух обострился настолько, что она слышала сейчас не только трепет собственного сердца, но и дыхание Владека, тиканье его часов, тиканье часов на серванте и храп Кубы в четвертой комнате.
– Мне плохо, – едва пошевелила она губами.
– Дышите глубоко, – посоветовал он, – еще глубже, а руки выше. Глубже, длинный вдох!
Он встал, взял свой несессер и стал что-то вынимать оттуда. Она следила за ним с ужасом. Она знала, что он делает все быстро и ловко, но это не уменьшало ее страх. О, чего бы она только не дала за возможность крикнуть: «Скорее, скорее, потому что будет поздно! Я умираю!»
Она понимала, что Владек готовит укол камфары. Она часто слышала, что умирающим для усиления работы сердца вводится камфара. Она хотела попросить его ввести большую дозу, хотя уже не верила в возможность спасения. Когда он будет вводить иглу в ее тело, оно уже будет трупом… Воображение рисовало новые картины. Разбудят Кубу, этого бедного глупого парня, который, вероятно, и не почувствует утраты, сообщат Ванде… Ванда брезгует мертвыми… Сомнительно, что вообще придет. А потом катафалк и похороны… Чем ее смерть может изменить течение их жизни, их мыслей? Ничем. Самое большое, нарушит обычный распорядок нескольких дней! Погребение и юридические формальности. Кто из них заплачет? Неужели у них такие холодные сердца? Разве Куба или Ванда могут понять ее трагедию, трагедию матери, умирающей в этом диком холодном одиночестве, семидесятилетней женщины, бедной старой женщины, вслушивающейся в ужасающе слабеющий, уже почти неслышный ритм сердца?..
И сердце, как бы тронутое той немой жалобой, вдруг сорвалось и забилось в бешеном бессознательном темпе. Казалось, оно бросается во все стороны, мчится в бессильном зловещем галопе, булькает, как бы давясь паническими глотками крови…
– Умираю, – захрипело в горле.
В тот же миг в правой руке выше локтя она ощутила острую боль – укол камфары. Открытые глаза различали только контуры самых близких предметов, но на коже предплечья она отчетливо чувствовала боль от синяка, растираемого горячей ладонью. Спасительная камфара впитывалась в кровь, бежала с ней к сердцу. В ноздри ударил освежающий запах эфира.
– Дышите глубже, глубже, – услышала она нетерпеливый голос.
Но она не могла. При каждом хотя бы немного более глубоком вдохе горло сжималось и приходила уверенность, что больше уже не раскроется, что больше не пропустит в легкие ни малейшего глотка воздуха. Рот был полон холодной слюны, но она не отважилась бы проглотить ее, потому что одно движение гортани равносильно было удушью. Слюна начала стекать по губам. Это, должно быть, выглядело омерзительно. Она вытянула руку за платочком, но не смогла найти его на обычном месте. С усилием она поднесла ко рту угол одеяла и промокнула им слюну, чувствуя на губах прикосновение холодной простыни.
– Руки над головой! – сурово приказал Владек.
Минуту спустя она снова почувствовала запах эфира и новый укол, на этот раз выше правого колена. Молниеносно пронеслась мысль, что она лежит раскрытая. Да, она должна быть раскрытая, потому что на груди почувствовала холодное, приятно холодное прикосновение мокрого компресса, а затем ладонь на сгибе кисти.
«Как он это быстро делает, – подумала она, – а ведь у него только одна рука».
И это ее вдруг успокоило. Она подняла на него глаза и встретила печальный неподвижный взгляд. Этот взгляд черных затуманенных глаз был для нее неожиданностью, открытием. И она почему-то улыбнулась, а глаза ее наполнились слезами.
Сердце замедляло свой панический бег, оно билось еще очень быстро, но уже ровно и уверенно.
– Прошу вас ничего не говорить, – жестко сказал Владек, и только в тот момент она уяснила, что хотела сказать ему что-то хорошее, теплое и сердечное.
Его приказ задержал слова, но не помешал мыслям. Ведь он спас ее, этот парень, которого она не уважала, так часто унижала, к которому всегда относилась с неприязнью и с определенной степенью презрения. И нужно было наступить такой минуте, чтобы открыть в нем что-то совершенно неожиданное, какую-то мистико-материалистическую философию, что-то соединяющее в себе деизм Тиндаля и Лессинга с мироощущением Шопенгауэра и с пантеизмом Джордано Бруно, Гегеля или Спинозы. Пани Гражина знала эти взгляды и порицала, как не соответствующие ни науке, ни костелу, однако их эклектическая связь носила у Владека тот же энтузиазм или экзальтацию, что и у Бруно, сумасшедшего доминиканца, сожженного на костре, которого пани Гражина считала еретиком, опасным, но, конечно, не настолько, чтобы жечь его на костре. Он вызывал у нее определенную симпатию. Владек, может быть, не обладал этим огнем, но у него было что-то более неожиданное: чувства. Она это точно знала. Человек, которого она считала неспособным на какие-либо чувства… Так что же значит, его скептицизм, цинизм и неприятный моральный нигилизм?
По правде говоря, она не много знала о нем. Их редкие беседы ограничивались неприятными стычками по инициативе Владека, иногда неприличными и неуместными. О его личной жизни до нее доходили сведения очень редко: сдал экзамены, получил диплом, открыл собственный кабинет, поселился с какой-то разведенной. И это все. Еще слышала, что дела у него идут неважно, что зарабатывает немного. С ее детьми он не поддерживал почти никаких отношений. Он никогда не упускал возможности посмеяться над Вандой или Якубом. Как-то сказал о Ванде:
– Она переживает в своих статьях эротические волнения всего человечества.
И добавил к этому еще что-то двусмысленное, чего пани Гражина не хотела помнить и не помнила. О Кубе он говорил:
– Если бы между едой и сном он нашел время на мышление, то думал бы, что съесть и когда поспать.
Пани Гражина никогда не задумывалась, насколько справедливы злобные высказывания Владека о ее детях. Она просто игнорировала мнение Владека, отбрасывала его априори. Слушая Владека, она более чем когда-нибудь подчинялась навыку председательствующей, которая может в любой момент нежелательного оратора лишить права голоса или же настоять, чтобы его речь вычеркнули из протокола.
Однако сейчас она почувствовала потребность найти в ком-то отзвук осуждения их черствости и эгоизма.
– Ты уже устал, Владек, – откликнулась она, – а я настолько лучше себя чувствую, что не хотела бы тебя задерживать.
– Вы не беспокойтесь. Это моя профессия, и я попрошу за это заплатить, – ответил он резко.
– Не об этом речь… Видишь ли, Владек, у тебя талант ставить каждый вопрос в обидной и неприятной манере. Я хотела выразить тебе благодарность…
– Я думаю, что все трудности в поисках формы благодарности перестали существовать со времени, когда финикийцы придумали деньги.
Пани Гражина, притворно улыбаясь, сказала:
– Однако сам ты не ценишь деньги.
– Я ценю. Для меня это малая ценность, чтобы зарабатывать, но очень большая, чтобы тратить. Поэтому я гол, и в то же время меня считают скрягой.
– Ты очень устал… – начала снова пани Гражина, желая вернуться к затронутой теме. – Мне кажется, что я уже могу остаться одна… Может, лучше было бы разбудить Кубу или кого-нибудь из слуг…
– Кубу, – он улыбнулся с сарказмом, – можно было бы разбудить только сообщением, что пришло время поесть. Иного способа не вижу.
– Да, я вот подумала… Наверное, мне придется пригласить какую-нибудь медсестру по уходу, потому что ни на сына, ни на дочь я рассчитывать не могу.
– Наверное.
– Как это тяжело в семидесятилетнем возрасте, имея двоих взрослых детей, видеть, что ни один из них не чувствует не только долга по отношению к матери, но и вообще…
Она махнула рукой: да что говорить ему, сам ведь знает эту ситуацию.
Владек надул свои узкие губы с выражением удивления:
– Не понимаю… А вы ждали от них чего-нибудь большего?
– Я думаю.
– А на каком основании? Извините великодушно, на каком основании?
– Можешь делать вид, что не понимаешь этого, но ведь то, что я их мать, останется для всего мира достаточным основанием.
– Извините, но как вы истолковываете понятие «мать»? Речь идет о биологической роли или о дружеской, социальной либо юридической? Ага! Значит тетя, главный эксперт и самая высокая государственная инстанция в семейных вопросах, считает, что у нее есть семья, но то, что тетя сделала со своей семьей, исключает какие бы то ни было сердечные взаимоотношения. Я бы сказал, что это не семья, а фамилия, в том отчасти старороманском значении…
– Ты говоришь глупости, Владек! – возмутилась пани Гражина.
– Не такие страшные, как вам кажется. Не буду говорить о себе – я дальний родственник. Но, скажем, Куба. Что вы когда-нибудь для него сделали? Я даже готов предположить, что сам факт его появления на свет не был побочным результатом обычного чувственного возбудителя. Готов поспорить, что в известную минуту для вас было важно, скажем так, получить удовлетворение от зачатия нового делового гражданина страны. Добродушный дядя Антоний! Помню его постоянно озабоченное выражение лица. Он и тогда вынужден был считаться с достоинством таинства брака и с тем, что… трудится на благо отчизны.
– Владислав!
– Прекрасно, тетя. Но даже в таком случае тетя заслужила благодарность страны, отчизны, поколений и чего-нибудь там еще, но вовсе не благодарность Кубы. А дальше? Вам кажется, что вы его воспитывали? Разве наем гувернанток и репетиторов равнозначен воспитанию, особенно когда больше внимания уделяется вопросу нравственности гувернанток, чем развитию ребенка? Кроме того, тетя никогда вообще не занималась Кубой, а Вандой лишь тогда, когда почувствовала волю Божью, да и то на несколько месяцев опоздала. Поэтому…
Пани Гражина прервала его:
– Зачем ты это говоришь? Или считаешь, что мое теперешнее состояние самое подходящее для дерзких и нелепых замечаний?
У него снова был злой, ироничный и вызывающий взгляд. Это уже верх наглости – делать ей, Гражине Шермановой, замечания по поводу воспитания детей! И это в тот момент, когда она ждала от него понимания, а может быть, даже сочувствия.
– Я только отвечаю на сетования тети, – пожал он плечами. – Нельзя требовать от кого-то теплых отношений, если со своей стороны исключены всякие чувства…
– Может быть, ты будешь любезен проявление чувств не идентифицировать с самими чувствами?
– Нет, не буду. Необъявленные чувства не существуют, объективно не существуют. С детства я бывал в этом доме, который когда-то импонировал мне богатством, но всегда отталкивал своей атмосферой гостиницы. Пока еще жил добропорядочный дядя Антоний, запуганный метрдотель, время от времени пахло здесь, скажем, пансионом. Потом это стал лишь ночлежный дом, в который жители забегали поесть или поспать. Каждый раз, когда я сюда приходил, убегал отсюда как можно скорее в убогую квартирку на четвертом этаже, где просто физически чувствовал тепло после тетиного ледника. Моя мать была необразованной, может, неинтеллигентной, может, не умела вести себя в обществе, но определенно была матерью. Сейчас вы понимаете, почему мы любили ее, почему из-за ее болезни Рена разорвала выгодный контракт, а я потерял год в университете? Мы, не задумываясь, пошли на это. Мы сделали то, чего очень хотели: быть рядом с ней.
Он закусил губу и повернул голову.
– Она воспитывала нас сердцем, – добавил он. – Нам даже сладко было от ее сердца…








