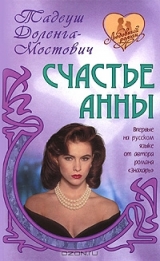
Текст книги "Счастье Анны"
Автор книги: Тадеуш Доленга-Мостович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Все это было странно. Анне казалось, что она встретилась с удивительно редким в жизни случаем, ни плохим, ни хорошим, а имеющим свою отдельную, какую-то не исследованную ранее ценность. И любила она Марьяна не меньше, а с каждым днем все больше. Она делала все, что могла, чтобы освободить его от сознания несостоятельности и х союза. Сама себя она убеждала в возвышенности их отношений.
– Родной мой, – говорила она, – не думай, что я из-за этого несчастна или оскорблена. Наоборот, я еще больше могу ценить нашу любовь и еще больше гордиться ею, потому что свободна от зоологических элементов, которые бы сделали ее обыденной.
И действительно, она чувствовала себя возвышенной, благороднейшей, хотя немного дезориентированной.
Они были как бы родными, родственниками. Она занималась его бытом, с безмерным удовольствием наводила порядок в его комнате, пришивала пуговицы, штопала белье. Самым удивительным для нее была та легкость, с которой Марьян согласился на это. Его отказы и протесты носили чисто формальный характер. Не раз она замечала, что он присматривается к ней в такие минуты с любовью и обожанием. Часто он читал ей вслух разные статьи, прерывая чтение критическими замечаниями. Временами, однако, он умолкал, и тогда она чувствовала его взгляд, полный какой-то удивительной нежности, следящий за движением иглы в ее руке.
– Все здесь наполнено тобой, – говорил он, вдыхая так, точно это был свежий воздух леса.
И действительно, присутствие Анны в комнате Дзевановского не заканчивалось двумя часами, какие она там проводила. Каждый предмет, каждая мелочь носила здесь следы ее заботы и пристрастий. Вначале все ограничивалось только починкой, упорядочением, перестановкой. Затем, когда в процессе работы оказывалось, что чего-то не хватает, Анна стала то или иное докупать или отдавать в ремонт, покрывая затраты из своих скудных сбережений.
Марьян мало ценил деньги и не проявлял к ним интереса, поэтому она могла без опасения допускать незначительные неточности в расчетах. Разумеется, он не подозревал, что Анна совершала нечто подобное, тем более что она довольно часто делала ему небольшие подарки, галстук, книгу, запонки, полотенца с собственноручно вышитой монограммой и прочее.
Она знала в его комнате все уголочки, и поэтому от ее внимания не могли ускользнуть самые незначительные изменения. В некоторых она отмечала женскую руку.
Была ли у Марьяна другая, она не знала. Не раз ей приходилось до боли закусывать губы, чтобы прямо не спросить его об этом, чтобы не унизиться до ревности.
Собственно, почему она должна ревновать? Марьян ее любит, а остальное не представляло никакой ценности. Когда-то он дал ей понять, что к женщинам типа Ванды относится не с пренебрежением, а с нетерпеливым безразличием, ибо в таких женщинах он видел, как он назвал «внутреннюю фальшь».
Несмотря на это, Анна старательно избегала встречи с Вандой, но не по причине «внутренней фальши», а под влиянием интуиции, которая не переставала предостерегать ее, что именно Ванда – ее соперница.
Она решила любой ценой удалить ту женщину от Марьяна, но побуждением к такому решению была не ревность. Анна чувствовала, что та женщина не дает Марьяну ничего, буквально ничего, а лишь пользуется его интеллигентностью, знаниями и телом.
Однако пока она воздерживалась от каких-либо шагов в этом направлении. Ее собственная ситуация представлялась ей достаточной туманной. О том, чтобы разойтись с Каролем, она не могла и думать, и не только из-за Литуни, но еще и потому, что это означало бы оставить его без средств к существованию. Кроме того, была еще одна, не менее веская причина: Дзевановский никогда ни единым словом не вспоминал о женитьбе, да и в принципе, абстрагируясь от неполноты их связи, брак с ним, именно с ним, казался чем-то нереальным. Конечно, это было бы замечательно. Маленькая квартирка где-нибудь на окраине Сташица, три-четыре комнаты. Большая библиотека для Марьяна и светлая солнечная комната для Литуни. Каждый день, возвращаясь с работы, она бы радовалась, видя, как они встречают ее. На характер Марьяна, очевидно, хорошо бы повлияло общение с таким замечательным ребенком, как Литуня. Наверное, полюбил бы ее как собственное дитя… А как бы положительно повлияло на умственное развитие Литуни воспитание под опекой Марьяна в атмосфере культуры чувств, душевного спокойствия и счастья…
Анна чувствовала полную свободу в мечтаниях на эту тему, свободу тем большую, что все это было бесконечно далеко от действительности. Она осознавала, что исповедаться перед Марьяном в своих желаниях означало бы испугать его уже самой перспективой перемены. Перемена и необходимость принять какое-то решение всегда пугали его, даже в вопросах незначительной важности. Он был способен панически бежать от принятия конкретных и окончательных решений.
А Литуня?! Марьян до сих пор не встречался с детьми и боялся их. Неоднократно наблюдала она в парке или в трамвае, с каким изумлением – потому что не хотела видеть в этом неприязни – присматривался он к детям. Он старательно избегал прикосновения их маленьких ручонок. Улыбка, которой он отвечал на их вопросы, была вымученной, неприятной и испуганной. Иногда у нее складывалось впечатление, что он брезгует детьми. Когда-то она рассказала ему о Литуне и о ее способностях. Литуня так объясняла явление ветра: «Это плосто. Делевья делают ветел. Машут веточками и делают ветел».
– Разве это не замечательно? – спросила Анна.
Марьян широко открыл глаза, немного посмеялся и сказал, что дети умеют поражать старших своей философией и логикой, что у них свой дар наблюдательности, а затем перешел к рассуждениям о том, сколько ошибок совершила и сколько еще совершит наука из-за подобного перевертывания причины и следствия. Он вспомнил открытие Коперника, привел примеры из физики, медицины, экономики, метеорологии, истории культов, словом, бесчисленное множество примеров. Наконец, переключился на разные теории о влиянии жизни на искусство и искусства на жизнь.
Мысли его убегали от детей. Мужчины вообще не понимают детей. Кароль, например, бесспорно любит Литуню, но не может провести с ней более получаса, потому что скучает, а скучает потому, что не в состоянии понять и вслушаться в ее мир.
– Мой отец, – рассказывала как-то Анна Марьяну, – утверждал, что есть лишь один способ разумного осознания бессмертия: иметь ребенка и понять, что он является единственным нашим продолжением, что единица составляет только одно звено в длинной цепи.
Марьян долго молчал, а затем покачал головой:
– Да, это так, но не трагично ли это?
– Почему трагично?
– Создать новое существо и заставить его, чтобы оно унаследовало не только мои психические и физические дефекты, но и весь кошмарный багаж, накопившийся за тысячи поколений?
– Ты видишь только плохие стороны этого багажа, – запротестовала она, – а ведь наследуется также и культура, интеллигентность, деликатность и многие другие положительные черты.
– Это не уравновесит зла. Тяжесть ответственности за это наследие человечество хорошо чувствует. Возьми, например, постоянно повторяющийся во многих религиях мотив искупления грехов. Всегда должен родиться такой потомок, который искупит грехи предыдущих поколений. Если существование понимать как непрерывный процесс, состоящий из индивидуальных существ, это означает перекладывание тяжести ответственности на потомство. Оно должно быть лучше нас, умнее, благороднее, и мы делаем вид, что верим в это. Но не будем закрывать глаза на правду: мы передаем потомству все наши грехи, а дать им больше сил, чем у нас есть, мы не можем, и тяжесть постоянно растет, а силы уменьшаются из поколения в поколение. И стала неудобной сказочка о том, что нужно обернуться назад к предкам с поклонением и почитанием. Они были лучше, должны были быть лучше. Сказочка – это вера в приход мессии. В этом ищем оправдание. Для этого разрабатываем себе теорию.
– Тобой движет пессимизм, – вздохнула Анна.
– Нет. Во мне говорит страх перед ответственностью.
– Ответственностью перед кем?
Он нахмурил брови и опустил голову:
– Не знаю.
Он произнес это таким голосом, точно переживал огромное страдание. Каждый раз, когда он произносил эти слова, Анне казалось, что они причиняют ему невыносимую боль, хотя вокруг было светло, солнечно. Ботанический сад был наполнен запахами июля. Издалека долетал шум живого веселого трудящегося города. Рядом с ним была она, любящая и любимая. Они сидели, прижавшись друг к другу, под большим раскидистым каштаном, ветки которого раскачивались спокойно и торжественно, создавая ветер.
И что он хотел узнать еще и зачем?..
Она провела ладонью по его лбу и подумала, что, познакомившись с Литуней, он обязательно полюбит ее и не будет смотреть на нее испуганными глазами. Может быть, тогда исчезнут его печальные мысли, которые, вероятно, родились оттого, что в глубине души ему, видимо, хотелось иметь ребенка, но он не может и боится, что уже никогда не сможет.
Это было уже давно, но в памяти Анны осталось каждое его слово, каждый взгляд в то июльское воскресное утро. И сейчас, склонившись над бумагами, над бездушными чужими бумагами, она вспоминала.
– Кто знает, – сказал он, – может, ты во сто крат умнее меня.
– Не смейся, – возмутилась она.
– Ты и твоя дочурка… Литуня. Потому что, может быть, мудрость только в простоте. И не все ли равно, в сущности, что является причиной, а что следствием?
– Мне с тобой следует быть очень осторожной, – рассмеялась она – Из каждого высказывания ты выстраиваешь целые философские системы. Даже из мнения Литуни… Но сейчас я скажу тебе такое, с чем ты уже ничего не сможешь сделать. Вот послушай. Когда я с Литуней была в Познани в зоологическом саду и показала ей ужа, она спросила: «А если уж хочет помахать хвостом, то в каком месте начинает?»
– На вопросы детей, – рассмеялся он, – редко можно найти ответ. Они все талмудисты и схоласты.
– Да нет! Они очаровательные создания! – воскликнула она в отчаянии.
Он задумался и шутливо ответил:
– Я по себе не чувствую этого.
– Почему по себе?
– Потому что у меня к тебе чувство как у ребенка к матери, однако я не отношу себя к очаровательным созданиям.
– О, ты страшное чудовище, – сказала она громко и одновременно задумалась. Действительно, в их отношениях есть что-то сыновнее и материнское. Но это объясняется очень просто. Каждая женщина относится к близкому ей мужчине с определенным оттенком материнской заботы. И тем более это должно проявляться в отношении к такому непрактичному мужчине, как Марьян, нуждающемуся в постоянной опеке.
Сейчас, когда приезжает Кароль с Литуней и когда ей нужно будет посвятить им много времени, ей с трудом удастся выкроить несколько минут, чтобы заняться его делами. К тому же и в «Мундусе» начинается сезон осенних экскурсий.
С каждым днем прибавлялось работы, а теперь, когда Минз стал контролировать почти все, что она делала, значительно больше внимания следовало уделять даже мелочам. Она и без того работала с врожденной добросовестностью и с той обязательностью, которая была у нее в крови, но сознание того, что какой-нибудь недосмотр даст повод Минзу прицепиться к ней, создавало определенную нервозность в работе.
Очень много возникало у нее проблем со служащими. В бюро не прекращались сплетни, интриги, взаимные оскорбления, вытекающие не столько, может, из зависти, сколько из самого факта постоянного пребывания вместе. Не раз ей приходилось уговаривать, мирить подчиненных или делать им замечания, выслушивать их доверительные горькие исповеди и жалобы. Спустя какое-то время она уже хорошо знала личную жизнь не только каждого работника своего отдела, но и всего «Мундуса». Тот дрался с женой и пришел поцарапанный; другой почти голодал, потому что купил в рассрочку участок в Песочном; у кого-то был жених, а она ходила по кинотеатрам с другим. И вообще в бюро каждый делал что-нибудь кому-нибудь назло: переворачивал вверх ногами картотеку, замазывал самые важные позиции в карточках, курил мерзкие папиросы или рассказывал несуществующие вещи о коллегах.
Атмосфера в бюро, как она заметила, зависела в основном от двух факторов: от погоды и от даты выплаты зарплаты. Чем дальше было от первого числа и чем хуже погода, тем более язвительной и наэлектризованной становилась атмосфера.
Все это, конечно, касалось Анны, так как не только отражалось на производительности труда, но и на ее собственном настроении. Она успела отметить, что туристический отдел лучше и энергичнее всего работает на протяжении нескольких дней после большого конфликта, когда все рассорятся, не разговаривают и только ждут, как бы поймать друг друга на ошибке, опоздании или неточности. Анна, однако, в такие дни чувствовала себя несчастной. Она не умела дышать в такой тяжелой атмосфере и старалась привести всех к какому бы то ни было согласию.
Анну любили настолько, что доходившие до нее сплетни о ее личных делах не носили слишком злой характер. Мужчины ухаживали за ней умеренно и с уважением. У женщин не было повода для ревности, так как она всегда старалась одеваться очень скромно и ни с одним из сотрудников не кокетничала. В бюро, естественно, было несколько пар, более или менее результативно заключивших союз, что, разумеется, никоим образом не удавалось спрятать от косых взглядов такого небольшого коллектива и составляло тему многих догадок. Эти пары были под особой опекой Анны. Это вызывало доброжелательность по отношению к ней со стороны пар, но зато среди одиночек у нее было несколько не то чтобы врагов, потому что это слишком сильное определение, но недоброжелателей.
Сама она не переносила двоих: панну Фукс, стареющую кислую истеричку, и пана Конткевича, галантного младенца с прыщеватым лицом, хвастающегося своими знакомствами среди аристократии. Сколько бы раз по каким-либо делам она ни проходила через бюро, всегда пользовалась случаем задержаться возле их столов и проверить, что они делают и как. Поскольку каждая такая остановка требовала оправдания, а не всегда находился соответствующий предлог, она делала им замечания и напоминания, причем в тоне, не допускающем возражений.
Однажды они пожаловались Минзу, и тот спросил ее, правда ли, что она травит Конткевича и панну Фукс. Разумеется, она возразила, но не могла им этого простить и добавила:
– Я постараюсь доказать пану директору, что не только не травлю их, но что до сего времени покрывала многие допущенные ими ошибки.
– Как это вы покрывали?
– Исправляла их сама.
– Весьма разумно, вы же отвечаете за результаты работы в своем отделе.
Анна почувствовала себя уязвленной.
– Я готова нести всю полноту ответственности, но при условии, если доверяю данному сотруднику. Так вот панне Фукс я абсолютно не доверяю. У нее куриная память, и она делает массу ошибок. Пан Конткевич пишет на работе письма, а в его картотеках господствует хаос.
– Об этом следовало мне сказать раньше, – скривился директор.
– Я надеялась навести порядок самостоятельно, но если мои напоминания сочтены за травлю, то не вижу смысла продолжать.
– Поэтому вы настаивает на увольнении Фукс и Конткевича?
Анна, не задумываясь, ответила:
– Да, пан директор.
– Хорошо… Хм… Вы смогли бы в ближайшие дни представить конкретные случаи?
– Как вам угодно.
На следующий день после состоявшегося разговора она все-таки задумалась: в сущности, это двое были не хуже других работников, у которых то или иное было не в порядке. Она медлила с представлением Минзу доводов в надежде, что он забудет и все останется по-прежнему. Однако Минз не забыл. При каждой возможности он возвращался к этой теме, домогаясь обещанных доводов. И хотя это раздражало Анну, хотя она усматривала в поведении Минза проявление злого характера, тем не менее она должна была сдержать слово, что не составляло особого труда. Несколько повторившихся один за другим случаев привели к неизбежному результату: накануне первого числа Конткевич и Фукс получили расчет.
Анна, которая должна была подписать листы на увольнение, с утра ходила как побитая. Ей казалось, что взгляды коллег выражают осуждение и неприязнь. Конткевич поклонился ей, как всегда, непринужденно и как бы с иронией, зато у Фукс весь день были заплаканные глаза, а около семи она пришла в бокс к Анне, и, прежде чем она начала говорить, у нее началась истерика.
Это уже вынести было невозможно. Анна дрожащими руками подавала ей воду, гладила по жестким обесцвеченным волосам, своим носовым платочком вытирала ее мокрое лицо, с которого слоями стекала краска. И наконец, она сама отвезла ее домой на такси.
Фукс жила в маленькой комнатке, снимаемой у какой-то небогатой семьи. Комнатка была обставлена претенциозно, украшена ситцевыми накрахмаленными оборками и коричневыми гипсовыми фигурками, представляющими разные мифологические ситуации. Абажуры ручной работы из искусственного шелка, деревянные чудовища из Закопане, немного нелепого фольклора, пледов и платков, коллекция разных «де сувенир» из дешевых мест отдыха, какая-то страшная акварель с беседкой и итальянскими тополями, несколько дешевых имитаций батиков, горы иллюстраций и в плюшевой рамке портрет толстощекого капитана с наглым выражением лица, с надутой грудью и бараньим взглядом. Об этом капитане, бывшем женихе панны Фукс, знал весь «Мундус»: он любил ее до сумасшествия и был стопроцентным мужчиной, но умер из-за болезни слепой кишки. Под портретом во флаконе из дешевого стекла стояли искусственные цветы.
Все это вместе производило такое угнетающее впечатление, что Анна с трудом сдерживала слезы. В довершение в комнате стоял запах гиацинтовых духов, а за стеной ревело радио.
Фукс всхлипывала и горевала все больше по поводу утраченной должности, жаловалась на свою судьбу, на жестокий мир и черствость близких. Анна успокаивала се, как умела, клялась, что сделает все, чтобы Минз отменил приказ, или, в конце концов, постарается найти для нее другую должность. Ситуация была невыносимой еще и потому, что Анна спешила к Дзевановскому, а сейчас никак нельзя было уйти, поскольку Фукс начала подробно рассказывать историю своей жизни, начиная от родителей. Мать была брошена вероломным отцом, гимназия, много спецшкол, много должностей, утраченных из-за сокращения и интриг, из-за отношений с богатыми и черствыми родственниками… Наконец, она достала свою метрику, чтобы доказать, что ей действительно только двадцать девять, а не сорок два, как говорят в бюро те, кто ни видом, ни свежестью не могут с ней сравниться. Анне, глядя на метрику, хотелось рассмеяться, видя разящую диспропорцию между датой в метрике и датой, беспощадно написанной временем на лице бедной Фукс.
Она снова вспомнила Владека Шермана, который однажды говорил о женской метрике:
– Это столь уважаемый документ, что иногда я готов поверить в его подлинность.
Расстались они самым теплым образом, как только Анна умела. И с того дня панна Фукс была признана ее сердечной подругой и по меньшей мере раз десять за день по поводу и без повода приходила в ее бокс. Что можно было поделать, пришлось терпеть.
С Конткевичем все обстояло хуже. Оказалось, что на протяжении нескольких месяцев он брал авансы, и в день увольнения ему уже получать было нечего. Острые глаза коллег скоро заметили, что он продал часы, портсигар и кольцо. Поговаривали, что его выселили из квартиры. Часто он приходил в бюро измятый, грязный, с красными глазами. Начал пить. Однажды он пришел такой пьяный, что заснул за столом. Как назло как раз в это время появился Минз. Разумеется, Конткевича тотчас же удалили, а на следующий день, когда он появился, чтобы забрать из ящиков свои мелочи, он прошел мимо Анны, даже не кивнув ей головой. Он был бледен, лицо сморщилось, и весь он как-то согнулся. Анна знала, что ему отказали в выдаче свидетельства, и неизвестно почему се стала преследовать мысль, что Конткевич покончит жизнь самоубийством.
Она не спала в ту ночь, а утром по дороге купила газету и проштудировала рубрики несчастных случаев, но упоминания о Конткевиче не нашла. Она долго не могла забыть о нем. К счастью, приезд Кароля и Литуни отвлек ее внимание от служебных дел. Много бы она дала за то, чтобы не терзаться угрызениями совести из-за этих двоих уволенных. Если бы она не была руководителем, если бы не входило в ее обязанности контролировать других, как бы это было хорошо. Этот Минз, наверное, еще в худшем положении. Ему нужно заботиться об интересах фирмы и эту задачу ставить на первое место, и в то же время он не может отказаться от человеческих чувств. Как помирить одно с другим, как дозировать критерий?.. Нельзя действовать во вред фирме, но и обижать людей – это ужасно, это не дает покоя…
Дзевановский, с которым она поделилась своими заботами и сомнениями, сказал:
– Есть такие, кто руководствуются только принципами и умеют применить их для каждого обстоятельства.
– Но их нельзя применять к живым людям! Все мы разные, каждый по-своему переживает, по-своему реагирует. То, что для одного может быть ничем, мелкой неприятностью, другого приведет к самоубийству. А кроме того, надо учитывать большую разницу в материальных условиях. Нельзя пользоваться принципами, шаблонами, если речь идет о жизни и смерти.
– Если жизнь и смерть, – задумчиво сказал Марьян, – так важны, как нам кажется.
– Как это нам? Ты полагаешь, что, скажем, Минз вообще не считается с этим? Нельзя преувеличивать. У каждого есть немного совести.
– Но совесть – это только манометр, установленный для данной шкалы давлений.
– Ты хочешь сказать этим, что она регулируется в соответствии с принципами?
– Что-то в этом смысле, – подтвердил Дзевановский. – Большинство людей пользуются принципами, как правдой, как догматами. Никогда не подвергают их сомнению, не изучают, не анализируют. И это составляет их силу.
– И живут вслепую?
– Этого нельзя сказать, так как они верят в свои догмы, так как подобрали к этой вере более или менее убедительное понимание, понимание для них самих, во всяком случае, достаточное. И это, повторяю, составляет их силу.
– Скорее, неполноценность.
– Может быть.
– Это же очевидно! – не выдержала она.
Марьян улыбнулся:
– Смотри! Уверенность, с какой ты классифицируешь релятивизм и догматизм, почти догматична. И как же эта уверенность будет выглядеть, если я тебя спрошу, какую меру ты используешь?
После этого разговора Анна в душе признала, что мир и его конструкция, человек и его дела, – вещи невероятно сложные, поражающие своей глобальностью и ответственностью за каждый сделанный шаг. В конце концов, она пришла к выводу, что лучше об этом не думать вообще. Впрочем, масса текущих актуальных дел помогла освободиться от этих забот.
Приехал Кароль с бонной и с Литуней. Девочка была немного простужена и кашляла. К счастью, у нее не было температуры. Выглядела совсем неплохо, немного подросла и поправилась. Зато Кароль похудел и как будто чуть постарел. Производил впечатление чужого человека.
Уже на вокзале он высказал предположение, что Литуня получит воспаление легких, что в гостинице будут клопы, что здешней кухней он испортит себе желудок и что все надежды на переезд в Варшаву окажутся пустой мечтой.
Вначале радость приезда Латуни переполняла Анну настолько, что она не обратила внимания на настроение Кароля. Со смехом она восприняла даже потерю чемодана, который долго нельзя было отыскать из-за нерасторопности Кароля.
Для себя она решила, что отыщет какой-нибудь способ, урвет полчаса, чтобы показать Литуню Марьяну. Пока об этом не было речи. Устройство Кароля в гостинице, обсуждение разных срочных дел и представление Литуни на Польной – все это заняло довольно много времени.
Пани Гражина внимательно присмотрелась к ребенку и сделала заключение, что она похожа на отца, а Куба крякнул и спросил:
– Так что у тебя слышно, малая?
Анна была разочарована таким приемом девочки, ее дочурки, которая, разумеется, не единственное чудо света, но безусловно самый очаровательный и наиболее развитый ребенок, которого она когда-нибудь встречала.
Вечером, оставшись наедине с мужем, Анна хладнокровно слушала его жалобы, мягко, но решительно избегала его ласк и готовила себя к длинному разговору, смыслом которого должно было быть: они должны расстаться, потому что она любит другого.
До разговора, однако, не дошло. В комнате было почти темно. Во второй рядом спала Литуня. Ее глубокое дыхание было ровным. Бонна ушла в кино, и они остались одни.
Если попытки ласк со стороны Кароля становились все более изобретательными, то способствовали этому не только обстоятельства, но и слабеющее сопротивление Анны: тело требовало своего, щепетильность уменьшалась и супружеская обязанность была исполнена.








