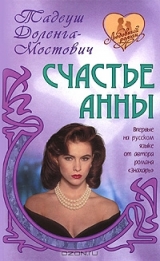
Текст книги "Счастье Анны"
Автор книги: Тадеуш Доленга-Мостович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Как-то, выходя из бюро, она встретила Владека Шермана. Они виделись редко, но очень симпатизировали друг другу, может именно потому, что были совершенно разные.
– Плохо выглядишь, – заявил Владек.
– Ты невежлив – сделала она вид оскорбленной.
– Я врач и охотно заглянул бы за бахрому твоих шелковистых ресниц. Так это говорится? Страдаешь малокровием. Видимо, много работаешь и много занимаешься любовью. Это два очень сильных наркотика. Извини, что неделикатен, но такова уж моя специальность. Тот твой Дзевановский тоже выглядит как с креста снятый.
Анна покраснела.
– Вот сейчас выглядишь совсем хорошо, – сказал по-деловому Владек. – Женщины даже не предполагают, что мнение о их стеснительности вызывают непослушные вазомоторные рефлексы, значительно более сильные у женщин, чем у мужчин. Как раз сегодня мы разговаривали об этом с твоим шурином…
– Со Щедронем?
– Да. Он довольно часто приходит в «Колхиду».
– Щедронь? – удивилась она.
Tempora mutantur . Я подозреваю, что он делает это для того болвана Рокощи, ты знаешь, того кретина, который спит под фиолетовым одеялом и является магом или священником этой стаи эзотерических олухов.
– Теозоф?!
– Да-да, что-то в этом роде. Антропософ, по мистеру Рудольфу Стейнеру. И как это вообще можно выдумать себе такую фамилию: Рокоща! Естественно, уже этой фамилии было бы достаточно Ванде, а если еще принять во внимание фиолетовое одеяло!..
– Ты хочешь этим сказать, что Ванда?..
– Спит под ним? Это никакой не секрет. У парня черная борода, и он весь обвешан амулетами, как чудесная икона. Разумеется, Щедронь опять стал на дыбы, потому что Ванда переворачивает весь дом вверх ногами: фиолетовые обои, фиолетовые занавески, фиолетовая туалетная бумага. Потому что не абсорбирующее пространство, видишь ли, убийственно для флюидов, и этот тип, этот гомо Рокоща, не может сидеть в квартире, в которой затрачивается апоцентрическое излучение личности или что-то в этом смысле. Это же очень просто, а бедолага Щедронь должен бегать в «Колхиду», чтобы пилить Рокощу доводами, что Ванда только гедонистка и на высоты духа Рудольфа Стейнера вознестись не сможет. Рокоща слушает, гладит свою черную бороду, выпивает сок из пяти апельсинов и в задумчивости уходит, не оплачивая счета. О Боже! Как же велик твой зверинец!
– Я ничего об этом не знала, – удивилась Анна. – Так Ванда сейчас занимается антропософией?
– Антропософом! Впрочем, для женщин это равнозначно. Разве тебе не рассказывал Дзевановский?
– Нет.
– Он один давит этого балбеса. Бородач аж сжимается, когда Дзевановский его допрашивает. Я думаю, не требуется тебе добавлять, что он, конечно, лучше знает Стейнера чем сам Рокоща.
– Где же проходят эти дискуссии, в «Колхиде»?
– Естественно, где же еще. Бедный Шавловский с ужасом смотрит на поражение законов тела. Калманович начал тренировать волю! А Ванда наконец перестала писать свои наивные евангелия сексуализма. Какая потеря для литературы! Реформа обычаев откладывается ad infinitum [7]7
На неопределенное время (лат.).
[Закрыть] . Это не слишком важная проблема относительно необходимости облагораживания личности и закаливания воли. Но если бы она, несчастная, хоть что-нибудь в этом понимала!..
Владек задержал руку прощающейся с ним Анны и сказал:
– Ты знаешь, что я не верю в интеллигентность женщин?
– Ну, для тебя это неново, – рассмеялась она вынужденно.
Новость о Марьяне затронула ее так больно, что она просто не могла думать ни о чем ином.
– Интеллигентность женщин, – продолжал Владек, – такая же, точно такая же, как и животных: абсолютная неспособность к синтезу. Ни одна не сумеет сделать выводы из большого числа предпосылок, самое большее из двух. Поэтому-то они и совершают такие ужасные поступки в общественной жизни, которая для них более сложна. Если они встречаются с каким-то явлением, начинают анализировать, разбирают на мелкие части, а дальше не знают, что с ними делать, потому что, когда предпосылок больше, чем две, – пиши пропало… Отсюда так часто они опираются только на две предпосылки, пренебрегая другими и доходя до абсурдных, наивных или просто смешных выводов. Щедронь утверждает, что Ванда…
– Извини, Владек, – перебила его Анна, – я очень спешу.
– Ах, да! – кивнул он головой с несколько иронической снисходительностью – Я надоедаю тебе. До свидания. Передавай привет от меня тетушке Гражине.
Вернувшись домой, она с трудом владела собой. Как встретиться с Марьяном? Так же сердечно, как всегда? Как он мог скрыть от нее, что бывает в этой мерзкой «Колхиде»! Лучше всего было бы осторожно спросить его, давно ли он был там. Таким образом его можно поймать на вранье. Но у Анны была врожденная неприязнь к вранью, и она сказала прямо:
– Я узнала, что ты бываешь в «Колхиде». Почему ты не говорил мне об этом?
Она надеялась, что этот упрек вызовет у него смущение. Однако Марьян спокойно ответил:
– Я знал, что тебе это не нравится, зачем же я буду доставлять тебе неприятности?
– Но самим посещением, однако, ты не доставил мне приятного.
– Если бы ты не узнала об этом… – начал он, но она прервала его с нескрываемой печалью:
– Скрыл от меня!
Тогда он начал объяснять, что несколько недель назад он зашел в «Колхиду» случайно: встретил Яна Камиля Печонтковского, и тот его затянул. А потом уж как-то так сложилось. Нельзя упрекать его в этом, и он надеется, что Анна его поймет. Ведь ему нужен хотя бы какой-нибудь контакт с людьми, с которыми он мог бы поделиться мыслями. Конечно, она не оценивает значения «Колхиды», хотя и говорит об этом лаконично, обходя мучительные для него доводы и пояснения. Там ведь все-таки интеллигентные люди. Им часто достаточно одного слова, фамилии. Там разговаривают точно кодом, им не нужно повторять известных вещей.
– Спасибо тебе, – печально произнесла Анна. – Ты дал мне понять, что я не могу заменить их тебе. Жаль, я не интеллигентна… – Она вспомнила недавние слова Владека: – Интеллигентность женщины не может быть достаточной. Женщины и животные не способны делать выводы из большого числа предпосылок, разве что только из двух… А я…
Марьян побледнел и схватил ее за руку.
– Анна! Как ты можешь! Ты мне не просто нужна, ты необходима!
Все закончилось пылкими клятвами, раскаянием и ласками. И хотя все это было, несомненно, искренне, однако впечатление нанесенной обиды осталось. Себя Анна не могла ни в чем упрекнуть, абсолютно ни в чем. Конечно, на отвлеченные темы они разговаривали друг с другом очень редко, но это объяснялось отсутствием времени. У них столько было что сказать друг другу о своей любви, столько сердечных замыслов! Им надо было посвятить время и обсуждению разных мелочей, составляющих их совместную жизнь. Имел ли Марьян право осуждать ее за неспособность удовлетворять его духовные потребности? Она просто существовала для него, ради него. Это был альтруизм чистейшей воды. Все, что касалось его, заполняло ее без остатка, а о себе, о своих заботах и неприятностях она даже не вспоминала, прятала все это в себе. Ей было тяжело, но было бы еще тяжелее, если бы к этим огорчениям добавилось его сочувствие, его беспомощное сочувствие.
Марьян был как ребенок. Зачем же она будет нарушать его покой своими неприятностями, которых последнее время становилось все больше. Наоборот, она ощущала какое-то болезненное удовлетворение от осознания, что скрывает их в себе. Это не было чувством превосходства над прекрасным детским эгоизмом Марьяна, но как бы уравновешивало их значение. А Владек отказывает ей в интеллигентности! И ведь таких женщин, как она, тысячи и сотни тысяч. И образованность их нередко значительно превышает образованность многих мужчин, считающихся сокровищницей мудрости.
А заботы Анны действительно росли.
Минз с каждым днем становился все требовательнее, нетерпеливее и резче. Стал вмешиваться в самые маловажные дела, и, хотя все коллеги утверждали, что даже со времен Комиткевича не было в отделе путешествий такого образцового порядка, он все-таки находил разные причины для недовольства. Он, казалось, не понимал, что в срочной и выполняемой так поспешно работе нельзя избежать определенных недочетов. Тогда она еще не догадывалась, что источником этих неприятностей была панна Стопиньская. Наоборот, Анна испытывала к Стопиньской все больше признания. Не симпатии – потому что холодная, строгая, официально услужливая панна Стопиньская не могла вызвать симпатии, и не только в Анне, но и ни в ком другом, – а именно признание. Коллеги, правда, рассказывали Анне, что панна Стопиньская заглядывает во время ее отсутствия в ее бокс и роется в папках, но оказалось, что благодаря такому любопытству она обнаружила ошибку, которая принесла бы фирме большие потери, поэтому Анна не могла сделать ей замечание.
Однажды – было это за неделю перед отъездом Анны в отпуск – в ее бокс пришел Таньский, заглядывавший сюда довольно часто. Они симпатизировали друг другу благодаря обоюдному добросердечию, а также дружбе, которая связывала Анну с его женой. Дом Таньских был, собственно, единственным домом, в котором время от времени она проводила вечера и встречалась с людьми. Это случалось нечасто, так как Марьян редко навещал своих родственников, а у Анны только тогда находилось несколько свободных часов. Она любила проводить эти часы в красивом доме Бубы, в атмосфере, может, даже сельской идиллии, идиллии их медовых месяцев. Они, правда, не целовались при Анне, но почти не сводили друг с друга восторженных глаз. Может быть, это было глупо, может, наивно, может, по-детски, но Анна чувствовала здесь прежде всего очарование сладкого счастья, а поскольку по натуре она была независтливой, то и радовалась этому счастью вместе с ними. Поэтому Таньский не скрывал своей доброжелательности по отношению к ней, и уже не раз случалось, что благодаря его помощи она избегала в «Мундусе» разных неприятностей.
В этот день он сказал:
– Дорогая пани Анна, мне не нравится эта Стопиньская, и я думаю, что вы одариваете ее излишним доверием.
– Но она хороший работник, пан Хенрик!
– Она умеет печатать?
– Да.
– Так вот я видел у Минза один документ… Проект реорганизации туристического отдела. К сожалению, Минз взял с меня слово, что я никому не расскажу о его содержании. Что касается авторства, то я думаю, оно принадлежит панне Стопиньской.
– Этот проект… нацелен в меня?
Таньский сделал неопределенное движение рукой:
– Не слишком ей доверяйте.
Ничего больше он не хотел говорить, но Анне было достаточно и этого, чтобы обратить внимание на панну Стопиньскую. Однако поведение панны Стопиньской, на взгляд Анны, никак не подтверждало опасения Таньского. Буба, к которой Анна отправилась в надежде добраться до сути дела, тоже ничего объяснить не могла. Она призналась, что Херник никогда не посвящает ее в свои дела или дела бюро, а тем более не вспоминает о каких-то интригах.
Перед уходом Анны в отпуск директор Минз объявил ей:
– Я присоединяюсь к вашему мнению и на время вашего отсутствия руководство отделом доверяю панне Стопиньской. Вам придется передать ей свои дела.
Возможно, Анна возразила бы Минзу, если бы у нее были какие-нибудь доказательства того, что эта мерзкая баба подкапывается под нее. Поскольку, однако, все оставалось в состоянии ничем не обоснованных подозрений, а вдобавок приготовления к отъезду полностью занимали внимание Анны, она в тот же день передала свои функции панне Стопиньской.
Сам отпуск Анны умножал ее хлопоты. Прежде всего она должна была поехать в Познань, по крайней мере, на неделю, чтобы нарадоваться на Литуню, а если это будет возможно, забрать ее с собой в Мазуты, имение под Люблином, где они собирались провести месяц вместе с Марьяном.
Тем временем в Познани сложилась невыносимая обстановка. Ее подозрения относительно нового образа жизни Кароля, вопреки ожиданиям, подтвердились.
Тесть встретил Анну упреками и претензиями:
– Это ты во всем виновата! – негодовал он – Оставила его здесь одного! Он здесь красиво живет. Я постоянно слышу, что проводит все ночи по барам и увеличивает долги. Но вы очень ошибаетесь, если вам кажется, что сможете оплатить свои долги с помощью наследства, которое я оставлю после себя. Я изменил завещание и дом записал на Литуню. Она получит его, когда достигнет совершеннолетия, а раньше – ни гроша.
– Но отец, – возразила Анна, – я ничего не имею против этого, а если я уехала и живу вдали от вас, то вовсе не для своего удовольствия. Я должна работать. Вы не забывайте, что я содержу и Кароля, и Литуню.
– Если бы не был совсем немощным, содрал бы шкуру с моего сыночка, дармоеда и гуляки!..
– Но я не могу содрать с него шкуру.
– А почему нет?! Должна! Ты обязана оказать на него какое-то влияние! Это же стыд и позор!
И Анна готовилась к оказанию соответствующего влияния. Готовилась с обеда до поздней ночи, когда наконец уснула, не дождавшись возвращения Кароля.
На следующий день он спал до полудня, зато начали поступать новости о нем. Они приходили из разных источнике, но смысл их был один, и Анне пришлось поверить им. Оказалось, что Кароль – любовник пани Патзеловой, богатой вдовы, которой уже за пятьдесят.
Это было так мерзко, что Анна в тот же день уехала бы с Литуней, если бы не простуда малышки. Правда, бонна уверяла, что ничего серьезного нет, что просто «где-то простыла и все», но худоба Литуни, бледность ее личика и необычная нервозность поразили Анну. В довершение всего она узнала, что доктора не вызывали вовсе, а когда она пошла к нему с девочкой, оказалось, что у Литуни серьезный бронхит.
Ребенка следовало сразу уложить в постель. Дежурство возле нее было для Анны счастливым предлогом, чтобы не встречаться с Каролем. Любая мысль о нем вызывала сейчас в ней безудержный гнев и презрение. Чем же он, собственно, был? Жалким ничтожеством, пользующимся плодами тяжелого труда собственной жены, и вдобавок содержанием старой женщины, бессовестным любовником, афиширующим публично свои отношения.
Когда он на цыпочках вошел в комнату Литуни, Анна закусила губу, чтобы не выставить его грубыми словами. Она решила молчать, не дать ему возможности для каких-то объяснений, для уверток и омерзительного вранья. Просто она ни о чем не хотела знать.
– Тише, – произнесла она, – ребенок спит.
– Приехала? – спросил он шепотом.
У него были синяки под глазами, а лицо отекшее.
– Да, – нетерпеливо ответила она.
Он приблизился к ней и наклонил голову, чтобы поцеловать в губы. С каким бы удовольствием она влепила ему затрещину!
– Перестань, – только сказала она и закрылась рукой.
– Так… так ты меня встречаешь, – вздохнул он, – ну, что ж…
– Выйди, ребенок спит, – поспешно прервала она.
– Очернили меня?
– Никто тебя не чернил. У Литуни температура. Оставь нас.
С минуту он стоял не двигаясь, потом махнул рукой и повернул к двери.
– Ты не можешь выйти сейчас и поговорить со мной? – спросил он, держа руку на ручке двери.
– Нет. Уходи.
Он вышел, но она все время слышала его неровные шаги в соседней комнате.
Нужно было принять последнее решение: завтра же утром пойти к какому-нибудь хорошему адвокату и предпринять шаги по оформлению развода. В течение нескольких месяцев вопрос будет решен. А она пока заберет Литуню в Варшаву. С Каролем она вовсе не собирается разговаривать. Пусть это сделает адвокат.
Ночь она снова провела возле Литуни. Тестю, который прислал через бонну просьбу, чтобы Анна сейчас навестила его, она решительно ответила, что не может оставить ребенка. Просто она почувствовала физическое отвращение при мысли, что там на лестнице ее караулит Кароль. Около полудня ей удалось выйти незамеченной в город. Визит к адвокату длился недолго. Возвращаясь, она встретила двух знакомых, которые, разумеется, постарались представить ей новые сведения о похождениях Кароля. При этом они наблюдали за ней с большим интересом. Как все-таки это гадко!
К счастью, температура у Литуни спала, и доктор сказал, что, соблюдая необходимые осторожности, ребенка можно забрать в Варшаву.
Ближайший поезд уходил через четыре часа, и Анна быстро начала упаковывать вещи Литуни. Она знала, что ее адвокат сейчас беседует с Каролем, и ей хотелось уехать из дому до того, как он вернется.
Однако она не успела. Кароль пришел хмурый и, уже не пытаясь поздороваться, тяжело опустился на софу.
– Я вижу, ты собираешь вещи Литуни, – сказал он, глядя в пол, – но, наверное, ты и не предполагаешь, что я могу не согласиться отдать ребенка.
Анна побледнела и старалась держать себя в руках, чтобы не взорваться.
– На развод я согласен, – продолжал он, – но ребенок останется со мной.
– Наверное… наверное, у тебя уже совсем нет совести? – спросила она прерывающимся голосом.
– Я люблю Литуню, – пожал он плечами.
– Ты лжешь! Лжешь!
– Не лгу. Кроме того, я убежден, что ты… простишь меня когда-нибудь и Литуня как раз склонит тебя к… возвращению и к тому, чтобы ты простила меня.
Если бы у него хватило смелости посмотреть сейчас ей в глаза! Он понял бы тогда, что такое презрение и такое отвращение не проходят.
– Ты нуждаешься в деньгах, которые я зарабатываю? – спросила она.
Он встал, а скорее, вскочил с места. Его лицо исказилось какой-то дикой гримасой. Казалось, он давится. Посиневшие губы с трудом хватали воздух. Анна никогда не видела его таким и почувствовала обычный физический страх. Однако он постепенно успокаивался, стоя с беспомощно опущенными руками и глотая слюну, как будто хотел что-то сказать, но не мог. Наконец, усмехнулся и вышел.
Спустя час служанка принесла письмо:
«Забери Литуню. Забрала себя, возьми и ее. Но знай, что даже грязный и несчастный человек может любить. Люблю тебя, и да простит тебя Бог».
Анна бессознательно снова и снова читала эти нелепые, отчаянные, лицемерные и мучительные слова. Она не могла найти отклика в своей душе, не понимала смысла их. Как мучительно не знать, что чувствуешь! Ее охватывали жалость и гнев, отвращение и сожаление, обида за себя и за ребенка, сочувствие к собственной судьбе.
«…Да простит тебя Бог», – глаза Анны задержались на этой бессовестной патетической фразе.
Его, как раз его должен простить Бог, его подлость и его бесстыдство!
Негодование возрастало. Она лихорадочно стала укладывать вещи. У нее не было сил, чтобы заставить себя поговорить с тестем. Наспех написала прощальное письмо, заплатила бонне задолженность и поехала с Литуней на вокзал.
Литуня вела себя спокойно. Видимо, понимала важность перемен, происходящих в ее жизни, хотя реагировала на них едва заметной улыбкой и часто прижималась к маме. Каждое прикосновение доверчивых ручонок Литуни наполняло Анну невысказанной радостью. С трудом она сдерживала слезы.
Это начинался новый период их жизни. Они сейчас одни, правда не совсем, потому что Литуня найдет в Марьяне лучшего отца, умнее и сердечнее. О! Анна была уверена в этом.
Сейчас они на один день задержаться в Варшаве и в Мазуты уже поедут втроем. Даже лучше, что ребенок в деревне проведет эти несколько недель сразу с Марьяном. Они должны привыкнуть и полюбить друг друга.
В Варшаве Анну встретило некоторое разочарование: Марьян уже уехал вечерним поездом или уже был в Мазутах.
День Анна провела в магазинах, покупая белье и платьица Литуне. Побывала она с Литуней и у детского врача, который обнаружил у девочки анемию и назначил специальное лечение. На следующее утро они поехали в Люблин, откуда еще несколько километров нужно было трястись в бричке по очень ухабистой дороге.
Мазуты – большое имение, в котором, как и во многих подобных, на лето сдавался дворец под пансионат. Старый парк, озеро, песок и сосновый лес создавали прекрасные условия для оздоровления. Комнаты дворца, полностью предоставленные отдыхающим, были светлые и с высокими потолками. Сама хозяйка, пани Будневич, перешла на летний период во флигель. Анна сразу с ней познакомилась. Маленькая худенькая женщина, с коротко подстриженными волосами, в короткой домотканой юбке и в сапогах, выглядела точно героиня повести Годзевичувны. Ей могло быть лет пятьдесят, а может быть, даже значительно больше. Трудно было это определить по ее быстрым движениям и громкой речи, так не соответствующим очень увядшей коже и худым цепким рукам.
– Я могу предоставить вам на выбор десять комнат, – предложила она Анне. – Отдыхающие пока только в двух, а кто успел, тот съел. Это ваша доченька?
– Да. Поздоровайся, Литуня.
Пани Будневич протянула руку и нехотя погладила ребенка по голове. Это был жест вынужденной вежливости, и Анна сразу отметила, что пани Будневич не любит детей. Вообще это, наверное, натура суровая и холодная, чему не следовало удивляться. Историю этой женщины Анна слышала еще в свои девичьи годы, так как семья Ельских и Чорштыньских, к которой принадлежала пани Будневич, пока не вышла замуж за Будневича, были связаны какими-то родственными узами. Панна Чорштыньская просто сбежала из дому с офицером российской лейб-гвардии Будневичем, что заставило родителей согласиться на брак. Однако спустя год после свадьбы она в одну из ночей выгнала его из дому, натравив собак. Сколько было в этом правды и почему так закончилось ее романтическое замужество, Анна уже не помнила. Она знала только, что с того времени пани Будневич сама управляет своим большим имением и делает это вроде бы образцово. Зато о ее единственном сыне ходили самые фантастические сплетни. Рассказывали о его авантюрной жизни, о каком-то нашумевшем шантаже и других делишках. Но, возможно, все это были домыслы, поскольку он «гастролировал» где-то за границей и в стране не показывался вообще, а мать не поддерживала с ним никаких связей и никогда о нем не вспоминала. Впрочем, ни за что нельзя поручиться.
Общество в имении, кроме Анны и Дзевановского, состояло из отставного генерала, надоедающего скучнейшими стихами, написанными еще во времена молодости, и толстого прелата Хомича, страдающего астмой. За столом сидели еще пани Будневич и се администратор, пан Мережко, молчаливый, хмурый старичок. Эту пару видели, правда, только за обедом и ужином.
В первые дни Анна почти не расставалась с Марьяном. Она рассказывала ему обо всем, что узнала в Познани о своем муже, а Марьян, как всегда, волновался и поэтому был еще нежнее по отношению к ней. С радостью он принял и ее решение о разводе. И Анна была бы сейчас совершенно счастлива, если бы не Литуня. Девочка явно сторонилась Марьяна. Каждый раз, когда, играя рядом, она замечала, как они прижимаются и нежно улыбаются друг другу, она переживала и была недовольна. Случилось даже, что она убежала куда-то в дальнюю аллею парка и пришлось искать ее, умоляя, чтобы она отозвалась.
Марьян много думал над поведением Литуни и даже подводил его под разные теории, но сам, или разочарованный, или огорченный неприязнью девочки, относился к ней довольно холодно. Правда, вначале он сделал несколько попыток сердечного обращения с Литуней, но это не меняло все более очевидного факта, что с течением времени они не только не сближались, а, наоборот, еще более отдалялись. Дошло до того, что Анне пришлось выбирать между обществом Марьяна и Литуни. Он в присутствии ребенка становился жестким и задумчивым; Литуня, всегда послушная и вежливая, в его присутствии становилась своенравной и непослушной.
Поэтому Марьян начал играть в шахматы с прелатом Хомичем и, хотя он раньше говорил, что сопение прелата действует ему на нервы, сейчас пришел к выводу, что это очень милый и интеллигентный человек.
– Я не терплю ксендзов, – говорил он. – Чаще всего это или фанатики, или лицемеры. У этого, однако, много ясной францисканской мудрости, и мне кажется, что католицизм в его понимании является действительно философией счастья.
Изредка и Анна прислушивалась к их долгим теологическим беседам. Но чаще все-таки она ходила с Литуней на песчаный берег озера в обществе генерала, с которым Литуня подружилась с первого дня приезда.
– Ничего удивительного, – с тенденциозным пристрастием говорил Марьян, – эти два создания находятся на приближенных уровнях развития.
Спустя две недели в Мазуты приехал новый отдыхающий, пан Костшева, инженер из Сосновца, дальний родственник администратора Мережки, высокий худой мужчина, довольно симпатичный, хотя постоянно раздражающий агрессивным тоном и прогорклой ядовитостью старого кавалера. Во всяком случае его присутствие значительно оживило Мазуты. За столом сейчас начались длинные и зачастую острые дискуссии. Обычно это происходило следующим образом: инженер Костшева после супа хладнокровным тоном объявил, что он заметил во время прогулки – что-нибудь общеизвестное и не выходящее за границы нормального и обыденного. Он делал паузу и вдруг выдвигал тезис, заключенный в красивом афоризме в виде цитаты из какого-нибудь авторитета. Все коварство этой зацепки основывалось на каверзно скрытом крючке, на мнимом или существующем парадоксе, на шутке, направленной на кого-нибудь из присутствующих или невинно провоцирующей всех. Если кто-нибудь неосмотрительно попадался на крючок и выражал сомнение в тезисе, о том, чтобы отказаться, он уже не мог и мечтать: пан Костшева бросался в бой, задиристый, неуступчивый, насмешливый и безжалостный.
Вскоре мазутское общество узнало, что «армейский институт является необходимым устьем для зоологических черт человеческой природы», что «клерикализм среди мужиков не означает религиозности, а является доказательством язычества», что «интеллектуальность и философия вообще самая остроумная система паразитизма», что «помещики, как общественный класс представляют собой экономический абсурд, а как каста – компрометирующий пережиток», что «работа на земле притупляет разум» и что «детей следует считать полуживотными и больше уделять внимания дрессировке, чем воспитанию». Всего этого пан Костшева, правда, не доказал, но цели своей добился: начались горячие споры.
Чаще всего, однако, он нападал на женщин. Анна не любила долго просиживать за столом и почти никогда не принимала участия в дискуссиях, тешась надеждой, что таким образом сократит их и получит возможность хотя бы часок поговорить с Марьяном, поскольку Литуня после еды должна была отдыхать в своей комнате на протяжении часа одна. Однако Марьян, занятый беседой, казалось, совершенно забывал об Анне, предпочитая вздор Костшевы, и, что больше всего раздражало Анну, все трактовал серьезно. Сам Костшева, встречаясь с Анной на прогулках, не раз смеялся над высказываемыми им самим мнениями, однако, оказываясь за столом, начинал все заново.
В один из дней он увидел крестьянку, которая белила хату к возвращению мужа, отбывающего срок в тюрьме за издевательство над женой. За обедом он рассказал об этом и после паузы добавил:
– Индивидуальность женщины находится не в ней самой, а вне ее.
Поскольку пани Будневич имела неосторожность заметить, что это в равной степени может касаться и мужчин, тут же разгорелась дискуссия. Костшева доказывал, что женщина – не полная личность. Мужчина живет для себя, имеет жену для себя, детей, дом, занятие – все для себя, а женщина без объекта, для которого бы она просто жила, не может существовать. Она всегда остается приложением, не видит и не понимает потребности своего существования, если не может его кому-нибудь или хотя бы чему-нибудь посвятить. Поэтому она не вполне человек.
Генерал уже стал соглашаться с таким мнением, когда пани Будневич запротестовала:
– Мой дорогой инженер, а кто это вчера доказывал, что все женщины – эгоистки?
– Я, точно я. Но не вижу, чтобы это находилось в логическом противоречии.
– Разумеется, – кивнула головой Будневич, – что бы ни говорили о женщине плохого, всегда будет правильно. Если она приличная барышня и сидит дома, то, значит, гусыня; если путешествует, самостоятельная и не боится общественного мнения, значит, авантюристка. Если зарабатывает на себя, значит, отнимает хлеб у мужчины, а если ничего не делает, то паразит. Одевается скромно, ходит в костел, не красится, не имеет любовника – нудная святоша; любит красиво одеваться, ходит на балы, флиртует – распущенная баба. Занимается искусством, учится – сноб и сенсатка; занимается домашним хозяйством – домашняя курица. Никого не любит – холодная кукла; любит – истеричка. Есть роман – куртизанка, а если нет, значит, никого не может заинтересовать. Муж любит сидеть дома – конечно же, потому, что жена бой-баба и держит его под каблуком; муж волочится по барам – потому что с такой нудной женщиной невозможно выдержать дома. Занимается общественной работой – значит, мегера; ничего не делает – женская лень. Белит к возвращению мужа хату – рабская душа; пальцем не шевельнет – мстительное создание, без сердца. Не так ли, пан инженер?
Все начали смеяться, включая хмурого пана Мережко. Костшева хотел что-то ответить, но, к радости Анны, не смог, вероятно, найти подходящего аргумента.
– Запутали вы его, уважаемая пани, – зычно смеялся генерал, – запутали окончательно. Что правда, то правда. Мы уж любим поговорить о женщинах и обвинять их тоже, но по существу без женщин хе… хе… хе… трудно и нудно было бы на свете.
– Ну, генералу это, пожалуй, уже без разницы, – едко обрубил Костшева.
На сей раз дискуссия, однако, была прервана, и Анна с облегчением встала из-за стола.
– Подожди меня у крыльца, – сказала она тихо Марьяну.
– Хорошо, дорогая.
Однако пока она заглянула к Литуне и вернулась, Марьян уже беседовал с прелатом. К ее неудовольствию, они еще разговаривали о какой-то женщине и ее муже.
– Вы решили продолжать эту тему? – спросила удивленно она.
– Почему бы и нет? – усмехнулся ксендз.
– Ну, потому, что мне кажется, что бы вы еще ни придумали, все это уместится в том, о чем справедливо говорила пани Будневич.
– Справедливо? Хм…
– Ксендз иного мнения?
– Я должен иметь другое мнение, дорогая пани.
– Разумеется. Ксендз – прелат и чувствует мужскую солидарность.
– Не поэтому, – покачал он головой, но видите ли, дорогая пани, я уже старый и не только по своему призванию или роду занятия должен был интересоваться проблемами людей. Здесь есть и просто личный интерес. Так то, о чем говорила пани Будневич, выглядит, несомненно, эффектно, но, по правде говоря, стоит задуматься, так ли уж не правы те мужчины, которые всегда найдут что покритиковать в женщине.
– Например?
– Да, женщина или сидит дома, или ездит; или порядочная, или нет; или работает, или нет. Все это делает и мужчина. Но, дорогая пани, весь секрет заключается в том, что мужчина не впадает в крайность, как женщина. Он сохраняет в своих пристрастиях, интересах всесторонность, умеренность, гармонию… А женщины…
Анна увидела приближающегося Костшеву и незаметно потянула Марьяна за рукав. Он понял сразу, и они быстро попрощались с прелатом, оставляя его на растерзание инженеру. Анна хотела поговорить с Марьяном по многим важным и относительно срочным вопросам. До конца ее отпуска осталось всего несколько дней, а следовало обсудить планы на будущее. Она говорила о своем разводе и о том, что лучше было бы пожениться еще до адвента, о совместной квартире и о том, что ему все-таки нужно постараться получить какую-нибудь должность.








