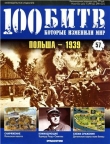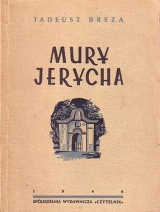
Текст книги "Стены Иерихона"
Автор книги: Тадеуш Бреза
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
– Мама прислала мне сегодня восхитительный кофейный торт, – начала она. – Я дала слово, что попробую его только вместе с гостями. И теперь, когда вы пришли, нетерпению моему настал конец.
Она покраснела, не оттого, что уже попробовала торт, а разозлившись на себя за свой салонный тон. Это, правда, выходило у нее как-то само собой, но она сердилась на себя за это, полагая, что смущает товарищей из организации. Какое мученье. То она их смущает, то сбивается на фамильярность.
– Туда, туда, – указывала она им дорогу. – Не ищите, я сама погашу.
Молодой полноватый блондин упорствовал. Наконец нашел выключатель, повернул его, огромное зеркало в передней засветилось огнем двух пятирожковых бра. Еще один поворот, и в углу зажглось нечто вроде паникадила, еще один поворот-и такое же в другом углу.
– Мариан, браво! – Приятель блондина изобразил на своем лице восторг. Лети-ка теперь на улицу и зажги фонарь.
Мариан извинялся и гасил. А приятель, только что похваставшийся своим чувством юмора, теперь выказал знакомство с социальной сатирой.
– Соображай-ка, как оно тут у господ, – поучал он. – У них в одной передней больше нащелкаешь, чем во всем своем доме! – произнес он с видом послушного мальчика, но это была лишь гримаса.
Он изображал из себя пролетария, дабы по сему случаю еще раз напомнить самому себе, что сам-то он шляхтич. Его всегда тянуло выкинуть подобную штуку в присутствии таких особ, как Кристина Медекша. Как он расписал бы у себя в организации весь ее княжеский род, коли бы хоть словечко она сказала о его фамилии. Он даже всячески намекал на это. Но она умолкала.
Если бы он мог отплатить ей прекрасным за полезное и держал язык за зубами, когда речь заходила о Медекшах! Он боролся с собой, сдерживал свои геральдические восторги, но давал понять, что кое-что знает. Кристина взаимностью ему не отвечала. У нее не укладывалось в голове, что можно что-нибудь знать о Говорках.
О нем самом, о Станиславе, – конечно же. Он идеально подходил к движению. Думал, писал, говорил хорошо, умел находить общий язык с людьми на местах, партийная рубаха сидела на нем как влитая. Был тверд, беспощаден, в работе его отличала сухая строгость, в которой Кристина усматривала знамение нового времени. Толпу хватать за сердце, но каждого человека в отдельности-за горло; создать партию героев, но привязывать к ней людей исключительно лично заинтересованных; верить, что существует лишь одна идея, которую исповедует как раз их организация, освободиться от всех остальных! Кристина догадывалась что Говорек чувствует это лучше всех из руководства движением. Он затоптал в себе больше прошлого, чем его было у него на самом деле. Он верил в себя, а кроме того, в то, что у Папары есть инстинкт, а значит, вместе с организацией тот, словно машинист, дойдет до цели, а тогда может даже и оставить дело, ибо Папара скорее знает, как попасть в нужное место, нежели то, как обжить его. И тогда возникнет потребность в государственном деятеле без ореола. Кроме себя он не знал никого подходящего. Принадлежащий к древней расе, но обладающий новой силой, он окажется способным в таком случае отдать должное традиции, тем более что отчасти она будет и традицией домашней. Не во всем старошляхетской, да, придет эра привилегированных, будет принесена дань историческим именам, но каста господ возродится из всего того, что найдется в народе полнокровного, твердого, себялюбивого, с инстинктом насилия.
Народ пассивен, когда нет правящего слоя, а правящий слойкогда нет хозяев. Такова была священная вера Говорека. Он обратил в нее Кристину. Все это попахивало ересью, но их движение, в котором организация ценилась выше доктрины, сквозь пальцы смотрело на изощренные изыски в сфере собственных догм, если с их помощью укреплялась чья-то связь с партией.
Так произошло и с Кристиной, которой Говорек объяснил наконец, что ее отталкивает от молодых людей ее круга и что притягивает к партии. Не только навыки, приобретенные в школьные годы, которые она провела в Италии, но, как он говорил-"молодость этой старой крови", анахронизм какой-то властности у представительницы расы, у которой кровь застоялась.
– Вы, – растолковывал он ей, – напоминаете юную деву из рода Тюдоров или Плантагенетов. Мужчины вашего круга, которые были бы для вас по-настоящему современны, вымерли несколько столетий тому назад. Псы выродились в комнатных собачонок. Вам бы полководца. Только наш переворот даст вам мужчину.
Кристина даже не смеялась. Это было слишком правдиво для шутки. Она целиком отдалась движению, самозабвению, поскольку не искала личной выгод ы. Теперь она перед нею замаячила.
Было что-то такое в словах Говорека. Движение привлекало ее к себе, словно бал. Более высокой, иной, более сильной и возбуждающей реальностью. Чем-то, что связано с приключением и само приключением оборачивается. Чем-то, что позволяет человеку вдохнуть воздух в своеобразные легкие, для которых повседневность – тьма.
Чатковского они застали за альбомом с фотокарточками.
Свободные места Кристина замазала белой тушью. Сверху и по бокам красовались виньетки, снизу подпись, фамилии, дата, порой какая-нибудь шутка. Вот, скажем, голый мужчина на пляже, в купальной шапочке, подле него несколько женщин, а стало быть, "родился в чепце". Виареджо! Стало быть, это еще Италия.
Какой год? 1928-й! Значит, Кристине 13! Отец ее уже сдается.
Выторговывает дни. Настроение у него улучшается, когда чтонибудь солидное удается продать, но хозяин, магазины, поставщики, все кредиторы набрасываются на него, чтобы вытянуть деньги, надо им срочно выставить счета, что кому дал, всеми правдами и неправдами выкраивая из общей суммы пятьсот лир себе на домашние расходы! И опять какая-нибудь продажа.
Набитый бумажник поднимает князя под облака, но снова со всех сторон тянутся руки, хорошее самочувствие исчезает, словно после кровотечения, а того, что у него остается, едва хватает на пристойный обед.
Чатковский этот период жизни Кристины знает по ее рассказам назубок. Сначала война, которую потом назвали "мировой", крохотную Кристину мать отсылает в Италию. Там-тишина.
Кристина растет. Разражается революция в России. Одним из первых бежит Штемлер. "Это не я боюсь, – объясняет он, – боятся мои деньги!" Побаивалась и госпожа Штемлер. Потом она боялась возвращаться в Польшу! "В Варшаву никогда не поздно!" – толковала она мужу. Но он тосковал, ей тоже чего-то недоставало, однако страх был сильнее. Она объясняла: "Я опасаюсь оказаться в своей стихии". Может, ее пугало, что она разочаруется или произойдут еще какие-нибудь перевороты. Она сдерживала себя, князь тоже тянул, и они почувствовали, что склонности у них одни и те же. Медекша уговаривал Штемлера, фамилией которого пользовался в переписке со своей прежней женой. Та звала его домой, многие, приехавшие с восточных окраин Польши, вывезли картины и мебель, вот теперь-то Медекша им бы и пригодился. Он ответил: "Воспользоваться случаем? Фу, это дурной стиль!" Но он не показался бы ему столь отвратительным, если бы ради такого дела не надо было расставаться с Флоренцией! За границей можно осесть раз, но уж коли сорвешься с места, то обратно не вернешься. Ну, если только как турист, проезжий, а стало быть, чужой! Лучше уж совсем не возвращаться. Он не мог оторваться от Италии, так как госпожа Штемлер не хотела этого, привязался к стране.
– Вы, князь, меня понимаете, – взволнованная тем, что нашла родственную душу, она сжимала его руки. – Какая для меня радость поговорить с кем-то своим. – Она понизила голос, словно кто-то мог их понять в этом итальянском ресторане! – Люди здесь чужие, – жаловалась она, – с вами, князь, так хорошо себя чувствуешь, ведь мы, – она и сама поразилась, что дело объясняется так просто, – соотечественники. – Она уже начала ему нравиться, и в тот миг он не подумал о том, что она еврейка.
– Гобино! – неожиданно сказал он, растроганный тем, что причины его симпатии столь просты. – Родство крови, я всегда говорил, что в этом что-то есть, а меня, беднягу, лишь высмеивали! – Сколько потом бьию разговоров о возвращении домой. – Нет, нет! – качал он головой, будучи уверен в правильности своего решения. – Там из каждой щели лезет нищета, нельзя нам к ним. – И без ложного стыда, полностью осознавая собственную деликатность, которая не позволяет садиться людям на шею и сваливаться им на голову, когда они еще не устроились, князь чувствовал себя правым: – На иную жертву меня не хватит, так что я приношу в жертву родине собственное любопытство. – Пребывание во Флоренции стократ окупало его, хотя и то правда, что происходящее в Польше князя немного интересовало. – А вы? приставал он с тем же к госпоже Штем.тер.
– Нет, не могу представить себе Польшу, – вскрикивала она, умолкала после каждого слова, чтобы дать разыграться своему воображению. – Нет, не могу! Я отлично знала Варшаву! – говорила она с подкупающей откровенностью, которая могла даже и удивить. – И теперь, подумать только, – лицо ее затряслось от счастья, которое было бы еще более искренним, если бы не опасение, что это преувеличение, – Варшава-столица!
Князь напомнил официанту о шампанском. Миг приближался.
Он про себя декламировал какой-то стишок Слоньского', одну строфу даже повторил вслух.
– Наши близкие, – вздохнул он, – нам не верят, а ведь что-то в нас тоскует по родине.
– Вы помните, князь, – спустя несколько дней говорила ему госпожа Штемлер, – нашу беседу о ностальгии, она накатилась на меня, меня тянет к своим. Я получила сегодня восхитительное письмо! – Манет Корн, сестра госпожи Штемлер, описывала прием, который она устроила для французской миссии. – К своим, в Польшу! – прикрыв глаза, шептала она сквозь сведенные болью губы, словно сердце ее выло с тоски.
– Pauvre petite [бедная малышка (франц.)], – растрогался Медекша, не зная, жалеет ли он этими словами родину, госпожу Штемлер или дочь, встававшую у него перед глазами всякий раз, когда он думал о возвращении, – ее смуглое лицо, голые руки, обожженные здешним солнцем, которое не отправится за ними в Польшу.
И он бледнел, представляя себе, как посветлеет ее кожа, пылко веруя, что обосноваться в Польше-значит обречь Кристину, словно растеньице, на жизнь без лучей солнца. На фотокарточках лучей этих было полно, за корзиной на пляже, в которой она сидела, они выстроили ромб густой тени, отбрасывали на море подле лодки с Кристиной косяки серебряных светлых колосьев, всей своей сверкающей силой били ребенку прямо в глаза, стягивая их в щелки. Князь рассматривал на Кристине покрывало из солнца, словно бедняк последнее, оставшееся от лучших времен платьице, которое начинает расползаться. Что ж!
Ничего не поделаешь! Когда он пил шампанское вместе с госпожой Штемлер за ее решенную уже поездку к своим-рой крошечных пузырьков стремительно рвался со дна, – князь почувствовал, что и его пребыванию в Италии приходит конец.
Но лишь спустя полгода проводил он госпожу Штемлер на вокзал. За это время в антикварной лавке дело дошло до распродажи обстановки. Какой-то англичанин снял с потолка огромную тяжелую венецианскую люстру, через несколько дней прямо из-под рук вытащили у Медекши письменный столик в стиле ампир, за которым он выписывал счета. У князя над магазином был маленький чердачок, где он складывал вещи, и, чтобы слышать оттуда, если кто входит в лавку, повесил на дверях колокольчик. Родословная у него была, верно, и несветская, но вместо звона-клекот, так что и самый захудалый костел постыдился бы его, в самый раз в горные пастбища для коров. Бывало, войдет человек и, услыша такой колокольчик, снова тронет дверь, как порой поступают с заикой, расспрашивая его еще и еще, дивясь подобного рода мычанию. Вскоре после письменного стола и люстры-а война уже кончилась, деньги ничего не стоили-кто-то, ничего не подыскав для себя в магазине, уже выходя, услышал колокольчик, заставил его позвонить раз, другой, третий, улыбнулся, словно попугаю, и купил. Это последний звонок, подумал князь. Делать нечего, надо собираться!
– Тебе будет очень жалко? – допытывался он у дочери.
– Нет, – отвечала она, – я ведь рада большевикам.
Медекша крикнул:
– Какое ребячество! – Наверное, думает, что граница, словно проволочная сетка, за которой их видно!
Вовсе нет. Кристина говорила вполне серьезно. Она хорошо помнила, как Муссолини двинулся на Рим. По крайней мере она будет на месте, когда придет время в Польше проучить коммунистов. Медекша понятия не имел, что творится с дочерью.
– Там страшная нищета, – говорил он.
А у нее все лицо преображалось. Не от жалости-от злости.
Само понятие убожества раздражало ее, как раздражает попрошайка. Сама идея болезни вызывала тошноту, словно запах карболки. Сама мысль о пролетариате бесила ее, словно перебранка с носильщиком из-за чаевых. Коммунизм она воображала себе как всеобщую разнузданность. Большевизм таким же, но только в лаптях и с бородой. Наорать на них! Смело. Не так, как отец, который развращает прислугу. Все закипало в ней от одного только воспоминания о том, как Паола однажды хлопнула дверью. А папа хоть бы хны. Наконец пришел Муссолини! Пусть она теперь только попробует выкинуть что-нибудь эдакое. Красная обезьяна.
– Рассматриваете это барахло, – сочувственно воскликнула Кристина.
Чатковский задумался.
– 1922 год! Сколько же вам было?
Говорек изобразил возмущение.
– Стыдитесь, коллега, на хитрость пускаетесь, чтобы узнать возраст женщины.
Кристине захотелось тут же похвалиться, что предрассудки чужды ей.
– Столько же, сколько и всем вам, – закричала она. – Чуть за двадцать. Мне, к примеру, двадцать три!
Мариан, во всем предельно точный, заметил, имея в виду себя:
– Нет! Мне двадцать пять!
Чатковский прищурился.
– Эх, – с грустью, как вспоминают давно ушедшее, протянул он. – Значит, вы уже другое поколение.
Мариан Дылонг это чувствовал. Разница состояла в том, что все, к чему движение стремилось, было ему впору, как собственная кожа. Говореку, Чатковскому, Кристине, каждому из них пришлось до движения дозревать. Чатковский сказал, что это свершилось, когда он преодолел в себе девятнадцатый век.
Говорек-когда понял, что до сих пор шельмовали средневековье. Кристина, когда осознала, что равенство-это абсурд, в особенности между женщинами и мужчинами. Дьшонгу не нужно было отказываться ни от каких предрассудков. Движение не обращало его в свою веру. Он в нем родился. От всякого интеллектуализма, по его понятиям, несло нафталином. Голосование на выборах в законодательные органы было для него то же, что для атеиста-церковный обряд. Если Чатковский любил создателя сердцем, словно дядюшку, яркого своей самобытностью, не оцененного по заслугам предшествующими поколениями, которого племянник только открывает для себя, а Говорек говорил о боге, как тончайший меломан о Монюшко, вполне отдавая себе отчет в том, что кого-то новый взгляд-дескать, это музыка высокого полета-может и удивить, то Дылонг верил просто, никому не назло, ему и в голову не приходило в этом оправдываться. Ни сам он не отличался пылкостью сердца, ни вера его особыми притязаниями. В нем ничего не было ни от атеиста, ни от неофита. В костел он ходил как ходят на прогулку.
Человек потом чувствует себя лучше. У него был молитвенник, который еще студентом, совершая паломничество, он купил в Ченстохове. Он казался Дылонгу куда интереснее школьного, к тому же влезал в карман, – вещь, нужная зрелому католику, как хороший портсигар для курильщика, который теперь курит открыто.
Дылонг был из деревни. В Варшаве торчал уже пять лет.
Долбил машиностроение. Учился так себе, средне. К движению присоединился от скуки. Не из честолюбия, скорее из экономии.
Партийная столовка-единственная, где не надо платить, а уж никак не скажешь, что она хуже кафе. Но мало-помалу движение затягивало его все глубже. Однажды спохватился, что говорит сам. Поначалу думал, что наткнулся на молчание, но вдруг понял, что это он его и вызвал. Чуть было не расхохотался. Сдержался, дабы не опозориться. Слушают, да как слушают! А его несло, и довольно складно. Он не знал, что скажет в следующий миг, и это ужасно смешило его. Когда-то пугал сестру-дескать, в лесу военные. Чего только не наплел ей! С тех пор давно так не смеялся. А тут снова накатывает. Если слушают, значит, он умный! Стал состязаться в речах. Результат был в его пользу. Он выдвинулся в число первых. Освоился с проблемами движения, выезжал на места, скучно не было, но вот только хотелось опять что-нибудь открыть в себе. Что, к примеру, умеет командовать.
Какой-нибудь армией, какими-нибудь добровольцами; смутно он это себе представлял: кем и зачем. Только одно-он и толпа и какое-то действие.
– Вся трудность в том, – воскликнул он, – что не дадут сказать людям все.
– А что ты хочешь сказать? – ничуть не сомневаясь, что ничего нового, спросил Говорек.
– Когда убедишься, что можешь говорить откровенно, – объяснял Дылонг, и думаешь по-другому. Это как с женщиной: когда знаешь, что она позволит тебе все, ведешь себя с ней совсем иначе. А сейчас, когда я выступаю, меня постоянно что-то связывает. И шпик в зале, и отношение к какой-нибудь группе, и наша программа, в которой раз одно, в другой-другое. Я, кстати, больше всего люблю призывать к переменам. Это отвечает моему характеру, голос у меня подходящий, представление о переломе меня возбуждает. А тут все об ином духе и об ином духе. Значит, рукам надо ждать. Да, так! Перемена, только не в мире, а в нас самих. Великая смута, но все в голове. Чистая комедия, а вернее, опера. Идти, но стоять, торопиться, а не двигаться с места. Ах, мне хотелось бы заговорить во весь голос.
Движение не дает мне роли!
– Ибо ее не дает движению польская жизнь. Движение молодо, распалилась Кристина.
Дылонг прервал ее:
– Вы движение не оправдывайте, от меня его защищать не надо. Я все о нем знаю и понимаю. И вообще все, что к нему относится, для меня ясно как солнце. Знаете, у отца под Люблином есть мельница. Я уже какой-никакой инженер. Я прекрасно вижу, вот как сейчас вас перед собой, что мельнице нужно. Как нужно сделать, чтобы вода по-иному била в колесо.
Какие камни нарезать и какие скорости отладить. Только взгляну-и тотчас же скажу: это должно быть по-другому, это и это!
А говорю я так, потому что она моя. В чужой мельнице человек прежде всего видит неисправности, в своей-саму возможность ее исправить. Понимаете?
Говорек посерьезнел.
– Понимаю! – признался он. – И понимаю, откуда вся эта болтовня, из-за твоей мельницы!
Дылонг что-то забормотал. Он не умел перескакивать с одного на другое. Правда, он научился тому, как наилучшим образом высмеять шутку. Вроде бы задуматься и переждать. На это время слово отобрал у него Чатковский.
– Между нами и им, – заговорил он и показал на Дылонга, – есть разница: мы движение создали, а их создает движение, без нас не было бы организации, но без нее не было бы их.
– Э-э, – возмутился Дылонг, – пустой разговор! Взять вас, тебя и организацию, так все едино, кто кого породил. Ты ли ее, она ли тебя-значения не имеет. В любом случае ты от нее зависишь, а без нее-ничто. Вытащить у тебя из души организацию-и ты станешь точно таким же бедолагой, как тот, которого она не породила. От того, что ты крестил ее, свободы у тебя немного.
Стоило только Дылонгу перевести дух, вмешался Говорек.
– Разумеется, – закричал он, – я вовсе не утверждаю, что мы более свободны или меньше нуждаемся в организации, я говорю лишь, что мы помним кое-что о том времени, когда мы в организации не состояли, когда у нас была возможность вступить в другую или создать нашу, но на иной манер. И мы, старшие, и вы, кто пришел после нас спустя пять лет, – все мы накрепко связаны с ней. Мы вот, однако, в состоянии представить себе, как это бывает, когда нет движения. Вы и вообразить себе такого не можете. Для нас оно только-только родилось, для вас-было всегда. У нас в голове не укладывается, что оно существует, у вас-что так недолго.
Чатковский закричал, и казалось, он не просто шутил:
– Ну так вон нас! Как этих пожилых господ, что пробудили Польшу, и точка. Еще разок хвостом взмахнули, совершили государственный переворот и поставили крепкую власть', да так намучились, что нет у них сил извлекать из нее выгоду. Победа в Польше всегда была на одно лицо. Вся энергия на это уходила. И всегда она не средство, а лишь цель. Поляк мудр в убытке, а глуп в победе. Над чужим ли, над своим ли, ради интересов соседних держав или во внутренней борьбе. Ягелло после Грюнвальда, Собеский после Вены, Август Сильный, когда он сбросил Сапегов, и Пилсудский после майского переворота.
И обратился к Дылонгу:
– Видишь, зачем нужна мстительность! Без нее врага не уничтожишь, даже если побьешь его. Победа-не Страшный суд, она-миг превосходства. Сигнал, что теперь можно давить. А если не видишь этого, если нет этого в крови!
Дылонг покраснел. Кинуться бы так на кого-нибудь, поверженного, валяющегося у ног, он бы доказал, что понимает! Самая худшая хворь в общественной жизни-мягкотелость. Они от этой хвори народ вылечат!
– Вот этого-то и не чувствуют эндеки2 [2Так в Польше называли членов партии "Народова демокрация" ("Народная демократия")-политического течения правого и националистического толка, сформировавшегося на рубеже XIX-XX вв.]. Для них Пилсудский был чересчур жесткий, для нас-пресный.
– А прежде всего слишком стар для отца, – заметил Чатковский. – Санация бьыа дочерью пожилых родителей.
Говорек рассмеялся.
– А разве у нее вообще была мать? Пилсудский зачал санацию с пустотой. Потому, как он говорил, что в государстве было слишком много произвола. Стало быть, наткнись он на справедливость, все было бы в порядке. Проблема правящей элиты та же, что и домашней прислуги. Лишь бы не крала. Повод есть. Верно. Слишком серьезный для смены кабинета, слишком легковесный для свержения власти.
Вмешалась Кристина:
– И Пилсудский утверждал это всерьез! Мой отец слышал об этом от князя-регента.
Дылонг опустил голову, боясь расхохотаться. Вспомнил глупенький стишок: "У регента зад в цементе". Когда Кристина впервые пришла на собрание кружка, собиравшегося на Праге, которое проводил Дылонг, тут же выскочила с этим княземрегентом Любомирским. А в зале на девяносто процентов пролетариат. Кто-то тогда и рявкнул в рифму, вроде бы себе под нос, но так, что услышали почти все. Когда все кончилось, из вежливости Дылонг извинился за эту выходку перед Кристиной, которая, впрочем, не обиделась.
– Я думала, что они такие слова произносят чаще, – ответила она спокойно.
– Пилсудский, пожалуй, – продолжал рассуждать Говорек, – своего рода Иоанн Креститель. Первый набросок, который вот так, для себя, сделала натура перед тем, как создать гениального пророка. Ибо санация была какой-то черновой доктриной, в которой угадывались очертания абсолютной и героической власти! Идея эта Пилсудскому не давала покоя. Мы дадим ей полный ход.
– Только его героизм был романтический, а в нашем движении героическим будет реализм. Героизм непогрешимости видения.
– Вот и литература! – буркнул Дылонг.
– Что поделаешь, – возразил Чатковский. – У верхушки должен быть свой жаргон. У церкви-латынь, у великой революции-лексикон энциклопедистов, у социалистов-словарь Маркса. Литургия необходима, а где молитвы-там и высокий стиль. Как же без торжественных слов. Ты и сам, как поговоришь с нами, выходишь окрепшим. Оттого, что узнал что-то новое? Может быть! Но главное-потому, что принял участие в литании, задирая голову к тайнам нашего движения, к которым обращены эти отвлеченные, возвышенные, праздничные слова.
Дылонг понял одно-что Чатковский смотрит на организацию будто со стороны.
– Знаешь, – печально сказал он, – ты не настоящий сын движения, ты как бы усыновленный им. Я считаю это цинизмом-когда отходишь в сторонку, чтобы посмотреть, как идея, которой ты предан, выглядит в профиль.
Прага-правобережная часть Варшавы.
– Это зрелость, – возразил Говорек. – В твоем возрасте положено любить вслепую. Все равно-движение или женщину. А вырастешь, станешь как я. Преданным, но способным взглянуть издали.
Дылонг закричал:
– Никогда! Я не хочу быть зрелым по отношению к нашему движению. Никто не должен становиться таким. Подобным образом встают над движением. Вот ты как раз так и возносишься. У всех у вас это. Больше понимания, чем веры. То есть больше доброй воли, чем сильной. Из-за этого у нас погибали все движения, ибо, не успев обратиться в веру, человек принимался мудрствовать. Относился к организации как к какому-то механизму. Развинчивал, трогал колесики, пружинки, все обнюхивал. А ведь организация для того и существует, чтобы ее не понимать.
Иначе ко всем чертям летят и субординация, и динамизм.
Чатковский замахал рукой.
– Молодые наизнанку выворачиваются ради организации, делают это из энтузиазма, старые из-за выгод, молодых гложет жажда приключений, старых-жажда власти. Так вот и держатся вместе. А ты словно пианино тащишь по лестнице. Все боишься, что те, кто выше, отпустят. Сам справляйся со своим страхом.
Страх не нужен. Он ослабляет.
– Это вовсе не так, – возразил Дылонг. – Только я не люблю, когда организацию судят. Мне это противно. Как остроты над фамилией Папары*. Насмешки, мелочное копанье, вольности, назидательный тон по отношению к организации, по-моему, неуместны. Это хорошо для политической партии. То есть для совокупности интересов какой-нибудь группы. Но движение не может быть адвокатом одного класса, это идея для всех и обо всем. Если смеешься над ней-значит смеешься надо всем. Нет у тебя ничего святого.
– Да ведь я углубляю свое отношение к движению, – горячился Чатковский, – когда осмысливаю то особенное, что выискиваю в нем.
Дылонг не уступал.
– Из ста подобных мыслей девяносто девять бывают ересью!
Всегда так, когда речь идет о вере.
– Вот тебе и на! – засмеялась Кристина. – Значит, не надо думать?
Он побагровел и проговорил с язвительной вежливостью:
– Вы вольны поступать, как вам угодно. Даже мыслью вы не нанесете организации ущерба, – А затем, обращаясь к Чатковскому и Говореку, добавил: – Для вас движение все еще только проект. Вы не в состоянии забыть, что знали его, когда оно только рождалось.
– Об этом ты уже говорил, – со скучающим видом кивнул Говорек. – И о том тоже, чтобы помочь ему стать совершеннолетним, ты зарезал бы его родителей.
Дылонг поморщился. Он был сыт такими издевками по горло.
Спросил нарочито серьезно:
– Скажи, положа руку на сердце, ты можешь подтвердить, что никогда не выходил из роли апостола?
Чатковский, к которому это относилось, не очень понимая, о чем речь, развел руками.
– Вот видишь! – Дылонг понизил голос, тихо торжествуя по поводу его молчания, и проговорил с чувством: – О том и речь!
Нотация эта Говорека не тронула. Не первый раз слышишь такое! Сам Папара как-то упрекал его в чем-то подобном. Его и других. За дилетантское, как он говорил, отношение к организации.
Никак не мог дождаться молодого пополнения. Слишком медленно, казалось ему, росли. С поколениями, говорил, как в животноводстве. В первом-половина нужных черт. В следующем-все сто процентов.
– Апостол, сразу уж и апостол! – неторопливо обдумывал эту проблему Чатковский. – Пока пророк не призвал его, голова апостола должна быть пуста. Новая доктрина захватывает его тем, что делает человеком мысли. Потому Христос и отыскал простолюдинов. Если говорить об их интеллекте, то христианство было для них первой любовью!
Будто жалеючи Чатковского, Говорек заметил:
– А ты, как голова, в скольких руках уже побывал!
Лучше не объясняться. Они же знают, что она у него вертлявая. Поворачивалась то к одной, то к другой партии. Так уж она устроена, чтобы без устали искать завершенности. И Чатковский теперь мог поклясться, что нашел. Раньше это были флирты! – сказал он, присягая на верность националистам. На самом же деле он присягал быть верным скорее себе, нежели им.
И ошибся! Папара обладал способностью приковывать любого из своих людей, было бы только время. Чатковский впервые втянулся всерьез, счастливо пережил этап, когда движение уже не было для него в новинку, но и не стало еще второй его натурой. Если не ушел тогда, то из страха перед Папарой. Во времена прежних расколов ничего подобного он не чувствовалвстречая кого-нибудь из бывших товарищей, всегда забивал их словами. Папара молчал. Не шел ни на какие разговоры. Одной фразой, нередко обрывком фразы наставлял, указывал, оценивал.
И с ним не поспоришь, как не поспоришь с фрагментами сочинений какого-нибудь древнего автора. Что-то было в нем такое, что еще при жизни приобрел он в глазах своих людей подобный авторитет.
– Знаете? – Кристина положила руку на рамку фотокарточки. Сильное, бледное, полное лицо, большие внимательные и
вместе с тем задумчивые глаза. Полотняная куртка. Рубахи не видно. Знаете, спит и видит себя председателем. Не понимаю! И какая ему от того честь?
Говорек взглянул на Кристину. Чересчур умна или чересчур глупа! Все в руководстве организации знали, почему Папара должен стать председателем. Хоть раз-то надо, в конце концов, родиться, если уж надо жить. Папара решил, что движение заявит о себе тем, что его основатель сделается председателем. Межуниверситетского союза научных кружков! То есть не о той молодежи идет речь, которая обжирается, а о той, что вкалывает.
Взять в свои руки этот союз-какие же тут открываются возможности! Папара оказывал на людей чертовски сильное влияние. Только бы стать председателем, а там он приберет к рукам кружок за кружком. И потом-реклама! Нет, не реклама.
Небо, расколотое молнией. Мало кто с ними не связанный принимал всерьез их движение. Может, один из двадцати. Еще одна национальная часовня! А тут вдруг окажется, что церковь.
Не одна тысяча верующих. Нежданный вождь молодого поколения.
– Тоже мне, – Кристина снисходительно взглядывалась в лицо Папары на фотографии, – студенческие почести!
Ах так! Говореку все стало ясно. Значит, с Дылонгом они ни о чем не говорили. Кристина играет в наивность, чтобы заставить Чатковского все ей растолковать. Кружной путь к Мариану. Ибо идти к нему напролом не получится, очень уж он подозрителен, не клюнет и замкнется. А так готов проглотить. Вслед за Кристиной! С той же самой ложечки. Так оно и есть! Чатковский принимается объяснять.
– Низы наши, – сказал он. – Деревни, поселки, пригороды кишмя кишат нашими сторонниками. Разгромить еврейскую лавочку, огреть в темноте старосту палкой по голове-тут рук у нас сколько хочешь. Но войтом) тебя не сделают, в магистрат не пустят, двери в сейм захлопнут перед твоим носом. На улице-ты у себя дома, отличное место для беспорядков, но коли не хочешь переворота, то дело дрянь, тупик. Папара не хочет переворота не потому, что майские трупы смердят еще до сих пор. Просто он все просчитал с карандашом в руках. Перевороты делаются только в городах. А разве города у нас польские? Надо помнить, что напорешься на евреев. Кое-какой опыт у нас уже есть. Сами знаете. Отчаяние евреев, когда мы выступим, нельзя недооценивать. Полиция? В лучшем случае удерет. Армия будет огрызаться, но начнет стрелять. Она похожа на порядочную женщину: не изменит, хотя и хочется. Сладить с армией может только толпа, а она в городах-совсем не наша. Так если не брать власть силой, чем же? Папара говорит-самим временем.