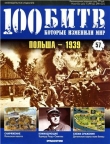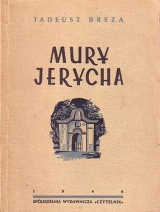
Текст книги "Стены Иерихона"
Автор книги: Тадеуш Бреза
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Темой были исторические достопримечательности. Лейтмотивони несут нам дыхание истории.
– Из того, что вы, князь, писали, – воскликнул он, – я заключил, что вы, кажется, за такую литературу.
Медекша живо отозвался:
– Но не за такое будущее. Его интересы расходятся с литературой. А верх всегда берет либо одно, либо другое. Берет верх и правит народом. А когда берет верх наш романтизм, это опасно. Ради своего величия романтизм готов еще раз сбросить нас в пропасть.
Черский, несколько раз подавлявший зевоту, теперь почувствовал, что в силах вмешаться.
– Ничего не поделаешь! – громко рассмеялся он. – В старое время властелином душ был романтизм. Словно правительство в государстве. Пилсудский влил в него силу. И теперь романтизм будет ослабевать, а сила нарастать. До тех пор, пока мы не превратимся в одну только силу.
Ельский добавил:
– Нечего бояться, что государство еще раз придет в упадок ради того, чтобы дать пищу вдохновению. Не придет в упадок, не зашатается, не дрогнет! Мы совершенно уверены, что выстоим.
Вооруженные, зрелые, бдительные. Вы, князь, поражаетесь смелости, с какой государство засунуло труп Понятовского в угол. Говорите: "Как-никак король". Но ведь король, который ушел из нашей истории по-английски. Изменник, слабак, наймит, источник поражения, причина мучений. Король, который перестал быть королем. У него с головы свалилась корона, когда сам он валился к ногам Екатерины Второй. Так что незачем и упоминать о его похоронах. Ручаюсь, – разошелся Ельский, – если бы он и сам сумел по-настоящему разобраться в том, что натворил, он отправился бы в могилу на цыпочках.
Коли у него есть убеждение, зачем же ему факты, князь поморщился, но промолчал. Ельский упоенно продолжал:
– Знаю, если бы разошлась весть о нашем сегодняшнем официальном мероприятии, поднялась бы страшная буря. Вавель, кричали бы. Варшавский собор, Лазенки! Может еще, на гроб крест независимости с мечами? Назло правительству. Из строптивой симпатии к осужденному. "~~
Ксендз ждал обещанного автомобиля из Бреста. Ему не сиделось в доме, и он отправился к костелу, но последние слова заставили его вздрогнуть.
– Я согласился похоронить, – прошептал он, – раз у вас, господа, есть согласие епископа. Но что нехорошо, то нехорошо.
Хоронить человека тайком. Ночью.
Все это тревожило его. Могло ли подобное дело быть чистым.
О таком никто никогда и слыхом не слыхивал! Как же тут пришлось поломать голову его превосходительству. А может, его обо всем и не информировали. Ходить во тьме к могилам, это же прямо язычество какое-то. Он почувствовал в Медекше родственную душу, потому обратился к нему:
– Раз уже не захотели его здесь принять по-христиански, зачем же вообще нужно было его привозить в Польшу.
Но князь не слушал, задумался, сморщился. Осужденный, думал он, вот самое верное слово. Судьба толкнула его на скамью подсудимых. Да! Но будем ли мы судить его? Кто же так высоко вознесся над историей, что почувствовал себя вправе карать?
Понял ли человек, который принял решение, что он сделал, нарушив исключительные права помазанника божьего, дарованные ему народом? Превратив королевскую особу в лицо малозначительное, дабы лишить права на публичные похороны. Кто же столь смело осудил ее?
И он взволнованно заговорил:
– Народ ничего не знает. Может, надо было этот гроб провезти по всей стране, – размышлял он вслух, – и послушать, будут ли люди эти останки проклинать или же склонят перед ними головы в знак почтения к былой королевской власти. И глас народа подсказал бы, как поступить.
Черский рассмеялся. Для него вся эта история именно потому не казалась серьезной, что в ней был замешан король. Этого достаточно, чтобы провалить все дело. Хохотал он от души.
– Возить его, – пожал он плечами, – может, ему еще и "дзяды" организовать. На перекрестках дорог вызывать его дух, и пусть сельский сход судит. Вот уж был бы настоящий театр.
– Чистая комедия! – возмущенный староста присоединился к Черскому.
Князь почувствовал себя задетым за живое.
– А наша роль здесь? – сердито спросил он. – Не из балагана ли? Все это, вместе взятое, напоминает мне скверную шалость. И не столько приговор, сколько небрежение. Не рановато ли, господа, вы демонстрируете свое презрение? Я бы побоялся.
– Но чего? – разволновался Ельский.
– С таким высокомерием, с такой жестокостью затолкнули этот гроб в захудаленький склеп, что я опасаюсь судьбы, не сыграет ли она шутки, не повернет ли против гордецов меч, который они подняли.
Ветер нагнал облака, закрыв луну. Шум деревьев глушил голоса. Приходского священника отыскал огромный, лохматый пес, видно он что-то у него клянчил. Идти в дом? Ельский смолк. Спор может еще разгореться! Отец Кристины так неосторожен. И все эти аллегории. И страх. Перед чем? Что погибнем?
– Хотел бы спросить, – старик чем-то притягивал его, – что это может быть за поворот? Повторение Станислава Августа?
– Да! – прошептал князь.
Ельский, который сам подал эту мысль, удивился ее подтверждению. Не поверил.
– Повторение, – проговорил он.
– Не в истории! – возразил князь. – В вас! Ошибки, вины, недостатки, которые вы у него находите и осуждаете, – только бы вам никогда не убедиться, что они вовсе не чужды власть имущим. Не видеть, как недалеко человеку до слабости, – это слишком большая гордыня, чтобы ею не заинтересовался бог!
На слова эти тотчас же откликнулся ксендз:
– Да не воссядешь на трон, нечаянно низвергающий, говорится в псалме.
– Это уже следствие, – мягко отказался Медекша от помощи приходского священника. – Я только призываю не смеяться над чужим падением.
Черскому шутка понравилась.
– Преувеличение, – воскликнул он, – преувеличение! Сильный смеяться может.
Ельский подытожил:
– И назвать труса трусом, посредственность посредственностью, короля, который погубил свой народ, изменником.
Князь опустил голову. Он разбирался в истории, не в реальной жизни. Коли они так уверены, подумал он, может, чей-то голос
Польский народный обряд поминовения умерших
говорит их устами! В конце концов, кому судьба вручает власть, тому она дает и свет. Черский, который больше молчал, не скрывал своего торжества.
– Ну, убедили мы вас, – посчитал он спор законченным, – руки у вас опустились. Видите, не удастся Понятовского подложить в Вавель.
Князь еще пробовал защищаться.
– Не королям нужна наша рука, – сказал он. – Им туда дорога, там они у себя. Если бы речь шла о помощи, я бы и сам отказал в ней. Но не мешал бы. Пусть берет, что ему положено по праву. Большая, однако, смелость-осуждать кого-то за то, что он заблудился, в то время как мы опять едва-едва отыскиваем дорогу.
Ельский выпрямился, настала пора взглянуть на вещи шире, указать, как это все секретно и что горизонт определяется с того места, куда поставила жизнь.
– А вот есть люди, которые видят достаточно далеко. Чем пристальнее они всматриваются, тем фигура Понятовского представляется им чернее. Для Пилсудского это была очень черная фигура. Может, это он, зная, что скоро умрет, что его ждет Вавель, не хотел, чтобы рядом был Станислав Август. Мог, по-вашему, Пилсудский принять такое решение?
Князь только что не перекрестился.
– Так он его оттолкнул, – закричал Медекша, а затем горячо зашептал: Смилуйся, господи, над его душой! – словно бы вспомнив, что покойники могут пугать.
Пес запрыгал, затем принялся лаять, понесся куда-то, не слушая окриков. Староста заключил:
– Приехали.
Ксендз поспешил навстречу.
– Ах, это вы! Господа из города еще не все собрались, – объяснил он.
Какой-то человек, по всей вероятности здешний, очень высокий, в отороченной барашком куртке, шел сюда, защищаясь от лап переставшего лаять пса. Теперь и староста узнал его.
– Ну что еще опять! Отправляйтесь восвояси, – закричал он, – я вас не звал. – А потом жалобным тоном ксендзу: – Вы же хорошо знаете, что я никому тут не разрешил быть, а вы сюда солтыса привели!
Солтыс, пока причитал староста, стоял не двигаясь, а когда тот кончил, помедлил секунду и зашагал вперед. Подошел к господам.
– Сач, так это вы! – удивленно воскликнул князь.
И только тогда солтыс стянул с головы шапку, поклонился, пожал руку Медекше.
– Приходский священник сказал мне, что я увижу здесь князя, удовлетворенно объявил он. – И вот я его вижу в добром здравии, – заключил он. Голос у него был резковатый, бесцветный, выговор выдавал уроженца восточных окраин Польши.
– Что ты можешь видеть, – рассмеялся Медекша. – Темно! – И разом перешел на серьезный тон. – Вы, Сач, уже давно не у графини? – спросил он.
Но солтыс вступился за свой комплимент.
– Вижу, значит, что во вздравии, вы ведь, господин князь, прямо держитесь. – А потом уж о себе, тоном, который слегка укорял Медекшу за забывчивость, поправил его: – Я у госпожи графини не служу после нашей войны с русскими. Теперь своими сетями живу!
Но князь помнил его довольно хорошо. Не раз толковал с ним у своей кузины, где Сач надзирал за прудами-с малых лет он знал толк в рыбной ловле, сам из семьи потомственных рыбаков.
Медекша пояснил Ельскому:
– У них тут деревня вот уже сто семьдесят лет на королевской привилегии.
Пока Сач беседовал с Медекшей, староста ждал, теперь же, воспользовавшись тем, что Сач в разговоре был отодвинут на второй план, снова накинулся на него.
– Солтысу тут делать нечего, – скомандовал он. – Идите-ка домой спать!
Мужик отыскал глазами приходского священника.
– Простите, господин староста, – вежливо проговорил он, но уходить не торопился. – Я здесь не как солтыс...
– Мне все равно, – оборвал его староста. – Здесь имеют право находиться господа из Варшавы, а кроме них, я и ксендз. Из деревни – никто!
– ...но тоже по службе, – вернулся к своему Сач.
Старосту это глупое упорство вывело из себя.
– Я вам ясно сказал, что мне тут солтыс не нужен. Ведь, кажется, по-польски говорю, а?
Сач весь съежился, словно во время грозы, но не ушел.
– Я тоже здесь по делу, – попытался он объяснить свое иными словами, от костельного комитета.
Ксендз до сих пор не вмешивался, уверенный, что все тут же разъяснится. Теперь он прекратил спор:
– Господин Сач-председатель комитета. В его обязанности входит надзор за всеми работами в костеле.
Затем коротко напомнил, какие права у комитета, но староста главным образом вслушивался в то, что внушал ему зазвучавший в его памяти голос воеводы. Распоряжение было такое: никаких посторонних лиц, а вместе с тем-никаких скандалов! Черт бы его побрал!
– Пусть остается, – решил он, пожимая плечами, вот ведь никак не могут двух слов связать, когда разговаривают с представителем власти, и с нескрываемым презрением добавил: – Так сразу бы и говорили. Откуда мне знать, кто там у вас в каком комитете!
– Сто семьдесят лет. Ну и ну! – удивляясь на все лады, отозвался, как только умолк староста, Ельский. Оценят ли такт, спросил он сам себя, с которым он предлагает позабыть о вспыхнувшей стычке, молниеносно возвращая разговор к прежней теме? А вслух спросил Медекшу: – Правда, что они пользуются столь древней привилегией?
Князь рассмеялся. Вот эпоха, для которой все, что старше ста лет, уже древность.
– Она распространяется даже на лов допотопных видов! – трудно было Медекше удержаться от этой шутки. Потом он подавил в себе желание весело с ьязвить и подтвердил серьезно: – Пользуются! Пользуются! С тех пор они постоянно извлекают из нее выгоды, а она поддерживает в них жизнь, словно акведук, приносящий воду из дальних мест.
Ельский закутал шею. Ветер пригнал откуда-то слабенький дождичек, покапало немного. Этого еще не хватало!
– Дождь! – возмутились одновременно Черский и староста.
Но дождь этим и ограничился. Тем не менее никому больше
уже не хотелось оставаться под открытым небом. Все подумали о
душном доме приходского священника.
– Ждем? – спросил ксендз старосту.
– Я бы отбарабанил без них, – заявил Черский. – Приедутподпишут, а нет-так нет! Там явно чю-то стряслось.
Вмешался Сач:
– Эти господа из Бреста едут на телеге. Такси у них испортилось. Ведь присылали же к ксендзу с почты мальчонку?
Черский продолжил свою мысль:
– Мы тут до костей промерзнем, пока до чего-нибудь достоимся.
– Может, ко мне, чайку попьем, – пригласил ксендз. – Лето, а ночь прямо осенняя!
Пес тявкнул раз-другой, потом помчался к костелу и залился лаем.
– Все еще какие-то люди там крутятся! – раздраженным тоном сделал староста открытие.
– Сторож костельный и еще каменщики, – объяснил ксендз, – но они в склепе.
– Давайте замуровывать, и точка! – потерял терпение Черский.
Он не замерз, но устал стоять. Устал и от места, которое бьшо ему не по вкусу. Между кладбищем и костелом! Хорошо оно для какой-нибудь романтической истории, да и на войне тоже неплохо. Если в караул или в разведку. Черский нахмурился. Да! Была одна такая, даже очень похожая на эту ночь. За Кольцами, в самом начале войны. Такая же вот с~гна у костела, как здесь.
Сигарета за сигаретой, разговоры. О будущем, о Пилсудском. И о разного рода венско-польских политиках, которых Ольгерд так ненавидел. Ольгерд, Ольгерд, боже! Вся эта история с ним, но это уже гораздо позже, какое жуткое потрясение. А поскольку Ольгерд был другом, вспоминая об этом, трудно не вспомнить, каким же непримиримым врагом он стал потом. И хотя его нет, все равно он постоянно тот же-враг спокойствия. .
– Я иду! – Черский больше не колебался, но ему хотелось теперь, чтобы с ним кто-то был. Он обратился к Ельскому: – Пойдемте со мной.
Пес оперся лапами о стену. Облаивал дорогу.
– Там наверняка люди, – крикнул староста. Вбил себе в голову, что кто-то в деревне следит за ними. А может, из окрестных усадеб или, того хуже, подкрался какой-нибудь журналист из города?
Медекша пошутил:
– Правда, что здесь есть привидения? – простодушно спросил он ксендза.
Сач, который прислушивался не едет ли кто на дороге, объявил:
– Телега!
– Может, они!
– Из Бреста? – полюбопытствовал староста.
Пес так разлаялся, что ответа расслышать было невозможно.
– Черт возьми, да уберите же наконец эту проклятую собаку! – не выдержал староста. – Освященное место, а она тут носится.
Сач пробурчал себе под нос:
– А сам на нем стоит и ругается. – И громко объяснил: -Пес этот ксендза.
Значит, как бы на христианских правах. Эх вы, люди! – подумал староста, но промолчал. Поднялся на цыпочки. Вглядывался в темноту. Забренчала телега по булыжнику. Миновала дом ксендза.
– Когда тут была война, эта, самая последняя-ни с того, ни с сего начал Сач, посчитав, что слишком мало было сказано о старой привилегии на рыбную ловлю, – приехал из города один, самый большой начальник, отобрал у нашей деревни разрешение на ловлю, дал разрешение ловить всем. Но местные ни ногой сюда, даже раков не ловили. Почитали старый закон, ибо его издал король.
– А усадьбу-то вы ходили грабить, – язвительно заметил староста. – Есть тут имение, – обратился он к Ельскому, – владеет им со времен потопа одно семейство, – наверное, это услышанное им когда-то выражение понравилось ему. – И что же, почему же крестьяне не проявили уважения к нему, а только к вашим рыбам, господин Сач?
Солтыс ответил с достоинством:
– Ибо привилегия на рыболовство дана не господам, а людям.
Честь в том, что крестьянам дал ее король. Эту честь и уважили.
Черский все меньше понимал, что происходит вокруг. Нервы у него расшалились. Он все время вмешивался в разговор, как только сталкивался с чем-то непонятным. Даже если речь шла о предметах, ему безразличных. Лишь бы какая-никакая, но ясность.
– Вас, – спросил он, – Сач зовут? А у меня работает Юлиан Сач. Он кто, ваш родственник?
– Это сын, – объяснил старик и выжидательно посмотрел на полковника.
Но, попав в голову Черскому, такая подробность тотчас же и затерялась в ней. Проклятые похороны! Не могло разве вообще все это пройти иначе? Интереснее? Староста, видя, что Черский оставил тему, которой едва коснулся, решил снова вернуться к ней, дабы показать свою осведомленность в том, что делается у того в доме.
– Очень способный! – сказал он, склонив голову к плечу, будто впервые это понял и крайне удивлен. – К женщинам его не тянет, в рюмку не заглядывает, в карты не режется. Далеко может пойти!
Сач пробормотал что-то невнятное в благодарность и низко поклонился. Староста, которому казалось, что он затронул вопрос, касающийся только Черского, к собственному неудовольствию убедился, что интересует он прежде всего старого Сача.
– Не за что вам меня благодарить, – резко ответил он и как-то невпопад закончил: – Поблагодарите господина полковника за то, что он его держит.
Черский, услыхав свою фамилию, даже не шевельнулся.
Крохотное красное пятньинко от сигареты освещало его лицо. Он морщился, дым ел глаза, губам все труднее становилось удерживать окурок, на котором должны были еще разместиться и пальцы. Наконец он бросил сигарету. На малюсенький огонек упала капля. Он зашипел и погас. Влажно! – подумал Черский.
Где те времена, когда он ложился на такую землю и спал. Тогда, пожалуй, так не мерз. Только наверняка тогда и проникли в него и этот холод, и усталость, и этот голод, о которых сегодня и думать не хочется. Черский вздохнул. Чудесные дни! Но кому хочется возвращаться в те, пусть даже героические минуты. Не ему! Кому-нибудь из давних его товарищей! Если родина платит, чего еще желать. Погрузиться в негу, в лесть, в тепло безопасности. Конечно, и сегодня геройство-дело хорошее, вот если бы только не так холодно. Смелость смелостью, но за нее ведь приходится расплачиваться физической немощью. Он отогнал эти мысли.
– Нечего ждать. Я возвращаюсь, – сказал Черский.
Ксендз за ним. Тогда он остановился, посмотрел, кто еще идет, ну что ему приходский священник, которого он едва знал.
Ему хотелось бы кого-нибудь, с кем разговор вышел бы поинтереснее.
– Господин Ельский, – позвал он.
Тем временем двери в костел отворились. Водянистой полоской полился из них свет.
– Еще один! – сердито констатировал староста. И тут же успокоился, разглядев, что это костельный сторож.
– Что там? – отрывисто спросил ксендз.
– Каменщики спрашивают: можно начинать?
Ксендз, не зная, что ответить, повернулся к остальным.
– Ну как, господа, решаете?
– Потерпите, – попросил староста. – Минуточку терпения. – Но у него самого терпение было на исходе. И когда Сач предложил выслать навстречу господам из Бреста "такси", староста набросился на него.
– Запомните раз и навсегда, – взъерепенился он, – я на такси не езжу. Такси стоят перед вокзалом, любой может сесть, поехать и заплатить. А то, что есть у меня, называется автомобилем.
– Значит, не даст! – так понял гнев старосты ксендз.
– Снегожецкий! – крикнул он. – Отнесите им по рюмочке.
Стало быть, опять им тут торчать! Черскому стало скучно. Ну и влип! Да и вообще, что с ним происходит? Всегда держал людей в кулаке. А сегодня ночью, неведомо отчего, не может им навязать своей воли. Этот ветер, эта собака, этот холод, бог знает что! – вздохнул он. Кладбище, костел, тьма. Не в его вкусе природа. А тут еще разные шорохи стали громче. Он нашел на колокольне веревку, напрягся и стал ею размахивать. И хоть бы от этого беспокойства в воздухе тишина казалась бы приятнее!
Куда там. Хуже всего эти таинственные, молчаливые полеты ночных мышей. Разумеется, размышлял Черский, ночью без них не обходится ни один костел. В тусклом свете, сочившемся из открытых дверей, Черский разглядел лицо князя. По крайней мере он-то не поддался общему настроению. Держится, улыбается. Оставлю-ка я этого Ельского, подумал он. Ведь даже не отозвался. Замерз, что ли? Возьму Медекшу. Тот как раз заговорил:
– Точность-это вежливость королей. Но что-то Станислав Август не торопится выказать нам свою вежливость.
Теперь удивился старый Сач. Ксендз сказал ему только, что есть распоряжение заново замуровать могилы Чарторыйских.
Каждый в деревне знал, что Чарторыйские лежат под костелом.
Правильно ли он понял, что теперь будет покоиться там и король?
Сначала он спросил:
– Так князь приехал не из-за семьи Чарторыйских?
Медекша ответил:
– Нет! Но из этой семьи был король.
Сач почувствовал, как горячая волна накатывается ему на сердце. Все стало проясняться. Он подскочил к Медекше.
– Король Понятовский? – просил он подтвердить правду, о которой уже догадался. – Это его гроб?
Ксендз не успел предотвратить неминуемое. Какая глупость была верить, что дело не вскроется, укорил он себя в душе. А князь Сачу:
– Ну да! – И подозрительным тоном: – Вы что, этого не знаете?
– Только бога ради! – принялся заклинать ксендч, Крестьянин посмотрел на костел. Снял шапку. Провел рукой по лбу, пригладив вихры на правую сторону. Уже совсем стемнело. Черную тишину вокруг прорывали то какой-нибудь огонек, то чей-то голос. Из растворенных дверей полился свет, но слабенький, и приятнее было в тьму смотреть, чем на него. Сач мысленно переступил порог, по ступеням спустился в подземелье.
Ниши занимали там-одну подле другой-князья, засунутые, словно хлеба в печь, ногами к центру склепа, эдакая роза ветров, так девушки на заморских пляжах забавы ради укладываются венком. Здесь покойники пальцами ног упирались в стену, поддерживая плиту и надпись, все сплошь громкие фамилии.
Плиты тянулись рядами, одна над другой. Черные, но попадались и белые, словно на огромной шахматной доске, некоторые побить!; те, что у самой земли, напоминали стволы деревьев у дороги, серые от грязи. Две плиты были сняты, и останкам из обеих ниш теперь предстояло покоиться вместе, а в освобожденной-королю. Пока что он дожидался в костеле. В гробу из стального листа, блестящем, новом, схваченном несколькими обручами или металлическими ремнями. Что ему положили у ног?
– А этот маленький ящичек тоже гроб? – поинтересовался Сач.
И покраснел. Ну что плетет? Какой же это гроб, когда это ведь не гроб! Его занимало только одно, для останков ли это. И чьих. Может, какого ребенка, но разве такие крохотные бывают.
Не дай господи, для попугая или кота.
– Тоже, – ответил князь. – Король предназначил его для своего сердца.
Зачем он так сказал? Во время бальзамирования вынимают внутренности и сердце. Вот для того и ящичек. Но князь все еще не отошел от своих забот. Так хоронить короля. С таким равнодушием. Может, он растрогает Сача этим сердцем. Но что-то не похоже. Мужик насупился, разозлился, стиснул зубы.
– А этот дорожный гроб, – бормотал он, думая о металлических обручах, откуда он у него? От русских!
Медекша не знал.
– Пожалуй, – задумался он. – Хоронят его так, как привезли.
Сач отвернулся и сказал тихо то, чего уже не мог в себе удержать:
– Зачем его надо было везти!
Князь, толком не поняв его, закричал:
– И ты против него?
Он не обратил внимания на руку, которая в темноте сжала его ладонь.
– Человек из его деревни! – горько удивился он.
Здесь родился будущий король Об отце его, которому достался Волочин, приданое жены, из истории известно, что был хорошим господином. Если сын-никудышный король, то сюда он пришел сложить свои кости как сын не самого дурного помещика. И все равно плохо!
– Я не против! – изменившимся голосом заговорил Сач. – Я не о том. Разве же мы не знаем, что это был за король. Наш он был. Деревня знает его. Деревня встретила бы его триумфальной аркой, какой никакому епископу не поставила бы. Я теперь понимаю, что сегодня ночью тут затеяли. Мусор сторож со двора по ночам выносит, когда все спят, но не такую особу. Ведь никто из простых людей не должен его ночью видеть. Один только я. Я политик. И что после таких похорон будет, я тоже знаю. Но не выйдет этого, пусть правительство хоть из кожи вон вьиезет.
Князь перестал его понимать. Мужик был явно взбешен. О чем это он?
– А чего тут может хотеть правительство? – допрашивал Медекша.
Сач вылупил на него глаза. Как чего?
– Рыб! – прошептал он, напирая на это слово.
– Рыб, – повторил за ним князь.
– Ну да, наших рыб. – Мужик не собирался ни жаловаться, воспользовавшись случаем, ни осуждать кого-нибудь, он хотел только предостеречь, что отлично понял, какие тут ставки в игре. – Здесь уже крутят-вертят, чтобы правительство отобрало привилегию и сдало в аренду. Но никто из здешних аренду не возьмет! – Теперь Сач заговорил медленнее. Пусть-ка Медекша хорошо все поймет и в Варшаве повторит. – А если чужой возьмет, то потеряет. Рыба не любит менять хозяев. Она что пчела. А здешняя рыба особенная. Ее нужно чувствовать до тонкостей! Тут знают, как ее сберечь. И хорошо знают, как ее извести!
Он весь трясся от возбуждения, грозил, ничего не боялся, был великолепен.
– За сто семьдесят лет, – растолковывал он, – деревня многому научилась. И уж если есть у нее такое стародавнее право, то и бояться нечего. Одно вот только плохо, – он презрительно отмахнулся, – новый закон лишь и свят.
Медекша едва успел проговорить:
– А какое отношение имеет к этому король?
– Это он дал вам такое право? – даже не спросил, а скорее ответил сам себе Медекша.
Вся фигура Сача, его пришедшие в движение руки, надутые щеки-все выражало переполнявшую его радость, которая отдавала гордостью и почтением.
– Вот видишь, господин князь, как оно? – сказал Сач, казалось, всем своим видом он хотел устыдить Медекшу. Приехал, мол, сюда, а не знает!
– Должны были взять это чужие, – проговорил наконец Сач, – а он предпочел отдать своим.
Сач повернулся к старосте за подтверждением.
– Не один документ, не одна печать говорят о том. В суде, в воеводстве, в кадастре. Как бы кто тут ни подкапывался, бумага погибнуть не может. Даже если из города ее стянут, многие в деревне сняли с нее заверенные копии. И хорошо припрятали, вот.
Если потеряют, станут отрицать, тогда-то только мы ее и предъявим.
Сач продолжал бы так и дальше, но его прервал пес, который, опершись лапами о стену, принялся выть.
– Ну, довольно, господа! – пытался перекричать его Черский. – Господин Ельский, господин Медекша! – обращался он к каждому.
И чувствовал, как гнев и нетерпение все нарастают. Вот тебе и вляпался! – бранился он, злясь на себя, как человек, который знает, что покраснел, но никак не может совладать с собой.
Теперь его уже всего трясло. Испортится самочувствие, появится ощущение безнадежности, приползет страх. Растревожится человек-и от давнего, и от нового. Жизнь покажется потраченной зря, утопленной в мерзостях. Черский сделал несколько шагов.
Что же это не слыхать его. К черту! – он был готов схватить за руку первого встречного, чтобы составил ему компанию, лишь бы не быть больше одному.
– Ну! – вопил он. И тут пес разошелся вовсю.
– Помнить о нем тут помнят, а вот словом вспоминать-не вспоминают, продолжал Сач рассказывать Медекше, – но молиться за него будут.
Черский остановился подле них. Расставил руки. Загонял их в калитку.
– Пожалуйте, господа, – звал он наигранно беззаботным тоном, – а то что же, только могильщикам и достанется! Ксендз, верно, и нам поднесет по маленькой. Ну-ну, пошли же! – и нервно стал подталкивать каждого из них руками. С Медекшей хлопот не бь1ло. Сач застыл на месте. Черский уперся в него, словно в столб. Бесполезно.
– И вы идите, – упрашивал он, только бы компания бьша побольше. Он уже плохо соображал, кто это, уговаривал бестолково. – Кто-нибудь из людей вас заменит.
– Я останусь, – сказал мужик. – Из людей-то я здесь один, так что некому моего места занять, чтобы помолиться за нашего благодетеля.
Глаза у Черского даже засверкали, так он посмотрел на Сача.
– За Августа? – осторожно переспросил он. Собственной догадке он не поверил, но о ком бы еще могла идти речь?
Сач, казалось, только того и ждал, когда они отойдут, чтобы пасть на колени. Медекша ответил за него:
– Отчего вы, полковник, так изумляетесь, что нашелся человек, который ведет себя, как и положено в данных обстоятельствах? Когда на обед приглашают, сидишь ешь, носом не крутишь. На похоронах тоже нечего капризничать. За покойника следует помолиться.
Но удивление лишь на миг приглушило желание Черского поскорее вырваться отсюда.
– Ясное дело! – согласился он. – Пусть остается. Не надо ему мешать. Пойдемте, князь!
Медекша наклонился к Сачу, шутливое выражение сошло с его лица.
– Может, лучше сейчас снести гроб, – прошептал он. – Совсем легкий, что там от тела осталось! – И вздохнул, пожалев королевские останки. Поставить, как предусмотрено, и пусть замуровывают без нас. Не уважают покойного эти господа из города. И чего им ходить по пятам за тем, кто отправляется на вечный покой. Ну что?
Сач закивал головой. Он был того же мнения. И тогда Медекша непринужденно взял Черского под руку.
– Дед мой, – начал он рассказывать семейный анекдот, соль которого состояла в том, что один из Медекш на похоронах собственной матери, сильно затянувшихся, не дал епископу выступить с прощальным словом над могилой. "Ничего не поделаешь, – заявил он, – поминальный обед стынет!"
И все в том же роде. У калитки он опять чуть задержался.
Остальные тоже покинули костельный двор.
– Что вы там выглядываете? – забеспокоился Черский и потянул Медекшу. Снова послышался вой.
Князь не сопротивлялся. Проворчал только:
– Вот ведь у нас кого растрогало прибытие на родину останков короля. Мужика да собаку!
Когда у него немела рука, он покорно брал свечу в другую, но всякий раз с надеждой разглядывал стену, не найдется ли какого выступа. Исцарапанная, шершавая, вся в трещинах, она, однако, нигде не выкрошилась настолько, чтобы можно бьшо найти место для свечки. И костельный сторож держал и держал свечу, менял руки, обе уже ныли от усталости, все в жирных, серых, стеариновых слезах. В большом проломе внизу стоял гроб.
– Ну! – подгонял он рабочих. – Теперь плиту, и баста!
Каменщик, помешивая мастерком известь в ведре, поморщился
и выпрямился. Надорвался, снося гроб в склеп, и теперь у него
разболелась поясница.
– Вечное ему упокоение! – равнодушно произнес он и удивился: – Ну и тяжесть же потащил он с собой на тот свет.
– Сам-то он легкий, – вспомнил Сач. – Когда вы гроб наклонили, столько там внутри ссыпалось в одну сторону, как в погремушке. Но сам-то он не в деревянном гробу лежит, а в свинцовом, который там внутри.
Могильщик авторитетно объяснил:
– Известное дело, господский обычай! Коли на железную дорогу господа соберутся, то сначала наденут шубу, потом бурку, а на нее еще и доху, точно так же и в могилу-гроб в гроб. А ты, брат, – насмешливо посочувствовал он, – отправишься в землю в одном!
Сторожу не хотелось продолжать разговор в таком духе.
– Ну так и что, – отозвался он. – Если у кого на жизнь не хватало, и на смерть, значит, не хватит. А если было тут, то будет и там. Не дождешься, чтобы и здесь все стало поровну.