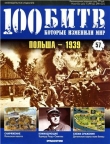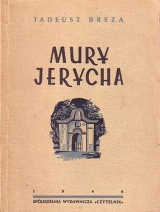
Текст книги "Стены Иерихона"
Автор книги: Тадеуш Бреза
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
– Ну, ты же не станешь отрицать, что он бежал.
Но старик стучал пальцем по картине.
– Видите, настоящее дерево, – повторял он сквозь зубы, – деревяшка, а не человек, деревяшка.
И в это время в дверях зазвучал милый, мягкий, теплый смех Генрика Дикерта, который наконец-то освободился от своих дипломатических обязанностей и разыскал родителей вместе с Ельским в гостиной, чтобы разузнать, есть ли какие-нибудь новости о брате.
– Картина пошла в дело! – Он остановился, склонил голову, прищурился, убеждаясь, что все идет, как надо. – Видно, разговор о моем брате был основателен. А мама? – По ее напряженному лицу он понял, что она проиграла. – Значит, защита Янека в Кларысеве позади. И никто не поверил в его доброе сердце.
Но вдруг он замер и, как бы перечеркнув эту сцену, не столько пустячную, сколько доставлявшую глазу эстетическое удовлетворение, серьезно взглянул на отца, спросил:
– С чем же пришел к нам господин Ельский? Отпустят его?
Старик явно растерялся. Генрик не сводил с него глаз, хорошо понимая, в чем дело.
– Они ни о чем тебя не спрашивали? – повернулся он к Ельскому.
Ельский хотел что-то сказать.
– Да знаю, знаю, – опередил его Генрик. – Не дали тебе и слова сказать.
И опять старикам, покачивая головой:
– Так же нельзя, господа.
Хозяйка дома взяла из рук мужа картину, осторожно положила ее на фортепьяно, чтобы она не. раздражала сына. Старик снова закутался в плед по самую шею. Генрик, повернувшись к Ельскому, всем своим видом и тоном подчеркивал, что ведет показательное расследование:
– Тебе удалось поймать Скирлинского? Где ты его видел? У него в кабинете? Он бььл один? Долго с ним говорил? – сперва внешние обстоятельства, затем тон разговора, наконец, суть и результат.
– Отрицательный! – признался Ельский.
Генрик этого и ожидал. Время бьыо неподходящее. Они оба понимали это.
– Нажим идет с самого верха. Германии надо вбить в голову, что с коммунизмом в Польше борются беспощадно.
– Знаю, знаю, – повторял Генрик Дикерт.
– А немцев не интересует коммунизм пешек, даже коммунизм руководителей, их прежде всего интересует коммунизм философов, мыслителей, пророков. У нас дозволялось думать в коммунистическом духе, только не действовать. Фашисты считают, что коммунизму можно поставить преграду, если сначала будет уничтожена благоволящая ему мысль.
– Знаю, знаю, – чуть слышно, мягким голосом вторил Ельскому Дикерт.
– Твоего брата, – продолжал Ельский, – именно то сегодня и губит, что он из интеллектуальной среды. В прошлом политическом сезоне сказали бы: безвредный теоретик-и дорога домой была бы ему свободна. После переворота в Германии, словно после какого-нибудь переворота в медицине, то, что вчера было безвредным, сегодня считается весьма опасным для общественного организма. До сих пор нас без конца учили тому, что немыслимое дело-выпустить на свободу сторонника Москвы, сейчас точно так же никому нельзя простить интеллектуальное преступление. Поразительно, что только действительно враждебная человеческой мысли система стала относиться к идеям всерьез, относя грех в мыслях к числу грехов смертельных.
– Знаю, знаю, – тихо бормоча, уверял Генрик, и тон его становился сдержаннее, он пытался дать понять, что знает это даже лучше других.
Кстати, то ли разговор с Ельским его успокоил, то ли он и пришел уже успокоенным, но с лица его исчезло то злое и усталое выражение, с которым он вбежал недавно вечером на прием к Штемлерам. Обида, которую он испытывал всякий раз, вспоминая, что брат его в тюрьме, как-то сгладилась. И он даже ощущал слабенькую нежность к брату, но не оттого, что лучше теперь понимал его, а потому, что час назад узнал об аресте в Румынии за принадлежность к "железной гвардии" 'множества лиц, связанных узами родства с видными правительственными чиновниками. Он почувствовал себя лучше. Ярость сменилась тонкой иронией.
– Наконец-то у него будет какое-то звание.
Он повернулся к родителям.
– Никто теперь не сможет оспорить, что у нас в семье есть интеллектуал. Это будет зафиксировано приговором самого суда!
И покрутил головой.
– Этот Янек... – Дикерт задумался. – Если бы уровень его пристрастий был равен уровню его способностей, может, и дорос бы до уровня мыслящего человека. Чудачество еще не интеллектуализм, как и нервный тик-не спорт. Ни то, ни другое ничего не пробуждает в человеке.
Он взглянул на полотно Матейки.
– Рамы, рамы, – жалобно воскликнул он. – Сегодня я был на обеде у Леона Барычека. Болдажевский уже слышал о наших неприятностях. Прекрасно говорил о том, как Янек разочаровал его. Об измене, которую тот совершил. Старая Варшава! Но что она для него!
Дикерт был в смокинге. Сунул палец за белый, тугой воротничок. Поморщился.
– Что-то сегодня давит, растолстел я, что ли? – Но это отвлекло его лишь на миг, он снова обратился к действительности. которая доставляла куда большую боль. – Видишь, – он смотрел на Ельского глазами, в которых еще стояли слезы, напоминавшие о его возне с воротничком, – Болдажевского поразило то же самое, что и меня. Как же так. Стало быть, это ничего не значит?
И он замахал руками во все стороны, указывая на картины, коврики, горки и многочисленные бра на стенах, трехрожковые, на маленькие абажурчики, надетые на не горящие сейчас лампочки, чуть набок, напоминавшие шляпы, надвинутые на лбы пассажиров, заснувших в дороге.
– Среди всего этого вырасти, – поражался советник, – и ничего из этого не вынести. Чудо'какое-то.
Он взглянул на родителей, немного поколебался, но заставил себя не утаивать правды оттого только, что она беспощадна.
– Может, тупость. Полнейшая тупость.
Но того, что он ожидал, не произошло: родители оставили Янека. Только вину его они как бы брали на себя, молча, опустив глаза. Голос Генрика Дикерта снова стал сладким:
– У Барычеков была Буба Черская. Я заметил, ее и вправду покорила меблировка особняка. Глаз не могла оторвать.
А он-от нее! Дикерт давно знал эту честолюбивую и бесцеремонную девицу, которая презирала все, что не было силой, богатством и значительностью. Говорили, что у нее есть любовники, но то ли это было неправдой, то ли она подбирала лишь мужчин, умеющих держать язык за зубами, ибо никто из посторонних не знал ни одного факта, за который мог бы поручиться. Может, пристрастия ее покрывала столь плотная завеса тайны потому, что она вербовала себе друзей исключительно из среды молодых чиновников, которые понимали: огласка их отношений с дочкой министра, как и разбалтывание служебных секретов, могла бы испортить им карьеру. Барышню эту боялись главным образом из-за ее невоспитанности, никто не осмелился бы утверждать, что она отомстила или нагадила кому; одной ее наглости было достаточно, чтобы стараться избегать ее. Но как это сделать, когда что ни бал, прием или какая-нибудь прогулка, если они действительно были высокого ранга, никак не могли обойтись без нее. Да к тому же разве кто сомневался, что, коли она уж решилась бы наконец выйти замуж за кого-нибудь из этих молодых подчиненных отчима-а сколько их после первого же поцелуя руки постоянно отбывало у нее испытательный срок, – то любому из них это сулило прекрасную и вполне гарантированную карьеру. Генрик мечтал о Бубе.
– Подумай, – взывал он к воображению Ельского, – она, сама современность, которая каждый сезон меняет у себя мебель, даже она была сражена такими вот Барычеками, этим своего рода Ланьцутом варшавской буржуазии.
Ельский слушал. Он тоже никогда не был любовником Бубы, поскольку она не переходила определенных границ. Соглашалась посещать лишь друзей, которые жили одни и изредка принимали гостей. В гостиницу, меблированные комнаты или холостяцкую квартирку с входом через кухню она никогда бы не пошла. В сердечных делах она держалась священного принципа: любой ценой надо соблюдать приличия, а остальное в руках провидения.
– Она очень странно вела себя по отношению ко мне! – Генрик был не в силах не поделиться тем, что его тревожило. – Я страшно боюсь, что это уже отголоски дела Янека.
– Она была холодна? – заинтересовался Ельский.
– Нет. Но совсем не такая, как обычно.
– Значит, все зря! – вздохнула госпожа Дикерт. Генрик отмахнулся, давая понять, что он еще не сдается.
– Я сумею ее убедить. Попытаюсь.
Госпожа Дикерт говорила о Янеке.
– Ты ничем ему не можешь помочь.
Тогда Ельский рассказал о Козице. О влиятельном офицере разведки, который интересовался особой Янека. Он познакомился с ним в ходе какого-то следствия и отнесся к нему с уважением.
– Ох уж эти наши офицеры! – Генрик надул губы.
Ельский согласился, но ведь Козиц именно это и дал ему понять. Даже как будто бы разрешил в случае чего обратиться с просьбой.
А он многое может.
Дикерт не решил, поддакнуть ли Ельскому, дав знать, что ему ведома роль Козица, или продолжать реагировать на все презрительной миной. Эти сомнения обратили его гнев совсем в другую сторону.
– А я бы, – закричал он, – не позволил ему из тюрьмы и носа высунуть. Такой брат-враг, такой сын-враг. Наивреднейшая личность. Из-за таких людей рушится вся общественная лестница;
кто принадлежит к элите, должен быть элитой! Куда же, черт возьми, должны стремиться низы, если мы, верхи, станем кидаться вниз. Значит, нет верхов, значит, незачем в жизни стараться, значит, нигде на этом свете не может быть хорошо!
Это цинизм, скептицизм, это нигилизм. Янек недотепа и просто ничего не понимает. Ни в искусстве, ни в благосостоянии, ни в культуре. И того урона, который он нанес. Как же к нему должны отнестить наш сторож, наш лавочник, наш мусорщик.
Все они карабкаются вверх, сами или с помощью своих детей, толпа боготворит представителей буржуазии, отец президент, сенатор, такой видный домовладелец, для них он олицетворение величия, о каком можно только мечтать, а этот спускается со священной горы и поворачивает вспять поток, который пробивался вверх, говоря ему, что незачем тратить силы. Это предательство класса, это предательство народа и предательство человека.
Он стал кричать на родителей, так как ему показалось, что они собираются возражать.
– Знаю, знаю, вытащить его и отослать куда-нибудь подальше. Одним махом с ним покончить, чтобы навсегда с глаз долой.
Я хочу того же самого. Как-никак он мой брат. У меня тоже сердце есть. Но с теоретической точки зрения, как честный гражданин общества, я осудил бы его и беспощадно покарал.
Накипь, накипь, которую надо счистить.
Голова старика тряслась. Боль старит детей, стариков превращает в детей. Бывший президент залепетал так невразумительно, что даже Генрик, заподозрив недоброе, отпрянул от него.
– Не говори так, ради бога, – отец не просил, а предостерегал. – Мы, как и ты, когда-то давно кричали у себя в клубе: бандиты, отбросы, безумцы! А сегодня-они у власти. Выкинули меня из президентского кресла. Лучше ты сам будь поосторожнее!
Генрик недовольно смотрел на отца, только по глазам Ельского он понял, что, бесспорно, можно опасаться и этого. Тем временем взгляд старика прояснился.
– Прости меня, – прошептал он. – Может, это и глупо, что я сказал. Но, видишь ли, я так давно живу на свете.
VII
Ты? Ты! С каких это пор мы стали на "ты", недоумевал Чатковский. Но признавал этот факт и даже не выказывал сомнения, лишь удивлялся этому, будто собственному старому письму, написанному в уже выветрившихся из памяти обстоятельствах, которые можно сравнить со скалой, каменистым островком, остатком погрузившейся в воду суши, – в жизни оно ни на что не нужно, хотя и держится на ее поверхности. Да, огонь в своем стремительном наступлении сжигает не все, бывает, перескочит через что-нибудь, оставит себе на следующий раз, понуждая изумиться тому, что он признает исключения и способен пощадить, он, столь неумолимый. Точно так же и время, которое, возможно, то же самое, что и огонь, только очень медленный.
Жизнь выгорает сегодня, прошлое-в памяти, порой от самой буйной жизни остается горстка пепла, ничего ни для нынешнего дня, ни для воспоминаний. Поскольку, если быть точным, их, воспоминаний, и нет, есть только проблемы, временно отложенные.
Чатковский обходился без прошлого, хотя оно у него и было бурным. О том, что произошло позавчера, он никак не мог ничего вспомнить. Когда-то он был коммунистом, полгодапослушников, затем отмахнулся от мировоззренческих проблем и всерьез занялся теорией стихосложения. Он не отрекался от всего этого, точ^.1 так же, как не отрицал, что это вот он на фотографии р детском платьице. Ясно, что теперь оно ни к чему его не обязывало, раз сам он стал кем-то совершенно другим. Как актер, сегодня перевоплотившийся в Гамлета, нс думает о том, что месяц назад он был Гутем, так и Чатковский всегда находился в настоящем времени, никогда не отдавался прошлому, и вспоминат', для него было делом столь же нереальным, как и видеть сны Он испытывал самые странные чувства, беря в руки "Капитал" или "Подражание Христу", только в этих книгах он находил подтнерждение того, что прошлая его жизнь была, – есть люди, которых ощущение того, что какой-то миг они уже переживали когда-то, утверждает в вере, что они уже однажды жили на земле.
Чатковский равным образом не помнил ни своих верований, ни своих взглядов. Случалось, что в обществе, на улице или на собрании женский голос произносил его имя, и тогда только Чатковский вспоминал о старом своем романе, о котором ничего ему нс говорили ни глаза женщины, ни ее губы, ни весь ее облик.
– Мне кажется, ты ошибаешься, приписывая каждому покушению две сущности-нравственную и техническую. На самом деле природа всякого поступка только одна. Если ты не видишь этого в покушении на жизнь ненавистного тебе человека, то приглядись к своему покушению на целомудрие любимой женщины. Тут обе стороны-нравственная и техническая-одно и то же, по крайней мере они так слились, что ты не можешь думать о каждой из них по отдельности, как за шитьем ты не в состоянии думать то о нитке, то об иголке.
Чатковский видел перед собой некрасивое лицо Фриша, одутловатое и серое, но тем не менее спросил его, куда серьезнее, чем, скажем, красавца Тужицкого:
– Но ведь ты сначала говоришь себе, что любишь, а затем уж думаешь, как будешь ею обладать.
Фриш пропустил это мимо ушей, вернувшись к проблеме покушения.
– Брут загорается лишь после того, когда понимает, что с технической точки зрения он сможет убить Цезаря. Действия только у нас, интеллектуалов, могут облекаться в теоретические формы. Для людей, живущих полнокровной жизнью, мысль неотделима от возможности. Это напоминает процесс оплодотворения. Люблю-значит, могу обладать, ненавижу-значит, могу убить. Нет ни безнадежной любви, ни безнадежной ненависти. В жизни. Ибо на бумаге-сколько угодно. И в голове, без которой никогда бы не было никакой бумаги.
Фриш сидел за деревянным маленьким столом, наверное, бывшим когда-то кухонным. Грязными, очень жесткими и длинными ногтями он рисовал на нем бороздки и отковыривал щепки.
По-видимому, он часами занимался этим, так как во многих местах стол был выщерблен.
– Под таким углом зрения любопытно выглядит ненависть богов. Особенно по отношению к смертным, над которыми они были вознесены сверх меры. Они в любой момент могли уничтожить все, что захотят, и осознание такой возможности должно было бы отобрать у их ненависти всякую горечь. А ведь они искренне ненавидели. Я предполагаю, – он вырвал щепку побольше и какое-то время разглядывал ее, – что проистекало это из следующей причины...
Он метнул взгляд на Чатковского. Ему не терпелось высказаться.
– Но только никому ни слова, – предупредил он. Чатковский не понял, что Фриш берет с него обещание молчать, поскольку опасается за свое право на какую-то мысль: он полагал, что философские рассуждения, по-видимому, тянут того выболтать какие-то политические или партийные секреты. Видишь, богиэто никакой не талант, никакая не своеобразная способность, по большей части это всегда лишь сила. Что-то среднее между великим князем и стихией. Позиция и мощь. Как глупы все их шутки, да, им есть в чем позавидовать людям!
И Фриш продекламировал:
...Tantusne evertere-dixit
Me superis labor est, parvague puppe sedentem
Tain magno petierc mari!
– Вергилий? – спросил Чатковский. И тут же понял, что нет.
и вспомнил тот вечер, когда перешел с Фришем на "ты". Тогда все готовились к экзаменам, а Фриш учил только стихи. До поздней ночи они проверяли друг друга по латинской грамматике, как вдруг этот чудак-способный, о чем они знали, но всегда говорили, что он провалится на экзаменах из-за своей робости, – начал читать Лукиана. Он декламировал его. пока шли через всю Варшаву, от Старого города до Уяздовских аллей, где немного посидели; было, кажется, часа три, к ним прибилась какая-то собака, две проститутки попросили закурить, и тогда Фриш. желая покрасоваться, перешел к Овидию. Он знал наизусть множество отрывков в оригинале и их переводы, порой несколько одного и того же фрагмента.
– Ты считаешь. Цезарь мог в это верить. – задумался Чатковский. Он произнес имя Цезаря, стремясь показать Фришу, что знает! Он теперь вспомнил то самое место у Лукиана, вспомнил, что это были слова Цезаря, который, торопясь из Африки в Рим, сказал во время бури: "Так трудно бессмертным свалить меня, что против сидящего в утлой лодчонке они бросают столь огромное море!"
– Такие, как он, верят, – сказал Фриш. – Собственная незаурядность возбуждает их, но еще больше-их собственная удача.
Им кажется, природа не в силах устоять перед их личным обаянием и оттого питает к ним слабость. Они относятся к природе так, будто она отдалась им. Превратности судьбы для них-то же самое, что скандалы, которые устраивает любовница.
Она яростно накидывается на тебя, но готова пожертвовать за тебя жизнью.
Комнаты вроде той, в которой жил Фриш, Чатковский видел только в театре. Самый настоящий чердак, и никаких особых подробностей-итак, скошенный потолок, невзрачное окошко, одно, сейчас мокрое от дождя, очень узкая железная кровать, железная печурка, чайник, которому самое место на помойке. В углу стопка книг и ботинки, словно с усами от растрепавшихся шнурков. Только стены взяли на себя труд скрасить однообразие комнаты. С помощью простейших средств, давно всем известных, – с помощью трещин, дыр и подтеков стены были буйно расписаны. Целые картины, но в основном что-то похожее на зарисовки в альбоме-фрагменты, какие-то детали, лица, запечатленные для того лишь, чтобы взять на заметку, руки, гротескно жадные, бороды, лягушки, листья, коллекция носов, собачьи морды, лапки ящериц, словом, излюбленные темы случая. Коегде штукатурка отвалилась и видна была дранка.
– Ты вообще веришь в величие? – спросил Чатковский. – Я говорю, прибавил он, – сегодня!
С подоконника стекала вода, многими ручейками разбегаясь по стене, и собиралась на полу, образуя лужицу, которая, похожая на язык, осторожно продвигалась все дальше и дальше. Две стены по бокам и косой потолок постепенно покрылись мокрыми пятнами.
Фриш сказал:
– Не могу уверовать в ничтожество, хотя и вижу его. Не могу поверить, что величия нет, хотя я его и не вижу.
Он пояснил:
– Это талант! Это просто талант, как и всякий другой.
Великий человек рождается так же, как скрипач или проповедник, порой только природа забывает проверить, способна ли она дать ему слушателей. И это ее несовершенство. В этом как раз ущербность наших дней. Читая книгу, можно брать из нее только сюжет, а не наслаждаться искусством, великого человека можно использовать в практических делах, не обращаясь к его величию.
Природа продолжает создавать их, как, наверное, она создает и астрологов. И те и другие должны изменить род занятий, чтобы быть нужными в сегодняшнем дне. Великий человек чаще всего способен на это, но тут уж все дело в его таланте, а не в величии.
Чатковский почувствовал, что начинает мерзнуть. Фриш велел ему не снимать пальто, ибо всякий, кто приходил сюда с улицы, не мог сразу разобраться, будет ли ему холодно в такой сырости.
Чатковский принялся застегивать пуговицы, застегнул все до единой.
– Свежо у меня, а? – забеспокоился хозяин. – Знаешь, я иногда и летом протапливаю, если вот так, как сегодня. А теперь, правда, дров нет, – тут же разрушил он свои надежды. – Но, может, найду что-нибудь, – он согнулся над кучей бумаг. – Черт!
Еще может пригодиться. – Он принялся выдирать из какой-то книги целые страницы. – Теми местами, которые я знаю наизусть, в конце концов, позволительно и пожертвовать, – сказал он. Поднял книгу вверх и показал обложку: – "Чистилище"!
Чатковский положил на стол два злотых.
– Знаешь, это идея, – сказал он. – У тебя действительно дьявольски холодно. Пошли за углем, – попросил он. – Мне надо поговорить с тобой.
В интересах организации лучше с Фришем в кафе не показываться, а сырость разъедала у Чатковского уверенность в себе.
– Знаешь Корсака? – спросил Фриш. – Переводчик Данте, – пояснил он, – в чем-то даже лучше Порембовича, вот, например, – он поднял вверх палец: "Лев голодом был так взбешен, что воздух испуганный оцепенел". А у Корсака, – он, выдавая свое пристрастие, голосом нарочито подчеркнул красоту перевода: – "Лев ревом голодным залил весь лес". – И отложил листки на столик. – Сожгу, – объявил он. – Это я умею!
– Сходи же за углем, – нетерпеливо напомнил Чатковский. – Есть у тебя какое-нибудь ведро?
Он отобрал у Фриша томик Данте.
– В кухне дадут, – успокоил его Фриш.
Вышел и тотчас же вернулся с завернутыми в газету несколькими кусками угля и щепками. Сложил все у печки. Прямо в кармане, рукой, теперь уже черной от угля, принялся отсчитывать деньги. Он купил у хозяйки топлива на пятнадцать грошей.
– Да оставь. – Чатковский подсунул мелочь Фришу.
– Больше не поместится, – деловито объяснил Фриш тоном человека, который хорошо знает свою печку. – Раскочегарится до невозможности.
Он принялся возиться с колосниковой решеткой. Выгреб золу.
Кусочки шлака попадали ему в рукав. Чатковский отодвинулся от стены. Подтеки образовали на ней отчетливый рисунок бабочки величиной едва ли не в две ладони.
Чатковский разглядывал этот плод воображения сырости.
Фриш стоял над ним.
– Вот! – воскликнул он и ткнул пальцем в нижнюю часть правого крыла, и, поскольку этот рисунок напоминал ему легкие человека, он еще раз ткнул и сказал: – Тут у меня каверна.
Ветер на улице, видно, стих, было хорошо слышно, как по наружной стене дома стекает поток воды. Чатковский вздрогнул.
Окошко заскрипело. Ветер снова принялся за свое дело. И комнатенка Фриша закачалась, словно лодка в океане. Фриш погрузился в печальные раздумья и повторил: "Tantus labor est everlere me parvaque puppe sedentem!"
– Садись, – спохватился он. Положил обе руки на стол, одну побелевшую от холода, другую почерневшую от угля. – Скажи, – спросил он, – ты что-нибудь пишешь?
Сейчас скажу, зачем я пришел к нему! – решился Чатковский.
Но Фриш продолжал разглагольствовать.
– Но и Порембовича перевод хорош-слушай, – сказал он и, глядя на печку, уже чуть раскаленную, процитировал: "Если бы я мог описать, как волнует меня воспоминанье тех мгновений, я воспел бы напитки, которыми вечно рада была бы услаждаться душа моя. Но уж заполнены мои листы Материей для песни о чистилище. И я натягиваю поводья, сдерживая эту прыть искусства. Чистый, готов лететь к звездам".
Есть какая-то неделикатность в замечаниях, удачно сделанных к слову. Чатковский и сам почувствовал это, проговорив:
– Я тебе дам возможность полететь в мир. Хочешь0 Фриш пристально посмотрел на него, блеск в его глазах угас, в них показалась усталость.
Может, он и подумал про себя, когда тут появился Чатковский, зачем тот пришел, но вскоре позабыл об этом. Теперь он понял, что у его гостя дело, а дело это-свинство. Фриш погрустнел.
– Видишь! – развел он руками. – Смущение-наша честь, честь людей слабых и бедных. – Он раздумывал. Предлагать что-нибудь скверное можно только тому, кого хорошо знаешь, а вместе с тем только тому, кого хорошо знаешь, предлагать что-то скверное-неприятно. Парадоксы плутовства, вздохнул он.
Он взвесил в руке кучку угля и положил ее в печь сверху, через отверстие конфорки. Уже собрался стряхнуть пыль с рук, сложив их вместе, но в последнее мгновенье передумал, побоялся измазать чистую грязной, которую попытался вытереть газетой, хотя и без особого результата.
– На кого? Большой? – спросил он. Фриш не сомневался, что речь идет о пасквиле. – Наверное, в стихах?
– Нет, не то, – покрутил головой Чатковский. Фриш даже отвернулся. Ему стало горше от того, что для свинства, которое ему надлежало совершить, не нужен его талант, а не от того, что ему вообще предлагают пойти на свинство. Чатковский зашептал: – Это касается твоих политических связей.
– Я так мало знаю, – вздохнул Фриш. Он подумал, что Чатковский требует от него каких-то подробностей о его прежней работе в организации. Чего они могут стоить? Что за это можно получить? – лениво размышлял он. Немного! И сказал: – На большое свинство решиться нелегко, маленькое не окупается.
Таковы парадоксы порядочности! – И чуть более резким тоном добавил: Нет, нет, я никого не заложу из тех старых. Это пешки. Такое не продается! Мне это дороже обойдется, если говорить о нервах, чем вы можете мне заплатить. Для меня они представляют особую ценность, ни для кого больше. Ты шляхтич, – вспомнил он, – и поймешь, если бы кто захотел купить у тебя какой-нибудь пустяк, а он ведь для тебя-семейная реликвия.
Он замолчал; но стоило только заговорить Чатковскому, Фриш опять взрывался:
– Не окупается!
Наконец слова Чатковского привели его в себя:
– Да не об этом речь. Послушай.
И он изложил план нападения на Папару. Фриш снова поморщился:
– Помогать вам! – И стал присматриваться к Чатковскому с каким-то новым любопытством, пытаясь понять, кому же. Затем, разочаровавшись, прикрыл глаза. И пожаловался: – Я уже давно дал согласие на любое свинство в жизни. Только моя честь не позволяет мне бегать за ним повсюду, я дожидаюсь предложения дома. Моя сестра, потаскуха, которая стремится скрыть это от меня, уверяя, что со всеми, с кем я ее встречал, она отдается не за деньги, а задаром, содержит меня. Не позволяя подняться выше моего уродства, моей мерзости и моей ненависти к ней. Как видишь! он обвел рукой комнату. – Недавно я был у нее, она милостиво соизволила пожаловаться на директора одного варшавского театра, который тиранит ее, поскольку понял, что не сможет с ней переспать. "В жизни надо делать какие-то исключения". Это я сказал. Говоря так, я хотел выразить мысль более деликатную, чем она подумала, ту именно, что на женщин ее типа всякий мужчина может иметь виды и только исключительно ради сохранения чести дома или из фанаберии можно тому или иному дать понять, что никогда ничего из этого не выйдет. Но она раскраснелась от злости. "Ты принимаешь меня за особу, которая живет, продавая себя!"-кричала она. Мне незачем иметь секреты от сестры, и я признался, что да. Тут она расплакалась. "Если бы мама знала, какой ты плохой брат!" Я'никогда ни от кого не скрывал, что я нехороший. В конце концов, не я и виноват.
Виновата доброта. У меня нет никаких обязательств соблюдать приличия. Еще немножко поскулю, но сделаю все, что захочешь.
Я уже сыт по горло ее мерзкими деньгами; от сестры вообще деньги брать неприятно, а тут еще от содержанки. Мне надо уехать! Чувствую, мне поможет перемена воздуха, – прибавил он с явной иронией, – ну и перемена свинства.
В чайнике на печурке закипала вода. Пар взлетел вверх роскошным султаном.
– Чаю, что ли, выпить, а? – нерешительно проговорил Фриш.
И отправился на кухню за заварным чайником.
– Пронюхала, что деньги в доме! – сказал он, вернувшись, имея в виду, очевидно, хозяйку. – Насыпала свежего! – И засмеялся. Повеселел. Но ненадолго.
– Грусть! – удивлялся он собственному настроению. – Грусть! Это все, на что способна моя совесть. Грех, – он находил утешение в том, что, к примеру, так бывает у всех, принадлежащих к католической церкви, – это замкнутый, ложный круг, от падения через раскаяние к прощению и все сначала. – Ибо что делать, что делать? – разводил он руками. – Я не грешникджентльмен, я профессионал.
Он поморщился, недовольный собой. Тем, что говорит.
– А может, это голос совести, – стал он рассуждать на гамлетовский манер. – Может, волнение? – Он пытался совладать со своим настроением. Каким-то неестественным, громким голосом объявил: – Во всяком случае, я принимаю заказ. И выполню работу добросовестно. – Он принялся что-то подсчитывать. – Заходи через неделю. Скажем, в понедельник. Я тем временем повидаюсь с ними. – С ними? – задумался он. Едва только он решился, сразу же вспомнил о них: о группе левой молодежи, связанной с одной студенческой газетой, душой которой был старый знакомый Фриша, наборщик. – Значит, через неделю, – повторил он. – Заказ принимаю. В понедельник приходи на первую примерку!
Крышка чайника слегка приподнялась, кипяток брызнул на железную печку, вода разбежалась по ней сотнями капелек.
Трясясь и шипя, толпы шариков ринулись к краям плиты, земля, как говорится, горела у них под ногами. Фриш не торопился разливать чай, хотя и не спускал глаз с чайника.
Пар, устремившийся ввысь, навел его на мысль об отъезде, а разлетающиеся во все стороны капли напомнили кадр из какогото фильма-гигантская парижская площадь, которую видишь с очень большой высоты, а на ней разъезжающиеся в разных направлениях автомобили. Фриш не выносил шума, и сама мысль о гигантских городах приводила его в ужас, он наверняка предпочел бы маленькие, если бы не то, что терпеть не мог захолустных городишек. Он верил, что известные столицы, просторы которых отличались длиннотами, только выиграли бы от сокращений. Париж в его воображении представлялся ему сотней знаменитых зданий и двумя-тремя своеобразными округами, так зачем же ему еще такие огромные поля. Может, как раз для него и ему подобных, из-за которых столицы превращаются в людские скопища. Он вдруг заволновался. Неужели же он увезет с собой и память о том, как он отсюда выбрался? По собственному своему опыту он, казалось, должен был знать, что после всякого неэтичного поступка человек впадает в состояние какогото отупения. Лишь бы оно не растянулось на все время его пребывания в Париже.
Он разозлился на Чатковского, на сей раз не за то, что тот искушал его, а за то, что он живет в комфорте-не только в материальном, но и в духовном. Гигиена! – поморщился он и добавил про себя еще несколько эпитетов, немного даже удивившись, ибо гигиена не такое понятие, с которым обычно связывают паскудные слова. Он хорошо знал, что ни за что не устоит перед соблазном, что посвятит всего себя точному выполнению соглашения с Чатковским, но никак не мог успокоиться. Гнев его обрушивался то на Завишу, то на Чатковского, а в конце концов обращался и против него самого, против Фриша, который пока что страдал ради других людей или ради отвлеченных идей, дабы только быть в состоянии перевести дух. В то же время Фриш опасался, как бы Чатковский не усомнился в том, что он сделает требуемое. И еще не подумал бы он ненароком, что его, Фриша, недовольство отрицательно скажется на работе по организации провокации. Его очень интеллигентный ум спокойно наблюдал за тем, как в душе его проходил процесс переоценки нравственных ценностей. Поскольку он не видел возможности не сделать подлости, он намеревался сделать ее старательно. Это не всегда означает, что люди, которые тщательно выполняют порученную им пакостную работу, закоснели во зле, порой это означает, что они закоснели в добре. Фриш с беспощадным хладнокровием готовился к низости, а вместе с тем и настраивался на поездку, которая, он знал, не будет для него ни радостью, ни наслаждением. Париж в его понимании должен был стать не любовным романом, а женитьбой на какой-нибудь страхолюдине по расчету.