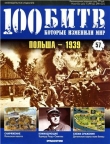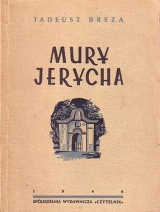
Текст книги "Стены Иерихона"
Автор книги: Тадеуш Бреза
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– Нет! Иногда мне удается порвать раньше. – Но с Товиткой и не помечтаешь о сокращенном сроке.
Он чувствовал, что Болдажевская относится к тому типу женщин, которые с ребенком на руках приходят к костелу, когда бывший их любовник венчается. А семейство князей Ал1"брехтов через несколько дней возвращается в Варшаву. Он побледнел. И впрямь беда может случиться!
Бишета Штемлер, которая считала своим святым долгом просвещать юных подружек, знакомя их с важными гостями, позвала хрупкую, стройную, светлоглазую барышню, посадила ее подле Тужицкого.
– Вы знакомы? – спросила она. – Граф Проспер Тужицкий! – Потом пристально взглянула в глаза девушки. – А это, – пояснила она, – моя подруга. Мина Зайончковская.
Он позволил ей с минуту безмолвно разглядывать себя. А сам, словно на приеме у окулиста, водил глазами по сторонам.
Наконец мягко посмотрел на Мину, широко улыбнулся, умудрившись тем не менее придать лицу серьезное выражение.
– Вы вместе ходили в школу? – Он поднял глаза к потолку, словно что-то припоминал, сопоставлял какие-то факты, о чем-то раздумывал.
Ему было скучно. Но не затем позвала Бишета Мину. Так можно представлять Тужицкого кому-нибудь, кто о нем что-то знает. Но не Зайончковской, готовой отнестись к нему лишь как к интересному мужчине. Красавец! Да. Но это лишь одно из его достоинств. Пойдем дальше.
– Граф Тужицкий, – сказала она, – вы принадлежите к одной из самых родовитых семей. Вы кавалер Мальтийского ордена.
Расскажите что-нибудь об этом. Вы так чудесно это делаете.
Тужицкий молчал. Не от волнения. Каждый раз, когда ему доводилось предстать перед какой-нибудь хорошенькой девушкой во всем великолепии своей семейной славы, он непременно испытывал страх. Вызовешь ее восторг и попадешься в сети.
Опять нависнет опасность. Вляпаешься так, что будешь обязан жениться. Вот он, весь ужас жизни.
– Пожалуйста! Может, о том кастеляне, основателе храма в Новолеске.
Разве утаишь? Нужно рассказывать. Есть о ком. Время, человеческая глупость, зависть, пытающаяся навести тень на величие Тужицких. Злой дух современности, стремящийся всех остричь под одну гребенку, подтачивает деяния столетий. Клеймить мало. Всей своей жизнью Тужицкий противился этому. Из первых денег заплатил за право быть кавалером Мальтийского ордена. Переехал из деревни в Варшаву. Нанял в старом дворце шестикомнагную квартиру под семейный музей. Перевез из деревни старые ценности. Рукописи, портреты, королевские подарки. Немного этого было! И он принялся рассылать письма.
Терзал родственников, торопил с поисками, втягивал в дело антикваров. Скоро понял: самому не справиться. Секретарь? Нет, он не банкир шт высокопоставленный чиновник. Держать в доме 1шсаря может лишь человек с мизерными, современными потребностями. Ему, Тужицкому, будут писать историю!
Кто? Только не через знакомых! Он мучил людей лишь тогда, когда что-то уже сделал, может, оттого до поры до времени умел быть таким скрытным. В данном случае эта его черта помогла решить проблему вполне удачно. С помощью университета.
Профессор рекомендовал ему своего молодого ассистента, который за двести злотых в месяц согласился составить хронику семьи Тужицких. Спустя год, ушедший на сбор исходных материалов, выяснилось, что можно составить том в тысячу страниц.
Большую их часть молодой ученый предназначал для воссоздания исторического фона. Но дело до этого еще не дошло, и пока Тужицкий довольствовался крохами. Отсюда и скрашенные его исторической эрудицией семейные рассказы. Он обожал эти подробности. Над прошлым своего рода он размышлял, знакомясь с его хроникой, и впадал во все большую растерянность.
Величие и упадок! Величием было происхождение, упадкоммезальянсы. Они подкарауливали на каждом шагу. Этот род, с горечью разглядывал Тужицкий генеалогическое дерево, неудачно женился. Чуть ли не со слезами на глазах он кричал летописцу:
– Даже в раю, где у него была только Ева, Адам, будь он Тужицким, наверняка женился бы в конце концов на какой-нибудь обезьяне.
Потом склонялся над таблицами. Размышлял над тем, что принесло ему время по материнской линии.
– Есть! – говорил он о бабках. – Есть, – повторял он и, нерешительно потирая друг о друга пальцы, выражал мнение, что бабки сказали надвое. Есть! – убеждался он. – Как тут скажешь, что их нет! – Но какие неинтересные.
Он считал моменты взлетов, увековеченные на древе. Немного. И его охватывала злость. Смотрите. На боковых ветвях куча девиц Тужицких, которые так и не соскочили с них замуж.
Хо-хо-хо! – думал он. С кем бы они только не породнили его! И проклинал их всех-много их было в прошлом-скопом. Глупые привереды! А все-таки это был род!
– Полностью фамилия моя звучит так, – начал он свою лекцию. Шпитальник Падалица Тужицкий. Самая старая ее часть-в середине. Падалица-это и герб, и родовой девиз, и первая наша фамилия. Предания по-разному объясняют этимологию этого слова. Пекосинский, Быстронь'[Францишек Ксаверий Пекосинский (1844-1906)-историк и историограф, занимавшийся проблемами происхождения и развития рыцарства в Польше, Ян Быстронь (1860-1902)-языковед и филолог.], а также изыскания, которые сейчас совместно с Варшавским университетом ведутся под моим руководством, говорят в пользу так называемого пястовского тезиса. Ибо наука, касаясь истоков нашего рода, склоняется к трем вариантам объяснения. Во-первых, нас выводят от Мешко, товарища Болеслава Храброго, который будто бы на пузе прополз под какими-то оборонительными воротами во время похода на Киев. С тех пор и стали называть его Падальцем.
Прозвище это якобы унаследовала от него единственная его дочь.
А от нее, дескать, и ее потомки. Вздор!
Он взглянул на барышень. Обе слушали его внимательно. Он говорил серьезно. Воскрешал ужасно давние события. А при этом оставался частичкой одного из них. Они ни в малейшей мере не сумели разделить его возмущения, которое заставило его содрогнуться при воспоминании об ошибочной гипотезе. Их ошеломил сам факт, что история вообще знается с Тужицким. Он продолжал объяснять:
– Несецкий2 [2 Каспер Несецкий (1682-1744)-иезуит, занимавшийся генеалогией польских родов, автор четырехтомного Гербовника "Польская корона" (1728-1743).], а поверив ему, и Золотая Книга Шляхты повторяют имя того же самого Мешко, однако оговариваются, что сам он носит фамилию Падалица, а не его дочь. А отсюда выводят, что, будучи бедного рода, он собирал на полях, лежащих под паром, хлебные колосья, выросшие из зерен, осыпавшихся в предыдущий год. Такие кустики самосева и до сих пор называют в деревнях падалицей. Это и сбило с толку историков. А ведь Длугош3 [3 Ян Длугош (1415-1480)-историк и дипломат, автор первой "Истории Польши" ("Histolia Polcnica"), где дал описание польских гербов.], делая разного рода предположения относительно моего предка, одно утверждает со всей определенностью-что тот при жизни сколотил значительное состояние. На этих-то колосках?
Он рассмеялся, иронично и высокомерно.
– Падалица! – Мысли его обратились к прошлому. Потому вдруг четким голосом, как над колодцем, когда вслушиваются, далеко ли дно, повторил еще раз это слово. – Вам это ни о чем не говорит? Вы его впервые слышите? А есть ведь и третье значение. – Он снисходительно предупредил, что и с ним познакомит. – Пожалуйста!
Сколько бы он ни повторял его, каждый раз сердце его сжималось.
– Падалица? Что-то, что падает, само сеется, отсюда внебрачный ребенок, бастард. – Радость, которую он испытывал в этот миг, омрачала ему близость этого последнего произнесенного им слова к слову "выродок". Поэтому он торопился. – Чей? От кого? От Болеслава Храброго!
И он замахал обеими руками, словно стараясь еще больше напугать историков-маловеров.
– Можно ли что-нибудь иное вытянуть из многочисленных намеков Длугоша! Только то, что рядом с именем моего предка, когда говорится о том, что Болеслав посвящал его в рыцари, стоит слово: "И признал". Когда он женился на дочери кастеляна Яна из Бжезя, посланец Болеслава приветствовал в ней род, а в нем, – Тужицкий направил по пальцу на каждую из барышень и сдавленным голосом выпалил: – ...кровь!
И, искренне возмутясь, что правда должна сражаться за себя, вместо того чтобы самой бросаться всем в глаза:
– Это ничего не значит? – уничтожал он скептиков горькой иронией. Бросаются такими словами на ветер? – И, осклабившись в ядовитой усмешке, ударил маловеров с фланга: – А состояние откуда? Эта огромная фортуна. И опять Длугош ясно, хотя и не прямо, говорит: "как княжеская".
Он вытянул губы трубочкой. Что языком трепать, – Наука лучше знает. А сейчас в этом нет ни малейшего сомнения.
– Подумай, он по прямой линии потомок Пястов! – подчеркнуто удивилась Штемлер, опасаясь, что в своем не очень точном доказательстве молодой граф недостаточно ярко обрисовал для Мины Зайончковской эту самую главную вещь.
Барышня, чтобы показать, что понимает, в чем суть дела, похвалилась, но неудачно:
– Я знала человека, чем-то похожего на вас. По прямой линии правнука Монюшко.
Тужицкий вспыхнул. Впрочем, он больше злился на себя за свое возмущение, чем на барышню.
– В таком случае ко мне это не имеет никакого отношения. – И добавил наставительно, не спеша, выразительно, чтобы она запомнила раз и навсегда: – С геральдической точки зрения происхождение из семьи художников или ученых не стоит и гроша. Великий воин, великий святой, королевская наложница, если ее имя внесено в анналы истории, – вот что дает истоки роду. Порой, случается, и министр, но, разумеется, не в республике.
Он развел руками:
– При нынешнем строе вообще нет возможности основать род!
Он раздражался, когда ему приходилось разъяснять саму теорию. Если только не на своем примере. Сменив, как перекладных, два-три рода, он снова возвратился к своему. Торопился опять вызвать удивление обеих барышень. Двинулся в путь с целым караваном предков. Шпитальник-откуда? Канцлер Падалица взял в жены последнюю представительницу ассимилировавшейся в Польше ветви французских маркграфов de 1'Hospital' [Больница; по-польски-шпиталь.]. A Тужицкий? В отличие от самых старых Падалиц их младшие ветви писались "Туже-Тужицкие", так это вошло в обычай, что теперь стало родовой фамилией. Как вкратце объяснить? Нелегко отыскать род, похожий на его. Слой за слоем-исторические личности. Откроем учебник истории на любой странице. Нет четкой границы между проблемами его рода и страны. Давайте переберем по порядку фамилии вождей, государственных мужей, придворных-Тужицкий происходит ото всех них. Время раскинулось тут, словно луг, и нет на нем такого прекрасного цветка, которого не коснулся бы гений Падалиц, связывая каждый цветок с собою своими бабками.
До самых разделов! Трагическая дата! В семье начинает происходить что-то неладное. Она не придерживается больше давних правил. Жалкое это положение тянется и по сей день.
Перед своим генеалогическим древом Тужицкий не смеет поднять глаз на маму. Ах, чего только не натворили эти последние сто пятьдесят лет. Даже фамилии ужасные. Тужицкий не раз вел разговор об этих болячках со своими двоюродными братьями. С первых же дней новой Речи Посполитой и они испытывают прилив сил, мечтая вместе с нею возродить свой род. Но один за другим подводят. Уже трое прескверно женились. Идут проторенной дорожкой. Рассказами о величии рода кружат голову барышням. И влипают. Тужицкий пока уцелел. Но ему страшновато.
Ибо только он один.
– Основатель коллегиаты2 [2 Костел, при котором находится собрание каноников] в Новолеске, – опять начал он доверчиво, ибо его вновь затянули в свои сети времена, давно ушедшие. – Бог ты мой! Кастелян! Вы просите рассказать его историю. Осталась еще подробность, мне не известная, весело обратился он к Бишетке. Потом назвал какую-то дату. Мазками обрисовал исторический фон. И вот костел готов. Вскоре умирает брат кастеляна. Воля божья! Кастелян заказывает мессу. Но во время службы глубокая печаль наполняет его душу. И он кричит.
Тут Тужицкий привстал с диванчика и низким голосом крикнул:
"Всем выходить! Я воздвиг этот храм господу богу-я! Теперь прошу оставить нас одних!"
Горящими глазами посмотрел он на обеих барышень. Волнение, в которое четверть часа назад привели его поцелуи Товитки, не унималось. Был момент, когда ее огромный рот втянул в себя его губы. Он и сейчас чувствовал этот круг от носа до подбородка, круг, краями своими прикасавшийся к нему так нежно, но врезавшийся ему в память сильнее всех иных поцелуев.
Надо было бы поворачивать назад! Сегодня еще нет ничего легче отречься от нее. Только вот уже невозможно отказаться от завтрашнего свидания! Обе барышни ждали, что он еще скажет.
Он возмутился. Чего они так смотрят?
Влетел Мотыч. С бутылкой, под мышкой поднос. Бросил его на столик, на поднос бутылку. Но во что наливать? Сделал вид, что задумался, наконец как бы вспомнил. В каждом из четырех карманов жилета по рюмке. С этой шуткой он обходил все комнаты. Прежде чем налить, обратился к ним:
– Здесь за серьезные диспуты Смеха вашего не слышно! – Он выпрямился. Коснулся плечом Ьишетки, поднял вверх палец.
Действительно, за дверями фыркнула Завита, все дружно ее поддержали. Ну, моя острота дошла! – Мотыч хлопнул в ладоши. – Наконец-то! Кто-то ей объяснил. Надо назад. Расскажу еще одну.
– Нет, нет, нет, – бросилась протестовать Бишетка. Взгляд Зайончковской после того, как Мотыч направил его на двери, так и прилип к ним.
– У них, может, веселей. Совсем рядом! – Ей стало тоскливо.
Пьют, смеются. Вот бы тоже встать и пойти туда, откуда пришел Мотыч. Но удобно ли? Она откинулась назад. За дверями все стихло. Зато в библиотеке сначала засмеялся кто-то один, потом раздался настоящий взрыв хохота. И уже не оглядываясь больше ни на что, она побежала. На полпути испугалась, что бежит не в ту сторону, где смех. Он доносился из другого угла. Повернула обратно. Но тут снова хохот поманил ее из гостиной. И она заметалась. Как только Мина приближалась к группе людей, воцарялась тишина, а в противоположной стороне веселье било ключом. Она никак не поспевала! Измученная, присела, словно в лесу, сил блуждать больше не было. Кто-то обхватил ее рукой. Она была готова смеяться, но никак не могла найти повода, теперь могла позволить себе. Только заставила себя посмотреть, кто это сел подле нее. Совсем-совсем знакомое лицо, но чье?
– Вы думаете, я пьяна?
До этого момента нет, но у нее так заплетался язык, что Говорек, весело глядя на нее, кивнул головой.
– Немножко да, – шепнул он.
Не первый раз в жизни! И все же, когда она уже знает об этом, делается беспомощной. Не может вспомнить, что тогда с ней творится. Первый же проблеск сознания, подсказывавшего, в каком она состоянии, мгновенно возвращал ей серьезность, но тут же и отбирал всю ее волю. Она позволила приласкать себя. Ее ничуть не удивило, что к лицу ее прижимается другое, теплое, как компресс. Что это? На губах-губы, совершенно чужие, на коленях рука, еще одна на груди. Зачем? И также непонятно, почему все это враз как бы кто-то смахнул; тут же Говорек заговорил, но почему? Ибо какие-то еще две особы с писком
пронеслись по комнате. Исчезли! И опять чьи-то теплые губы и руки, доставляющие удовольствие-приятное, как бывает, когда потягиваешься, когда замираешь, как от страха на качелях. Он перестал. Незнакомые люди вокруг. Смеются прямо в уши Мины.
Что ей с того! Прямо в пищевод накатывает волна воздуха.
Носятся пузырьки, наполненные сначала шумом. И Мина немеет.
Ах, только бы не начал целовать в губы. Страх прибавляет сил.
Она вырывается.
– Что за парочка! – кричит Кристина.
И не дает Говореку кинуться за ней. Она видит Мотыча. Ей хочется что-то сказать ему. Все трое друг за дружкой несутся в библиотеку. Тужицкий и Бишетка остаются одни. Она считала делом чести знать, что происходит в аристократических кругах.
Заговорила о его хлопотах.
– Они вот-вот возвращаются! – огрызнулся Тужицкий.
Но, в сущности, он не чувствовал себя задетым. Дочка князя Альбрехта была для него весьма соблазнительной партией. Как знать, не самой ли вообще блестящей. Но и дело нелегкое.
Тужицкий опасался просить кого-нибудь о посредничестве. Отчасти не осмеливался, но главным образом не к кому было обратиться. Никого на уровне князей Бялолуских. Ни тетки, ни дяди подходящих^ Чтобы и кровей хороших, и со связями.
Особенно чтобы знались с Бялолускими. А тут никого похожего и никаких связей.
– И за кого только эти идиотки умудрились выйти замуж! – хватался он за голову, имея в виду сестер своего отца. – А семья матери! – Он качал головой и опускал глаза. – Дно, – вздыхал Тужицкий. – Дно, дно!
Это бьыо его болью. Так что никто не предпринял еще никаких официальных шагов, но о намерениях Тужицкого начали поговаривать. Лишь бы слухи исходили не от него, а так они ему были на руку. Его часто видели с Бялолускими, нередко даже один на один с барышней. Уже строятся предположения. И в конце концов это должно дойти до ушей князя и княгини. Если они будут против, наверняка, не желая его, найдут способ дать знать. Если его родня не способна, пусть за дело берется молва.
Что ж, красота, положение, отличная голова. А в ней все вверх дном! Тужицкий знал, что о нем так говорят. Титул старый, но в кругах истинной аристократии о нем уже позабывают. Да разве и сам князь Альбрехт не взглянул на него впервые, словно на пришельца с того света. "Так они же вымерли!"-вот было его мнение о Тужицких. И, не мешкая, направился к шкафам с альманахами. Проверил. Тужицкие там были. Стукнул рукой по тому месту, где их обнаружил. "А, есть! – закричал он. – Браво.
Очень рад", – и пожал Тужицкому руку.
Признал его подлинны:,!. Это далеко от того, чтобы признать зятем.
– Княжна Пела, – улыбнулся Тужицкий, скорее думая о почтенной паре родителей, а не о дочери, – особа, обладающая необыкновенными душевными качествами. Это ангел.
– Но, чтобы нуждаться в нем, – спросила Бишетка, – чувствуете ли вы себя в достаточной степени грешником?
Нет! Зато он обдумал, как вести дом, в котором они будут жить. Чистота, непорочность, пример для других. Стиль этот казался ему весьма традиционным. Впрочем, иной они и не могли бы себе позволить. Тем более сначала. Он набросился на Бишетку.
– Я, как и все мы, принадлежу к паршивой эпохе. К эпохе пустоты, треска и утрат. Утрат здоровья, имущества, времени.
Нам нужны дома, которые воспротивились бы всему этому. И может, возвести такой дом-мое предназначение. А особа, о которой я мечтаю, – но тут еще ничего определенного! – как бы создана для этого.
Подле них выросла другая, взбешенная тем, что, заболтавшись, те ничего не замечают вокруг себя.
– Хороши вы! – надула она губы. – Я ведь ищу вас по всем комнатам. Кричу. А он не изволит даже отозваться. – Она словно просила Бишетку полюбоваться Тужицким, тыкая в него пальцем, который едва не касался его лица. – Вы пойдете в кафе "Трио"?
Бишетка рассердилась. Ладно еще, что Товитка подговаривает гостей уходить, но зачем так рано.
– Не огорчайте меня, – пропищала Бишетка, – еще только половина двенадцатого.
Товитка, не обращая внимания на ее просьбу, повторила:
– Ну что, идете?
Он ясно представил себе, как будет отвозить Товитку домой.
По дороге они, может, заедут к нему? Но, чтобы забрать ее к себе из кафе "Трио", ее сначала надо там отыскать. И с кем? И рядом с кем? Скажем, столик к столику с кем-нибудь из круга Бялолуских. Молодежь, принадлежавшая к этому кругу, каждый вечер бывала повсюду.
– Кто идет? – Он, словно часовой, не спрашивал, а скорее предостерегал.
Товитка назвала его, себя и осеклась. Догадалась, что такая компания его не устраивает. Сказала:
– Все!
Бишетка обстоятельно обдумала свое положение.
– Я? Не знаю! Я тут как капитан, могу уйти лишь последней.
Надо защищаться, сопротивляться, размышлял Тужицкий.
Может, пойти и в худшем случае, то есть если наткнешься там на сплетников, улизнуть! А послезавтра сразу же устроить сцену.
Мол, с кем ты гак долго разговаривала. Дескать, непристойно танцевала. Хорошо, хорошо. Но таким образом можно испортить себе все послезавтрашнее свидание.
– Они уже уходят! – жалуясь на свою судьбу, Бишетка искала спасения у Кристины Медекши.
Тужицкий раскопал, что они родственники. Такие далекие, что Кристине и в голову не пришло перейти с ним на "ты". Дабы не упустить вы.о;"ь1 от пусть и столь слабых кровных уз между их семьями, Мужицкий навязал ей шутливую, как бы в кавычках, форму обращения:
– Вы, кузина, тоже идете?
Старуха Бялолуская была о ней не лучшего мнения, но в этой ситуации Кристина вполне могла бы, с точки зрения света, послужить ему прикрытием. Дескать, старый князь Медекша поручил ему опекать дочь, вот что скажут. Седьмая вода на киселе. Ну да все же.
– Еще не знаю. Ельский куда-то запропастился.
Она поискала глазами. Чатковский, Скирлинский, Говорек.
Куда они все подевались?
Тужицкий облегченно вздохнул.
– Видите, еще рано. Никто не уходит.
– Вот и нет. Костопольский, Дитрих, Черский, Яшча, – Товитка подслушала, – они уже собираются.
– Ну и на здоровье. – Тужицкий терпеть не мог министров вообще. – О! Они отлетают на танцы всегда раньше нас. Молодежь сдержаннее. Она тоже не в состоянии обойтись без ресторации. Но по крайней мере умеет оттянуть время.
Товитка вся бурлила. Она способна создавать самые нелепые сложности людям. Но совершенно не умела войти в положение других. Резко повернулась. Ушла. Тужицкий все понял и прикусил губу.
– Значит, она первая устроит мне скандал. Бог ты мой, – вздохнул он, и мне же теперь извиняться. Начинается.
– Так что с этим домом? – нервничая, Бишетка возвращала Тужицкого к оставленной им теме. – Вы должны построить его нам в пример.
– Ах, дом, – ухватился он за эту мысль, обрадовавшись, но всего только на миг.
Он следил, как по комнатам, расположенным анфиладой, носится Товитка, то и дело к кому-то склоняясь. И каждый тотчас же поднимался, у нее уже два, три. четыре добровольца.
Она всех мужчин утянет с приема. Каждому говорит, что должна пойти именно с ним. Как они все уставятся друг на друга. Может, кое-кто и испугается, увидев остальных. Но все-никогда. И он.
Стало быть, мог бы от нее отделаться. И жди потом вечера вроде сегодняшнего! Он не мог. Она сильно влекла ею к себе.
Невыносима сама мысль, что губы, живот, грудь, ноги, к которым он прикасался, – все это через час может стать убежищем для другого. Он знал, как за нею бегают. До сих пор он привередничал. Теперь, от одной мысли, что ее нет, сорвался с
места. Что-то буркнул Бишетке. Он только узнает, идут ли они!
– Ну? – Она стояла у дверей, ведущих в сад.
Он толкнул ее отнюдь не слегка. Хочу ее, простонал он, и с плеч долой! Кто-то заглядывал ему через плечо. Несколько мужчин толпилось вокруг нее. На каменных квадратах пола лежали их тени. Четкие, все стояли рядышком.
– Видишь, – проговорила она дрожащим голосом, который хотел его.
Отчаянное положение! Называет на "ты", все слышат. Опасность, неприятность, бестактность! Покончить со всем поскорее.
Порвать можно безболезненно. Из-за того и такая спешка. Какое облегчение будет не иметь с нею ничего общего. При ней его все еще удерживает властный зов-слиться с нею. Иначе не бросишь. Он сжимает Товитке руки.
– Ну вот, – она, вроде бы еще жалуясь, мурлычет, словно кошка.
Прикасается к лицу, поворачивает его в сад. Велит смотреть в небо. В душе его такая сумятица, что он не в состоянии отличить звезд от фонарей. Плетет какие-то глупости. Товитка прижимается спиной к его груди, напирает на него, надвигается. От ее тела его рассудок замутнен. Что она делает!
"Ой-ой-ой-ой, – молит он про себя. – Пусть скорее это пройдет, кончится. И в деревню! Убраться из Варшавы надолго! А Бялолуские? Всем надо пожертвовать, только бы вырваться от нее. Придется пожертвовать Пелой". Такой ценой он избавится от Товитки. Он кладет руку ей на плечо. Гладит нежную щечку, проводит пальцами по губам. Словно лавина искорок от тысяч невидимых проводков, приставленных к его коже, обрушивается на него. С этой точки зрения Пела не очень-то напоминает живое тело. И тут вдруг сердце Тужицкого начинает горько щемить, словно кто сжал его в кулаке. Ночь эта кажется ему предсказанием. На каждом шагу жизнь будет предлагать ему двух таких женщин. Одной он пожертвует ради другой, а одновременно той ради этой, и обеими впустую.
Мотыч заперся в уборной, лениво справлял малую нужду, уставившись в вентилятор, ворчливо выгонявший воздух во двор и втягивавший оттуда свежий. Голова Мотыча, словно в мыльной пене во время мытья, вся, по уши, была в шуме, тело легкое и свободное, как обычно. Он улыбался, закрывал и открывал глаза, их немного жгло. Щурился, стараясь сосредоточиться. Но что-то перепутал, ничего он тут рассматривать не собирался, ведь вещь, которую он силился разглядеть, была в нем самом: какой-то сюжет, какая-то идея, еще один способ порезвиться, но он никак не отыскивался. Мотыч радовался каждой следующей минуте, будучи убежден, что она несет с собой всеобщий праздник. Кровь стучала по всему телу, подсказывая, что грядет радость. Куда она его влечет? Почему только его одного. А остальных?
Он надулся от усердия, рассматривая собственное лицо в зеркале. Две струйки вливались в зрачки его глаз. Одна прозрачной ленточкой подрагивала в воздухе между зеркалом и глазами.
Другая, шумно потрескивая, опоясывала сзади его голову, от уха до уха. Немыслимо, чтобы ничего этого нельзя было не заметить.
Но поразительное дело! Никаких перемен. Мотыч еще пристальнее вглядывался в себя. Он не ошибся. Будничность его лица опечалила его. Должно же это как-нибудь дать о себе знать.
Он вдруг решительно отбросил все, что его мучило. Сунул руку в карман, затем в другой, обшарил все. В боковом, наконец, нашел какие-то бумаги. Не помнил, эти ли; посмотрел. Нашел гранки стихотворения. На завтра! Он же обещал себе после приема заскочить в редакцию "Газеты Польской"! Карандаш? Вот он! Теперь надо просмотреть. Сосредоточившись, Мотыч заставил буквы застыть, но, как только он чуть-чуть забылся, буквы тотчас же закачались, а потом принялись прыгать, словно блохи.
Он видел не больше, чем если бы дрожащей рукой навел бинокль на звезды. Бумага, линии, буквы то разлетались в разные стороны, то снова собирались в одно целое. Мотыч понял, что гранки придется оставить в покое. И он снова сунул их в карман.
Стихотворение улетучилось, унеся с собой мысль о редакции, не оставя в памяти ни слова, только какую-то тень беспокойства, какое-то приглушенное эхо угрызений совести, вызванное тем, что Мотыч не выправил гранок. Но как же выбраться отсюда в город, как сойти с облаков. Это еще и удалось бы, если бы ко всему прочему Мотыч не почувствовал себя за океаном, а тут, так далеко, умирает все, что жило, когда ты был трезв. В него вселился новый дух, дух иной поэзии, которая черпала силу в том, что такие безбрежные пространства отделяют его от всего мира. Он одновременно видел и бренность, и очевидность, и притворство всех вещей. "Гармония сфер слышится лишь спьяну!"-подумал он. Порывы ее налетали на Мотыча, словно он стоял в осенней аллее, когда ветер поднимает вверх то, что едва успел бросить наземь, как будто у него не хватило сухих листьев для устройства листопада, если бы он не велел им по нескольку раз повторять одно и то же.
Но одновременно радость все больше завладевала Мотычем.
Все у Штемлеров казалось ему таким веселым, и каждый отдельный человек, и каждая ситуация созрела для того, чтобы посмеяться над нею, такая она комичная-и оттого, что очень забавная, и оттого также, что банальная. Шутка вообще, не обретшая еще точных очертаний, но очень размашистая, охватывала здесь все, все затягивала в себя, проникала в каждый уголок.
Мотыч любовался ею.
Белая, сверкающая стена из кафеля. В зажимах рулон туалетной бумаги, специально вставленный на сегодняшний вечер, толстый, в руках не поместится. Это рассмешило Мотыча. Такая предусмотрительность. Такой запас. Последний, кто тут сидел, догадался Мотыч, был неврастеником. После одного рывка бумажная лента свисала чуть ли не до самого пола. Лента словно гранка! Может, из этого удалось бы выкроить шутку. Но ничего определенного Мотычу в голову не приходило. Он отогнул проволочки, снял валик, выдавил середину. Получился сначала как бы холмик, затем клоунский колпак, потом что-то похожее на длинный манжет. Мотыч засунул в него руку по самый локоть. И ринулся к двери. Мысль показалась ему великолепной. Что-то вроде повязки. Многим уже случалось на весь вечер обессмертить себя одним фокусом. В прихожей с первого же попавшегося пальто он вытянул поясок, завязал под локтем. Не успел справиться с этим, как рядом оказались две помощницы, жаждавшие принять участие в розыгрыше. Они будут сопровождать его, поддерживая, будто инвалида. Гостиная, столовая-резервация пожилых, и они туда не пошли. В библиотеку! Тут первый миг триумфа. Одних разбирает любопытство, другим как-то не по себе от мысли, где взяли реквизит, но в основном это как раз всех и прельщает. Чатковский говорит Бишетке:
– Вот метафора овеществленного мира. Туалетная бумага, а в переносном смысле – повязка.
Говорек не может сдержаться:
– Дайте-ка мне, теперь я!
Товитка, разгоряченная, вмешивается:
– Самому надо было придумать. Тоже мне! – Мотыч кажется ей таким необыкновенным. Говорек хочет отнять, рвет бумагу.
Мотыч бьет его по рукам, кричит:
– Портач?
– Парта что? – Говорек острит, делая вид, что не слышит.
Рулон падает, раскручивается.
– Видите, что вы наделали, – горюет о случившемся Товитка, поднимает вместе с Мотычем и Бишеткой бумагу, старается поправить дело, сердито бормочет: – Глупый бык!
На сей раз Говорек действительно не слышит, а Медекша только притворяется. Он не важничает, почти совсем домашний, держится поближе к молодежи, при нем можно выкаблучиваться как хочешь. Впрочем, сейчас он стоит спиной к ним, гладит пальцами корешки книг, рядами, словно частокол, поднимающихся к самому потолку. То и дело вытягивает какую-нибудь.
Посмотрит, полистает, ставит на место. Глаза и мысли его блуждают порознь. Ибо, даже когда читает, он не перестает прислушиваться к тому, что творится у него за спиной. Чудаки.
Вот теперь этот Мотыч находит на письменном столе Штемлера стекло от часов. Будет монокль. Всем по очереди вставляет его в глаз, смотрит, кому как идет. Наконец собирает по пряди волос над ушами, делает из них что-то вроде баков, подтягивает отвороты смокинга так, что под шеей белый треугольник воротничка становится совсем крошечным. Строит глазки. Вертит задом. Все вместе-бледная тень денди столетней давности.