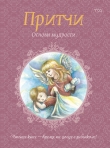Текст книги "Только для голоса"
Автор книги: Сюзанна Тамаро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Стало общим местом говорить о том, что собаки со временем становятся похожи на своих хозяев. Мне казалось, что с моим мужем происходит то же самое: он все явственнее делался похожим на некое жесткокрылое насекомое. Его движения стали угловатыми и резкими, а голос лишился всякого тембра и звенел металлически, доносясь из какого-то совершенно непонятного места в горле. Он был одержим насекомыми и своей работой, и кроме этих двух занятий не существовало больше ничего, что могло бы хоть чуточку взволновать его.
Однажды он показал мне, держа пинцетом, какое-то ужасное насекомое, кажется, оно называлось кузнечик-крот. «Посмотри, какие челюсти, – восхитился он, – с такими челюстями действительно можно есть что угодно». Той же ночью муж приснился мне в виде этого насекомого: огромный-преогромный, он с хрустом пожирал мое свадебное платье, словно оно было скроено из картона.
Спустя год мы предпочли спать в разных комнатах. Аугусто допоздна засиживался со своими жесткокрылыми и не хотел беспокоить меня, так он, во всяком случае, объяснял мне. Рассказанная подобным образом история моего замужества, наверное, покажется тебе ужасной, необыкновенной, но ничего необычного в ней нет. Браки в ту пору почти все были похожими, превращаясь со временем в эдакий небольшой домашний ад, в котором кто-то рано или поздно был обречен погибнуть.
Почему я не восставала? Почему не собирала чемодан, чтобы вернуться в Триест?
Потому что в то время не разрешались разводы, нельзя было даже просто разъехаться по разным домам. Чтобы расторгнуть брак, требовались очень веские основания – надо было доказать, что кто-то из супругов слишком жестоко обращается с другим, мучает, истязает его; или же надо было обладать боевым темпераментом, бежать из дома, навсегда скрыться и скитаться по миру. Но воинственностью, как ты знаешь, я не отличаюсь; Аугусто же не только пальцем никогда не тронул меня, но даже голоса ни разу не повысил. Я никогда ни в чем не знала недостатка. По воскресеньям, возвращаясь с мессы, мы заходили в кондитерскую братьев Нурция, и он предлагал мне купить все, что я только пожелаю. Тебе нетрудно представить, с какими чувствами я просыпалась каждое утро. После трех лет замужества у меня в голове жила только одна мысль: как бы умереть.
О своей первой жене Аугусто никогда ничего не говорил мне, а в очень редких случаях, когда я осторожно спрашивала о ней, сразу же уходил от разговора. Со временем, бродя сумрачными зимними днями по призрачным комнатам, я пришла к выводу, что Ада – так звали его первую жену – умерла не от болезни или несчастного случая, а покончила с собой. Когда прислуга куда-нибудь уходила, я занималась тем, что обыскивала дом, роясь всюду, где только можно, во всех ящиках и комодах, яростно разыскивая хоть малейший след, хоть какой-либо намек, который подтвердил бы мое подозрение.
И вот как-то в серый дождливый день я обнаружила в самой нижней части шкафа незнакомую женскую одежду. Ее платья, догадалась я. Достала одно из них, темное, и надела. У нас оказались одинаковые фигуры. Глядя на себя в зеркало, я заплакала. Слезы текли почти незаметно, я плакала беззвучно, не всхлипывая, как человек, который уже точно знает, что обречен.
В одной комнате я нашла в углу невысокую скамеечку для коленопреклонения во время молитвы. Она принадлежала матери Аугусто, женщине очень набожной. Когда я не знала, чем занять себя, то запиралась в этой комнате и часами стояла на коленях, благоговейно сложив руки. Молилась ли я? Не знаю. Я говорила или пыталась говорить с кем-то, кто, как я полагала, находился где-то в небесных высях. Я просила: «Господи, помоги мне найти мой истинный путь. Если же моя судьба – это моя теперешняя жизнь, то помоги мне вынести ее».
Привыкнув посещать церковь, – мне приходилось делать это, сопровождая мужа, – я опять стала задумываться над вопросами, которые похоронила внутри себя еще в детстве. Ладан притуплял мои чувства, а органная музыка умиротворяла. Когда же я слушала чтение Священного Писания, что-то слабо вибрировало в моей душе. Однако, встречая священника на улице без церковного облачения, я смотрела на его пористый нос, похожий на губку, видела его поросячьи глаза, выслушивала его банальные и неимоверно фальшивые вопросы, и больше уже ничто не вибрировало во мне. Тогда я говорила себе – увы, все это не более чем обман, попытка помочь слабым душам вытерпеть гнет, под каким им приходится жить. Но в домашней тишине я любила читать Евангелие. Многие слова Иисуса я находила необыкновенными. Они настолько глубоко волновали меня, что я не раз громко повторяла их вслух.
Моя семья была совершенно безразлична к религии. Отец считал себя свободным мыслителем, а мать, из второго поколения обращенных в христианство, как я тебе однажды говорила, посещала мессу лишь из социального конформизма. В редких случаях, когда я расспрашивала ее о вере, она отвечала: «Не знаю, у нашей семьи нет религии».
Нет религии. Эта фраза громадным камнем давила на меня в самую чувствительную пору моего детства, когда я задавалась вопросами о самых важных проблемах бытия. Было нечто вроде печати позора в словах моей матери, мы отринули одну религию, чтобы прийти к другой, к которой, однако, не питали ни малейшего уважения. Мы оказались предателями, а для предателей, то есть для нас, не было места ни на земле, ни на небе – нигде.
Поэтому, если не считать кое-каких анекдотов, услышанных от монахинь, я до тридцати лет не знала о религии, в сущности, ничего. Царство Божие внутри нас, повторяла я, шагая по пустому дому. Твердя эти слова, я пыталась представить себе, а где же именно. Я чувствовала, как мой внутренний взгляд проникал, подобно перископу, внутрь меня и изучал все закоулки моего тела, все самые загадочные извилины мозга. Где же оно, это Царство Божие? Мне никак не удавалось отыскать его, мое сердце окутывал плотный туман, и нигде не видно было светлых зеленых холмов, каким представляется нам рай.
В минуты просветления я говорила себе, что схожу с ума, как старые девы и вдовы; медленно и неотвратимо я впадала в какой-то мистический бред. После четырех лет такой жизни я все с большим трудом отличала ложное от истинного. Колокола стоявшего рядом собора звонили каждые четверть часа. Чтобы не слышать их или как-то заглушить, я затыкала уши ватой.
У меня вдруг возникла навязчивая идея, будто насекомые из коллекции Аугусто вовсе не мертвы; по ночам мне слышалось шуршание их лапок по всему дому, они появлялись повсюду, ползали по обоям, скользили по кафельным плиткам на кухне, расползались по коврам в гостиной. А я лежала в кровати, затаив дыхание, и ожидала, что вот-вот сейчас они пролезут в щель под дверью в мою комнату и подберутся ко мне.
От Аугусто я старалась скрыть свое состояние. Утром с улыбкой на губах я сообщала ему, что именно собираюсь придумать на обед, и продолжала улыбаться, пока он не выходил из дома. И с точно такой же стереотипной улыбкой я встречала его вечером.
Как и мой брак, война длилась уже пять лет, в феврале бомбы были сброшены и на Триест. При последней бомбардировке был полностью разрушен дом моего детства. Единственной жертвой этого налета оказалась лошадь, возившая коляску моего отца, – ее нашли посреди сада без двух ног.
В те времена еще не было телевидения, новости путешествовали медленнее. О том, что родители остались без жилья, я узнала лишь на следующий день. Позвонил отец, и уже по интонации, с какой он произнес «Алло», я поняла – случилось что-то очень серьезное: у него был голос человека, давно уже распростившегося с жизнью. Не имея теперь даже дома, куда можно было бы вернуться, я почувствовала себя окончательно потерянной.
Два или три дня я бродила по квартире словно в воду опущенная, и ничто не могло вывести меня из оцепенения. Беспросветное однообразие безликих дней, монотонной чередой тянущихся до самой смерти, – таким виделось мне собственное будущее.
Знаешь, какую ошибку чаще всего допускают люди? Когда полагают, будто жизнь протекает без изменений, будто встав однажды на какие-то рельсы, по этой колее непременно надо ехать до самого конца. У судьбы же, напротив, куда более богатая фантазия, нежели у нас. И как раз тогда, когда ты считаешь, что положение совершенно безвыходное, когда доходишь до предела отчаяния, все внезапно круто меняется, словно от порыва сильного ветра, все переворачивается, и ты вдруг оказываешься совсем в другой жизни.
Через два месяца после бомбардировки нашего дома война окончилась. Я сразу же поспешила в Триест. Мои мать и отец уже перебрались временно в какую-то квартиру, деля ее с чужими людьми, и мне пришлось заниматься таким множеством разных хлопот, что уже через неделю я совсем забыла о годах, прожитых в Акуиле.
Месяцем позже приехал и Аугусто, ему предстояло вновь взять в свои руки предприятие, купленное у моего отца, в годы войны оно практически не функционировало. К тому же мои родители теперь остались без крова и были уже совсем старыми. С быстротой, которая буквально поразила меня, Аугусто решил расстаться со своим родным городом и переехать в Триест, купил этот наш дом на плоскогорье, и уже в конце лета мы переехали сюда и стали жить все вместе.
Вопреки предположениям моя мать первой ушла от нас, она умерла в конце весны. Ее упрямый нрав не выдержал бремени страха и длительного одиночества в горах. После ее утраты во мне с новой силой пробудилось желание иметь ребенка. Я вновь стала спать вместе с Аугусто в одной кровати, но все равно между нами мало что или вообще ничего не происходило по ночам. Я много времени проводила в саду возле отца. Именно он намекнул как-то после обеда, ярким солнечным днем: «С печенью и с женщинами минеральные воды творят чудеса».
Две недели спустя Аугусто проводил меня на поезд в Венецию. Оттуда где-то около полудня я должна была отправиться в Болонью и, сделав еще одну пересадку, добраться до Порретта-Терме. По правде говоря, я мало верила в пользу этих вод. Я решила поехать прежде всего потому, что мне очень хотелось побыть одной, чувствовала, что мне крайне необходимо остаться наедине с собой, как бывало когда-то в минувшие годы. Я страдала. Душа моя точно омертвела и походила на выжженный огнем луг – кругом все было черным, обуглившимся. И лишь благодаря дождю, солнцу, воздуху то немногое, что еще оставалось в почве, могло постепенно обрести энергию, чтобы взрасти заново.
10 декабря
С тех пор как ты уехала, я не читаю больше газет, без тебя их некому покупать, а никто другой не приносит. Поначалу мне их недоставало, но потом неудобство мало-помалу обернулось облегчением. И тогда я вспомнила священника Исаака Зингера. Среди привычек современного человека, говорил он, чтение ежедневных газет – одна из самых худших. Утром, в тот момент, когда душа особенно открыта, газеты обрушивают на человека все самое плохое, что совершилось в мире накануне. В его время вполне было достаточно просто не читать газет, чтобы спастись от них, сегодня такое уже невозможно; теперь существуют радио и телевидение, стоит включить их хоть на секунду, и зло тотчас настигает нас, ты оказываешься в самом центре всех несчастий.
Так произошло и сегодня утром. Пока одевалась, услышала в областных новостях, что каравану судов с беженцами разрешили пересечь границу. Они стояли на рейде уже четыре дня, пассажиров на берег не пускали, но и обратно отправить не могли. На судах находились старики, больные, женщины с детьми. Первая партия беженцев, как сообщил диктор, уже добралась до лагеря Красного Креста и получила срочную помощь.
Война, самая настоящая война, идущая совсем рядом, вызывает во мне глубокие переживания. С тех пор как она началась, я живу с занозой, вонзившейся в сердце. Банальное сравнение, но при всей избитости оно верно передает мое ощущение. Спустя год к боли прибавилось возмущение, – казалось, этого не может быть, чтобы никто не мог вмешаться и положить конец подобному безумию. Со временем мне пришлось смириться: там нет нефтяных вышек, там лишь каменистые горы. Потом возмущение перешло в озлобление, и злость продолжала точить меня, словно упорный древесный червь.
Конечно, смешно, что в мои годы меня так потрясает война. В сущности, на земле каждый день воюют десятки и сотни людей. За восемьдесят лет у меня должно было бы появиться нечто вроде мозоли, пора бы и привыкнуть. С самого моего детства по высокой, желтой траве нашего плоскогорья все время либо брели беженцы, либо проходили победившие или побежденные армии: сначала двигались эшелоны с пехотой, направлявшиеся на большую войну, и у нас рвались бомбы; затем тянулись ветераны русской и греческой кампаний, жертвы фашистской и нацистской резни, пострадавшие от безумных кровопролитий; и вот опять грохочут пушки на границе, и мы переживаем новый исход ни в чем не повинных людей, беженцев из этого огромного балканского безумия.
Несколько лет тому назад я ехала поездом из Триеста в Венецию и оказалась в купе с одной женщиной-медиумом. Это дама в шляпке-лепешке была немного моложе меня. Поначалу я не знала, разумеется, что она медиум, но она сама сообщила об этом в беседе со своей соседкой.
«Знаете, – сказала она в тот момент, когда поезд шел по плоскогорью Карст, – если я бываю в этих местах, то слышу голоса всех убитых; и двух шагов не пройду, как они тотчас оглушают меня. Такие жуткие крики, и чем моложе мертвые, тем громче их стенания». И она объяснила, что в том месте, где было совершено какое-нибудь насилие, в атмосфере происходят необратимые изменения: воздух словно теряет свою плотность; казалось, он должен стать мягче, должен рождать у людей добрые чувства, так нет, происходит совсем наоборот – здесь снова свершаются кровопролития. Словом, там, где однажды пролилась кровь, прольется новая, а потом еще и еще. «Земля, – заключила женщина-медиум, – она, как вампир, – едва отведает крови, как тотчас жаждет свежей и побольше».
Многие годы я задавалась вопросом, не кроется ли в местности, где нам довелось жить, какое-нибудь проклятье, я все время думаю об этом, но так и не нахожу ответа. Помнишь, как часто мы поднимались с тобой на утес Монрупино? В те дни, когда дула бора[1]1
Холодный, порывистый ветер большой силы, дующий с вершин хребта, находящегося у самого берега моря. – Здесь и далее примеч. перев.
[Закрыть], мы долгие часы проводили там, любуясь панорамой, открывавшейся внизу перед нами, словно с борта самолета. Обзор простирался на 360 градусов, и мы соревновались, кто первой различит какую-нибудь вершину Доломитов, кто отличит Градо от Венеции. Теперь я уже физически не в состоянии подняться на утес, и, чтобы увидеть любимый пейзаж, мне приходится просто закрывать глаза.
Благодаря волшебству памяти картина предстает передо мной так отчетливо, словно я нахожусь на бельведере Монрупино. Я вижу и ощущаю абсолютно все вокруг – даже шум ветра, даже запахи любого времени года, какое вызову в своем воображении. Я как бы стою там и смотрю на известковые столбы, изъеденные временем, на огромное ровное пространство, где маневрируют танки, на темный мыс Истрии, уткнувшийся в голубизну моря, оглядываю все вокруг и бог знает в который раз спрашиваю себя – если есть тут хоть одна фальшивая нота, то где же она?
Я люблю этот пейзаж, и моя любовь к нему, наверное, позволяет мне разрешить интересующую меня проблему: единственное, в чем я абсолютно уверена, – местность несомненно влияет на характер людей, живущих там. Вот почему я бываю иной раз грубой и резкой, вот почему и ты точно такая же, – этим мы обязаны Карсту, эрозии этого плоскогорья, его краскам и ветру, постоянно бичующему этот край. А родись мы, кто знает, ну, скажем, среди равнинных холмов Умбрии, может, характер наш был бы мягче и вспышки гнева реже посещали бы нас. Лучше было бы? Не знаю, мне трудно представить ситуацию, которую лично не переживала.
Так или иначе, небольшой знак судьбы все же посетил меня: сегодня утром, придя на кухню, я нашла дрозда лежащим бездыханно среди тряпья. Последние два дня уже было заметно, что ему плохо, он почти перестал есть и, клюнув разок-другой, вдруг засыпал. Умер он, видимо, на рассвете, потому что, когда я тронула его головку, та безжизненно повисла, и кроме того, у него словно сломалась какая-то пружинка внутри. Он стал невесомым, хрупким, холодным. Я приласкала его, прежде чем завернуть в тряпочку, хотелось хоть немного согреть птенца.
За окном падал густой снег, я заперла Бэка в комнате и вышла в сад. У меня нет уже сил взять лопату и копать, поэтому я выбрала клумбу, где почва была помягче, и, продавив ногой небольшую ямку, опустила в нее дрозда, прикрыла его землей и прежде, чем вернуться в дом, прочитала молитву, которую мы всегда повторяли с тобой, когда хоронили наших птичек. «Господи, прими эту крохотную жизнь, как принял все другие».
Помнишь, когда ты была ребенком, скольким птицам мы помогали выжить, скольким пытались спасти жизнь? Каждый раз после сильного ветра мы находили какую-нибудь раненую птичку. Это были зяблики, синицы, воробьи, дрозды, а однажды даже клест. Мы делали все возможное, стараясь вылечить их, но наши усилия почти никогда не завершались успехом, через день-другой, без каких-либо предварительных грозных признаков, мы находили их мертвыми. Какую трагедию переживали мы в тот день. И хотя такое случалось не раз, ты все равно сильно страдала. После похорон ты утирала ладонью нос и глаза, а потом уходила к себе – «раздвигать комнату».
Однажды ты спросила меня, а как мы найдем маму, ведь небо такое огромное, там легко потеряться. Я сказала тебе, что небо – это нечто вроде большой гостиницы, где у каждого своя комната и все любят друг друга, после смерти родные обязательно встречаются в небесах и навсегда остаются вместе. На некоторое время такое объяснение успокоило тебя. Только после гибели твоей пятой или шестой золотой рыбки ты снова вернулась к своим сомнениям и спросила: «А если там не хватит места для всех?» – «Если не хватит места, – объяснила я, – нужно закрыть глаза и целую минуту повторять: “Комната, раздвинься!” И тогда комната сразу станет больше».
Помнишь ли ты еще свои детские опасения, или же твоя короста-кольчуга отправила их в далекое изгнание? Свои фантазии я вспомнила только сегодня, когда хоронила дрозда. «Комната, раздвинься!» – какое прекрасное колдовство! Конечно, если собрать всех умерших – твою маму, клестов, воробьев, золотых рыбок, – в твоей спальне станет тесно, как на трибуне стадиона. Скоро в последний путь отправлюсь и я. Пустишь ли ты меня к себе в комнату или мне придется снимать другую, рядом? Смогу ли я пригласить к себе человека, которого любила, отважусь ли познакомить тебя наконец с твоим подлинным дедушкой?
О чем думала я, что могла предположить в тот сентябрьский вечер, когда вышла из поезда на станции Порретта? Абсолютно ничего. В воздухе чувствовался запах каштанов, и моей первой заботой было разыскать пансион, где я заказала комнату. Я оставалась тогда еще очень наивной и не ведала о постоянных происках судьбы, а мои убеждения сводились лишь к одному, будто все на свете происходит исключительно благодаря тому, насколько хорошо или плохо я использую собственную волю. Но в тот момент, когда я ступила на перрон и поставила рядом чемодан, моя воля пребывала буквально на нуле, мне совершенно ничего не хотелось, вернее, я желала только одного – обрести наконец покой.
Твоего дедушку я встретила в первый же вечер. Он ужинал с каким-то мужчиной в столовой пансиона, где я остановилась. Они довольно горячо спорили о политике, и мне сразу же не понравился тон его голоса. За ужином я дважды с нескрываемым недовольством взглянула на него. И знаешь, какой сюрприз – буквально на другой же день я узнала, что этот человек, оказывается, врач курорта!
Минут десять он расспрашивал меня о состоянии здоровья, а когда предложил раздеться, со мной сотворилась ужасная неприятность – я вдруг начала так ужасно потеть, словно совершала какую-то тяжелую работу. Слушая мое сердце, он воскликнул: «О-ля-ля, какой испуг!» – и довольно неприятно рассмеялся. Он начал качать воздух в манжету для измерения давления, серебряный столбик манометра подскочил к самому верху и медленно пополз вниз. «У вас всегда такое высокое давление?» – поинтересовался он.
Я негодовала на самое себя, убеждала, что пугаться тут совсем нечего, ведь он всего лишь врач, исполняющий свою работу, и глупо, просто несуразно так волноваться, но сколько ни твердила себе это, все безрезультатно. В дверях, протянув листок с назначениями процедур, он пожал мне руку и посоветовал: «Отдыхайте, успокойтесь, иначе никакие воды не помогут».
В тот же вечер после ужина он подошел и сел за мой стол. На следующий день мы уже прогуливались вдвоем по улочкам города, беседуя о разных разностях. Его кипучая экспансивность, которая поначалу так не понравилась мне, теперь неожиданно привлекла меня. Во всем, что он говорил, ощущались страсть, увлеченность, было невозможно, находясь рядом с ним, не почувствовать теплоту его слов и тепло его тела.
Недавно я прочитала в какой-то газете, будто, согласно последним теориям, любовь начинается не в глубине сердца, а, представь себе, в носу. Когда два человека, встретившись, проникаются взаимной симпатией, они начинают посылать друг другу какие-то крохотные флюиды, названия которых я не припомню, через нос эти флюиды проникают в мозг и там, в одном из потайных лабиринтов, поднимают любовную бурю. Так что любовь, заключал автор статьи, это не что иное, как невидимые дурные запахи. Какая жуткая чушь! Кто испытал в жизни настоящую любовь, большую любовь, невыразимую никакими словами, тот знает, что подобные утверждения не что иное, как невесть какая уже по счету попытка опошлить великое чувство. Безусловно, запах любимого человека вызывает приятное волнение. Но еще прежде должно произойти что-то другое, нечто такое, я уверена, что весьма отличается от обычного запаха.
Находясь тогда рядом с Эрнесто, я вдруг впервые в жизни испытала удивительное ощущение – мне показалось, будто тело мое не имеет пределов, его окутывает какое-то невидимое сияние, а контуры стали как будто шире и вибрировали в воздухе при каждом моем движении.
Знаешь, как ведут себя растения, если не поливать их несколько дней? Листья никнут и вместо того, чтобы тянуться к свету, ниспадают, словно уши напуганного кролика. Так вот, моя жизнь в предыдущие годы была точно такой же, как у растений, лишенных воды. Ночная роса давала мне минимум влаги, необходимой для поддержания жизни, но помимо нее я не получала ничего другого, у меня хватало сил лишь кое-как держаться на ногах, и все. Но ты знаешь, что достаточно полить растение хотя бы раз, как оно сразу же возвращается к жизни и его листья вновь становятся упругими. Так произошло в первую же неделю на курорте и со мной. Через шесть дней после приезда, глядя на себя утром в зеркало, я обнаружила, что стала другой. Кожа разгладилась, глаза заблестели, и, одеваясь, я вдруг заметила, что напеваю какую-то мелодию, чего не делала уже с самого детства.
Слушая отчужденно мою историю, ты, вполне естественно, подумаешь, что за этой эйфорией, наверное, скрывались проблемы, тревога, страдание. В конце концов, я ведь была замужней женщиной, как же я могла с такой легкостью проводить время в обществе постороннего мужчины? На самом же деле у меня не возникало ни проблем, ни опасений, и вовсе не потому, что я была лишена всяких предрассудков. Скорее всего потому, что мои переживания касались лишь моего тела и только тела. Я походила на щенка, долго блуждавшего зимой по улицам и нашедшего наконец спасительную нору. Он ни о чем не думает, сидит в ней и наслаждается теплом. Кроме того, я была слишком невысокого мнения о своих женских чарах и потому даже не догадывалась, что мужчина может питать ко мне чувственный интерес.
В первое воскресенье, когда я направилась на мессу в церковь, Эрнесто притормозил возле меня свою машину. «Куда идете? – поинтересовался он, высовываясь в окошко, и, выслушав мой ответ, сразу же открыл дверцу со словами: – Поверьте мне, Господь будет куда более удовлетворен, если вместо церкви вы отправитесь на прекрасную прогулку в лес». После немалых кругов и поворотов мы остановились у тропинки, уходившей в глубину каштановой рощи. Туфли у меня были совсем непригодны для лесной прогулки, и я все время спотыкалась. Когда же Эрнесто взял меня за руку, это показалось мне самым естественным, что только может быть на свете.
Мы долго шли молча. В воздухе стоял запах осени, земля была влажная, на деревьях многие листья уже желтели, солнечный свет, пробиваясь сквозь кроны деревьев, все время менялся – был то ярче, то слабее. Наконец мы оказались на поляне, посреди которой высился огромный каштан. Вспомнив о своем дубе, я подошла к нему, приласкала и прижалась к стволу щекой. А Эрнесто тотчас прислонил свою голову к моей. С тех пор как мы познакомились, наши глаза еще ни разу не встречались так близко.
На следующий день я не захотела видеть его. Дружба переходила во что-то другое, и мне нужно было время все хорошенько обдумать. Я ведь была уже не девочкой, а замужней женщиной, осознающей свой долг; он тоже был женат и к тому же имел сына. Прежде я уже не раз представляла себе всю собственную жизнь до самой старости и тогда страшно испугалась, обнаружив, что не предусмотрела, будто этот распорядок может быть чем-то нарушен. Я не знала, как себя вести.
Все новое при первой встрече обычно пугает, и, чтобы действовать дальше, нужно преодолеть это чувство тревоги. Поэтому порой я думала: «Это ужасная глупость. Самая большая в моей жизни, я должна все позабыть и зачеркнуть то немногое, что было между нами». А минуту спустя уже уверяла себя, что самой большой глупостью был бы именно отказ от всего, так как впервые с детских лет я снова почувствовала себя живым существом; все во мне и вокруг меня трепетало, и мне представлялось, что просто невозможно отказаться от нового состояния. К тому же в глубине моей души, естественно, таилось подозрение, какое бывает или по крайней мере бывало у каждой женщины: не насмехается ли он надо мной, не хочет ли просто поразвлечься и бросить? Такие мысли бродили в голове, пока я лежала в печальной комнате пансиона.
В ту ночь я не смогла уснуть до четырех часов: была слишком возбуждена. А наутро, как ни странно, ничуть не чувствовала себя усталой и, одеваясь, напевала; за прошедшие несколько часов во мне родилась чудовищная жажда жизни. На десятый день пребывания на водах я отправила Аугусто открытку. «Воздух прекрасный, питание посредственное. Будем надеяться», – написала я и поприветствовала мужа дружеским объятием. Ночь накануне я провела с Эрнесто.
Именно в эту ночь я и сделала неожиданно для себя одно важное открытие, а именно: между нашим телом и душой существует множество небольших окошек, и через них-то, если они открыты, и проникают чувства. Если окошки слегка прикрыты, они кое-что еще пропускают, но одна лишь любовь способна, подобно порыву сильного ветра, внезапно распахнуть их все.
В последнюю неделю моей жизни в Порретте мы все время проводили вместе, много гуляли и столько говорили, что даже во рту пересыхало. Как отличались беседы с Эрнесто от разговоров с Аугусто! Все в нем дышало страстью, пылом, он умел невероятно просто говорить о самых сложных вещах. Мы часто беседовали о Боге, о том, что, возможно, помимо реальной действительности существует еще что-то. Он воевал в Сопротивлении, не раз смотрел смерти в глаза. В такие минуты у него и возникла мысль о высшем предопределении, и не от страха, конечно, а оттого, что в эти мгновения сознание словно расширялось и проникало в какое-то другое необъятное пространство. «Не могу соблюдать ритуалы, – говорил он мне, – никогда не войду ни в одно культовое здание, ни за что не стану верить в догмы, в события, придуманные такими же людьми, как я сам». Мы мыслили абсолютно одинаково и едва ли не в один голос, перебивая друг друга, произносили одни и те же слова и фразы. Нам казалось, мы знакомы уже многие годы, а не какие-то две недели.
Нам оставалось побыть вместе совсем немного, и в последние ночи мы спали не больше часа – лишь бы немного восстановить силы. Эрнесто был необычайно увлечен мыслью о предначертании судеб. «В жизни каждого мужчины, – утверждал он, – существует только одна женщина, с которой он достигает идеального единения, и в жизни каждой женщины тоже существует только один мужчина, которого она дополняет». И найти друг друга суждено немногим, очень немногим. Все остальные обречены на вечную неудовлетворенность, неизменную ностальгию. «Сколько может быть таких счастливых встреч? – рассуждал он в темноте комнаты. – Одна на десять тысяч, одна на миллион, на десять миллионов?» Одна на десять миллионов, да. Все остальное – это приспособление друг к другу, поверхностная симпатия, преходящее увлечение, физическое сходство или близость характеров, подчинение социальным условностям. Говоря все это, он только и делал, что повторял: «Как же нам повезло, не правда ли? Кто знает, что стоит за подобным единением? Кто знает?!»
В день отъезда, когда мы ожидали поезда на маленьком вокзале, он обнял меня и шепнул на ухо: «В какой из наших прежних жизней мы с тобой познакомились?» – «Во многих», – ответила я и заплакала. В сумочке у меня был спрятан его адрес в Ферраре.
Надо ли описывать тебе мои чувства в те долгие часы, пока я возвращалась домой. Они были слишком лихорадочны, можно сказать, «вооружены одно против другого». Я понимала, что за время, пока я находилась в пути, мне необходимо как-то изменить себя, я то и дело заходила в туалет посмотреться в зеркало и проверить выражение своего лица. Блеск глаз и улыбку следовало погасить. Лишь некоторый румянец на щеках можно было оправдать хорошим воздухом. Отец и Аугусто нашли, что я необыкновенно похорошела. «Я знал, что воды делают чудеса», – без конца повторял мой отец, тогда как Аугусто – что было совершенно невероятно для него – одарил меня мелкими любезностями.
Когда ты тоже впервые по-настоящему полюбишь, то поймешь, сколь различными и смешными могут быть проявления этого чувства. Пока ты не влюблена, пока твое сердце свободно и ты не видишь вокруг мужчин, которые могли бы интересовать тебя, никто, ни один из них не удостоит тебя своим вниманием; но потом, когда ты увлечешься одним-единственным человеком и тебе будут совершенно безразличны все остальные, вот тут-то они и начнут тебя преследовать, сыпать комплименты и назойливо ухаживать. Это воздействие тех окошек, о которых я говорила раньше. Когда они открыты, тело ярко освещает душу, и душа точно так же освещает тело, словно два зеркала, отражающие друг друга. И вокруг тебя очень быстро возникает нечто вроде золотистого, мягкого сияния, и оно притягивает других мужчин, точно мед медведей. Аугусто не избежал такого воздействия, и мне тоже, хоть это и покажется тебе странным, было нетрудно оставаться с ним ласковой. Конечно, будь Аугусто не в такой мере человеком не от мира сего, будь он хоть чуточку более приземленным и похитрее, ему бы не составило труда понять, что произошло со мной. Впервые с тех пор, как мы были женаты, я вдруг оказалась благодарна его отвратительным насекомым.