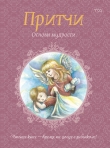Текст книги "Только для голоса"
Автор книги: Сюзанна Тамаро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
20 ноября
Вот опять сижу на прежнем месте. Сегодня третий день наших встреч. Вернее, четвертый день и третья встреча. Вчера я ощущала такую усталость, что ничего больше не смогла ни написать, ни даже прочитать. Я испытывала какое-то беспокойство и, не зная, чем занять себя, весь день бродила то по дому, то по саду. Погода стояла довольно мягкая, и самые жаркие часы я провела на скамье возле куста форсиции. Лужайка вокруг дома и клумбы были в полном беспорядке. Глядя на них, я вспомнила нашу ссору из-за опавших листьев. Когда это было? В прошлом году? А может, года два назад? Меня мучил тогда бронхит, который долго не проходил.
Деревья уж все оголились, и ветер разносил опавшие листья. Выглянув в окно, я очень расстроилась – небо было хмурое и все вокруг такое грустное, унылое. Я вошла в твою комнату, ты лежала на постели с наушниками и слушала музыку. Я попросила тебя сгрести листья. Чтобы ты услышала меня, пришлось несколько раз повторить просьбу, все громче и громче. Ты пожала плечами и спросила: «А зачем? В природе никто их не собирает. Лежат себе да гниют, и все в порядке». Природа в те времена была твоим верным союзником, ее нерушимые законы помогали тебе оправдывать все, что угодно.
Я не стала объяснять тебе, что сад – это прирученная природа, так сказать природа-собака, которая с каждым годом все больше становится похожа на своего хозяина и точно так же, как собака, нуждается в постоянной заботе. Я просто-напросто ушла в гостиную, ни слова не сказав тебе.
Вскоре, желая перекусить, ты прошла мимо меня на кухню. Ты видела, что я плачу, но притворилась, будто не заметила этого. И только вечером, когда пришло время ужина, ты снова появилась из своей комнаты и спросила: «А что у нас сегодня едят?» Ты увидела, что я все еще сижу на том же месте и по-прежнему плачу. Тогда ты пошла на кухню и принялась греметь кастрюлями. «Что хочешь – шоколадный пудинг или яичницу?» Ты поняла, что моя боль была искренней, и попыталась проявить доброту, сделать мне что-нибудь приятное.
Утром, открыв ставни, я увидела тебя на лужайке. Шел сильный дождь, а ты, в желтой куртке, сгребала листья. Когда около девяти ты вернулась в дом, я притворилась, будто ничего не видела. Я знаю, что больше всего на свете ты ненавидишь ту самую частицу себя, которая порой вынуждает тебя быть доброй.
Сегодня утром, с грустью глядя на клумбы в саду, я подумала, что надо бы пригласить кого-нибудь, кто приведет их в порядок, ведь я немного запустила цветник за время болезни, да и после нее тоже. Вернувшись из больницы, я все собиралась сделать это, но так и не решилась. С годами я стала до удивления ревниво относиться к саду, и теперь ничто на свете не остановит меня, если надо полить георгины или срезать увядший лист. Как странно, ведь в молодости я не любила возиться в саду.
В те годы иметь сад значило, на мой взгляд, не столько обладать некой привилегией, сколько обременять себя лишними хлопотами. Стоило на два или три дня забыть про него, как тотчас прекрасный, с таким трудом достигнутый порядок снова превращался в хаос, а именно хаос и досаждал мне больше всего. Ведь во мне самой не было стержня, а потому я не терпела, если меня окружали те же аморфность и неупорядоченность. Мне бы следовало вспомнить об этом, когда я попросила тебя сгрести опавшие листья!
Есть вещи, которые человек может понять только в определенном возрасте, и не раньше. Среди них – взаимосвязь с домом, со всем, что находится внутри и вокруг него. В шестьдесят, в семьдесят лет вдруг понимаешь, что дом и сад – это не просто дом и сад, которые ты выбрал из-за удобства, красоты или по воле случая; нет, ты сознаешь, что это именно твой дом, твой сад, что они принадлежат тебе, подобно тому, как раковина принадлежит моллюску, укрывающемуся в ней. Ты создала эту раковину своими силами, на ее сводах выгравирована вся история твоей жизни, дом-раковина оберегает тебя, укрывает, окружает со всех сторон, и, верно, даже смерть не освободит его от твоего присутствия, от радостей и страданий, которые ты испытала в нем.
Вчера вечером мне не хотелось читать, и потому я смотрела телевизор. Не столько смотрела, по правде говоря, сколько слушала, потому что уже через полчаса задремала. До меня долетали обрывки фраз, как бывает, когда засыпаешь под стук колес поезда и разговоры пассажиров доносятся обрывками, лишенными смысла. Рассказывали про какое-то журналистское расследование о сектах конца нашего тысячелетия. Истинные и мнимые духовные лидеры давали интервью, и в потоке их речей все чаще мелькало слово «карма». Услышав его, я сразу вспомнила своего лицейского преподавателя философии.
Он был молод и по тем временам убежденный нонконформист. Объясняя нам учение Шопенгауэра, он немного рассказал и о восточной философии, а в связи с ней и о карме. Но сейчас я не очень внимательно слушала, что там говорят с экрана, слова влетали в одно ухо и вылетали из другого.
Долгие годы где-то в глубине моей души жило ощущение, будто карма – это некий закон возмездия, нечто вроде «око за око», «зуб за зуб», «что посеешь, то и пожнешь». И только когда директриса детского сада пригласила меня, чтобы поговорить о твоем странном поведении, я снова вспомнила о карме и обо всем, что связано с нею. Ты взбудоражила весь детский сад. Ни с того ни с сего во время занятий по устному изложению ты неожиданно принялась рассказывать о своей предшествующей жизни. Воспитательницы поначалу приняли твой рассказ за проявление чрезмерной детской впечатлительности. Слушая тебя, они пытались отыскать в рассказе противоречия и запутать тебя. Но ты не поддалась на их уловки и даже произнесла несколько фраз на каком-то неведомом языке, которого никто не знал.
Когда же подобное случилось в третий раз, меня и вызвали к директрисе. Ради твоего блага, ради твоего будущего мне посоветовали показать тебя психиатру. «После травмы, которую перенесла девочка, вполне естественно, что она ведет себя так странно, пытается уйти от действительности».
Разумеется, к психиатру я тебя не повела, мне казалось, ты – счастливый ребенок, и я готова была скорее поверить, что твои фантазии вызваны не каким-то кратковременным дискомфортом, а чем-то совсем иным. Я больше никогда не напоминала тебе о случившемся, да и ты не чувствовала потребности заговорить об этом. Возможно, ты обо всем забыла в тот же момент, когда изумила своих воспитательниц.
У меня сложилось впечатление, что в наше время стало очень модно говорить о подобных вещах. Прежде о таинственных учениях размышляли только в избранных кругах, теперь же о сверхъестественных явлениях судачат все, кому не лень.
Когда-то давно я прочитала в одной газете, что в Соединенных Штатах существуют даже группы самосознания по реинкарнации. Эти люди, собираясь вместе, вспоминают о своих предшествующих жизнях. Так, домашняя хозяйка говорит: «В девятнадцатом веке я жила в Нью-Орлеане и была уличной девкой, вот почему сейчас я не могу хранить верность своему мужу». А хозяин бензоколонки, расист, свою ненависть к черным объяснял тем, что в шестнадцатом веке его будто бы съели негры из племени банту. Жалкие глупости! Когда утеряны собственные культурные корни, мифическими прошлыми жизнями пытаются заштопать серость и неуверенность своего нынешнего существования. Если подобный цикл перевоплощения жизней и имеет смысл, думаю я, то это, несомненно, совсем другой смысл.
В те дни, когда произошли непонятные события в детском саду, я раздобыла разные книги, желая лучше понять тебя и набраться знаний. В одной из них как раз и было написано, что дети, которые со всей отчетливостью вспоминают свое предшествующее воплощение, это, как правило, те, кто умер преждевременной и насильственной смертью. Некоторые твои ощущения, не объяснимые детским опытом, – боязнь утечки газа, боязнь, что все вокруг внезапно взорвется, – заставили меня прислушаться к подобному утверждению. Порой, когда ты уставала или грустила, иногда даже во сне, тебя вдруг охватывал беспричинный страх. Причем пугалась ты не какого-то черного человека, не ведьмы и не страшных волков. Тебя приводила в ужас внезапная мысль, что с минуты на минуту весь мир, вся вселенная взорвутся.
Поначалу, когда, перепуганная, ты появлялась глубокой ночью в моей спальне, я вставала и с ласковыми словами провожала тебя обратно в детскую. Там, улегшись в постель и держа меня за руку, ты просила рассказать какую-нибудь сказку с хорошим концом. Опасаясь, что вспомню что-нибудь страшное, ты сама начинала рассказывать ее во всех подробностях, и мне оставалось лишь послушно следовать по твоей канве.
Я повторяла сказку раз, другой, третий, а когда поднималась и направлялась к двери, не сомневаясь, что ты уже успокоилась, до меня вдруг долетал твой слабый голосок. «Все так и кончится хорошо? – спрашивала ты. – Правда, всегда так и будет?» Тогда я возвращалась, целовала тебя в лобик и заверяла: «Это не может кончиться никак иначе, сокровище мое, клянусь тебе».
А иной раз ночью, хоть я и против того, чтобы дети спали в одной постели со стариками, у меня не хватало мужества отправить тебя обратно в детскую. Почувствовав, что ты стоишь у тумбочки возле моей кровати, я, не поворачиваясь, говорила тебе: «Все проверено. Ничто не взорвется. Вернись в свою комнату». И притворялась, будто опять крепко уснула. Ты минутку стояла недвижно, и я слышала твое легкое дыхание, а потом, чуть скрипнув кроватью, осторожно проскальзывала ко мне под одеяло и засыпала, обессиленная, словно перепуганный мышонок, добравшийся наконец до теплой норы.
На рассвете, продолжая игру, я брала тебя на руки, теплую, расслабленную, и относила в детскую, где ты и досыпала. Проснувшись, ты крайне редко вспоминала о ночных страхах; ты была уверена, что всю ночь провела в своей постели.
Когда же приступы страха случались днем, я была очень ласкова с тобой. «Не видишь разве, – говорила я, – какой крепкий у нас дом? Смотри, какие толстые стены, ну разве они, по-твоему, могут взорваться?» Однако мои старания успокоить тебя были совершенно напрасны.
Уставившись в одну точку широко раскрытыми глазами, ты повторяла: «Все, все может взорваться». Я не переставала удивляться, отчего тебя мучает такой страх. О каком взрыве ты говоришь? Может, это было воспоминание о матери, о ее трагической и внезапной смерти? Или этот страх приходил из той, другой жизни, о которой с несвойственной тебе легкостью ты рассказала в детском саду? А быть может, и то и другое соединялось в каком-нибудь недостижимо далеком уголке твоей памяти? Кто знает? Что бы там ни утверждали оптимисты, но мне все-таки кажется, что в голове у человека куда больше мрака, нежели света.
Так или иначе, в книге, которую я купила тогда, отмечалось, что дети, вспоминающие свои прошлые жизни, гораздо чаще встречаются в Индии и на Востоке – в странах, где идея реинкарнации не считается чем-то особенным. Мне нетрудно поверить в такое. Представь себе на минутку, будто я вдруг пришла к своей матери и заговорила с ней на каком-нибудь неизвестном языке или же заявила бы ей: «Терпеть тебя не могу, мне гораздо лучше было с моей мамой в той, другой жизни». Можешь не сомневаться, что я в тот же день оказалась бы в доме для умалишенных.
Существует ли какая-нибудь пружина, способная освободить тебя от твоей судьбы, предопределенной местом рождения, от всего того, что твои предки передали тебе со своей кровью? Кто знает? Может быть, в клаустрофобической череде поколений в какой-то момент кто-то и умудряется увидеть ступеньку повыше и всеми силами старается подняться на нее. Разорвать кольцо, впустить в комнату немного иного воздуха – в этом, думается мне, и кроется крохотный секрет круговорота жизней. Крохотный, но невероятно трудный, страшащий своей неопределенностью.
Моя мать вышла замуж в шестнадцать лет. В семнадцать она родила меня. За все мое детство, более того, за всю мою жизнь я не видела от нее ни единой ласки. Ее брак был не по любви. Никто не принуждал ее, она сама все решила, потому что больше всего ей, крещеной еврейке из богатой семьи, хотелось знатного титула. Мой отец был старше ее, барон и меломан, он прельстился ее вокальными данными. Произведя на свет потомство, как того требовало добропорядочное имя, они до конца своих дней жили, погрязнув во взаимном недоверии и упреках.
Моя мать умерла недовольная жизнью, обиженная на судьбу, у нее даже тени сомнения не возникло ни разу, что, наверное, во всем этом есть доля и ее собственной вины. Мир для нее оказался жестоким, потому что не предложил ей лучшего выбора. Я была совсем непохожа на мать и уже к семи годам, когда миновала детская покорность, едва выносила ее.
Я очень настрадалась из-за матери. Она беспрестанно раздражалась, и всегда по каким-то мелким, несущественным поводам. Ее мнимое «совершенство» вынуждало меня чувствовать себя ничтожеством, и одиночество было ценой этого моего ощущения. Поначалу я даже пыталась походить на мать, но это всегда получалось плохо и неудачно. Чем больше я старалась, тем более чувствовала себя неловко. Отказ от самой себя приводит к презрению. А от презрения до злобы – путь короткий.
Когда я поняла, что любовь матери ко мне была одной лишь видимостью, что для нее важно, какой я должна быть по ее представлениям, а не какая я на самом деле, вот тогда, уединяясь в своей комнате, я всей душой возненавидела ее. Чтобы избавиться от этого чувства, я замкнулась в своем собственном мирке. Вечером, забравшись в постель, прикрыв чем-нибудь лампу, я до самого утра читала книги о приключениях. Мне очень нравилось фантазировать. Одно время я представляла себя предводительницей пиратов, жила на корабле, бороздившем море у берегов Китая, и была необычной разбойницей, потому что грабила не для себя, а ради несчастных бедняков. От пиратских фантазий я переходила к фантазиям филантропическим и представляла, как, получив диплом врача, отправлюсь в Африку лечить негритят.
В четырнадцать лет я прочитала биографию Шлимана и поняла, что никогда, просто никогда не смогу лечить людей, потому что моя единственная страсть – это археология. Из множества разных других занятий, какие я воображала себе, думаю, это было в самом деле по-настоящему мое.
И действительно, стремясь осуществить свою мечту, я выдержала первое и единственное сражение с отцом – сражение за то, чтобы пойти учиться в классический лицей. Он и слышать об этом не хотел, говорил, что все это ни к чему, что если мне так уж хочется получить образование, то лучше изучать языки. В конце концов я настояла на своем. И, переступая порог гимназии, я была абсолютно уверена, что победила. Но я обманывалась. Когда по окончании лицея я сказала отцу, что хочу поступить в Римский университет, его ответ был безапелляционным: «Об этом и речи быть не может». И я, как было принято тогда, безропотно повиновалась. Не надо думать, будто, выиграв одно сражение, одерживаешь победу в войне. То была ошибка молодости.
Обдумывая все сейчас, полагаю, что, прояви я тогда настойчивость, отец наверняка уступил бы. Его категорический отказ соответствовал принятым в те времена правилам воспитания. В сущности, тогда не верили, что молодые люди способны на самостоятельное решение. И потому, когда они выражали необычное желание, их старались подвергнуть проверке. Увидев, как я сдалась при первой же трудности, отец решил, что речь идет не о настоящем призвании, а о преходящем увлечении.
Для моего отца, как и для моей матери, иметь детей означало лишь выполнять светскую обязанность.
Сколь пренебрегали родители душевным развитием своих детей, столь же строго следили за самыми банальными элементами воспитания. Я должна была сидеть за столом прямо, прижав локти к туловищу. А то, что, демонстрируя хорошие манеры, я размышляла, какой способ самоубийства предпочтительнее, не имело ни малейшего значения. Видимость – вот что было самым важным. Все же остальное, что существовало за ее пределами, было лишь неудобством.
Так я и росла с ощущением, будто я скорее обезьянка, которую надо хорошо выдрессировать, нежели человек, со своими радостями, своими огорчениями, своей потребностью быть любимым. Это неприятное ощущение очень скоро породило во мне чувство непреодолимого одиночества – одиночества, которое с годами превратилось во что-то вроде вакуума, в котором я передвигалась замедленно и неуклюже, подобно водолазу.
Одиночество порождалось еще и вопросами, которые возникали у меня и на которые я не знала ответа. Уже с четырех или пяти лет, осматриваясь вокруг, я спрашивала себя: почему я тут оказалась, откуда сюда явилась и вообще откуда взялось все, что существует возле меня; что стоит за всем этим; был ли этот мир и тогда, когда меня не было, и будет ли он существовать всегда?
Я задавала себе все те вопросы, какие обычно возникают у впечатлительных детей, едва они сталкиваются со сложностью всего сущего. Я была уверена, что взрослые тоже задают себе такие же вопросы и знают ответы на них, но после двух или трех попыток заговорить об этом с матерью и няней догадалась, что они не только не знают ответов, но даже никогда не задавались подобными вопросами.
Так что, понимаешь, мое одиночество все росло, и я была вынуждена разгадывать загадки в одиночку. Чем дальше, тем больше я размышляла, тем все более сложные возникали вопросы, все более трудные, и даже задумываться над ними было страшно.
Первая встреча со смертью произошла у меня в шесть лет. У моего отца была охотничья собака по кличке Арго, добрая и ласковая, мой любимый товарищ в играх. Я могла часами кормить ее кушаньями, изготовленными из глины и травы, или же вынуждала изображать клиента парикмахерской, и она, не протестуя, кружила по саду со шпильками на ушах. Однажды, правда, когда я пробовала сделать ей новую прическу, то заметила у нее на горле какую-то припухлость. Уже несколько недель, вспомнила я, как она перестала весело бегать и прыгать и не усаживалась передо мной, как прежде, когда я что-нибудь ела, в ожидании, что ей перепадет угощение.
Как-то утром, вернувшись из школы, я вдруг не обнаружила собаки у калитки, где она обычно встречала меня. Сначала я решила, что она ушла куда-нибудь с моим отцом. Но когда увидела отца, спокойно сидящего в кабинете, а Арго возле него не было, то вдруг ужасно забеспокоилась. Я выскочила из дома и стала громко звать Арго, бегая по всему саду, потом два или три раза обыскала весь дом сверху донизу.
Вечером, выполняя свою обязанность – целуя родителей и желая им спокойной ночи, – я собралась с духом и спросила отца: «Где Арго?» – «Арго, – ответил он, не отрывая взгляда от газеты, – Арго ушел». – «А почему?» – спросила я. «Потому что ты плохо обращалась с ним».
Бестактность? Бездумность? Садизм? Что было в этом ответе? В тот же самый момент, когда я услышала его, во мне словно что-то надломилось. Я перестала спать по ночам, а днем достаточно было какого-нибудь пустяка, чтобы я тотчас начинала плакать. Спустя месяц или два пригласили педиатра. «Девочка истощена», – сказал врач и прописал мне рыбий жир. Отчего я не спала по ночам, почему не расставалась с мячиком, обглоданным Арго, никто меня так никогда и не спросил.
Именно с этим эпизодом связываю я свое вступление во взрослую жизнь. В шесть лет? Да, именно в шесть лет. Арго ушел, потому что я оказалась плохой; мое поведение, выходит, влияло на происходящее вокруг. Влияло настолько, что вынуждало кого-то исчезать, погибнуть.
С тех пор я стала очень осторожна в своих действиях. Опасаясь допустить еще какую-нибудь ошибку, я уже не хотела вообще ничего делать, стала вялой, апатичной, робкой. По ночам сжимала мячик Арго и со слезами умоляла его: «Арго, прошу тебя, вернись! Даже если я поступала плохо, я все равно люблю тебя больше всех!» Когда отец принес домой другого щенка, я не захотела даже взглянуть на него. Для меня он был совершенно чужим.
В воспитании детей тогда преобладало ханжество. Я прекрасно помню, как однажды, проходя с отцом мимо изгороди, увидела на земле недвижно лежащую малиновку. Я без всякого страха взяла ее в руки и показала отцу. «Оставь ее, положи обратно, – закричал он, – разве не видишь, она спит?» Смерть, как и любовь, считалась запретной темой, которой не следовало касаться. Разве не было бы в тысячу раз лучше, скажи он мне, что Арго умер? Отец мог бы взять меня на руки и объяснить: «Я убил его, потому что он был болен и очень страдал. Там, где Арго сейчас, он гораздо счастливее». Я бы, конечно, дольше плакала, была бы в отчаянии, многие месяцы ходила бы на то место, где похоронили Арго, и часами разговаривала бы с ним.
А потом мало-помалу начала бы забывать его, мое внимание привлекли бы другие вещи, появились бы другие увлечения, и Арго отодвинулся бы в глубину моей памяти, сделался бы воспоминанием, прекрасным воспоминанием моего детства. А так Арго превратился в маленького покойника, которого я всегда ношу в душе.
Вот почему я и говорю, что в шесть лет уже была взрослой: потому что вместо радости познала страдание, а детское любопытство сменилось равнодушием. Были ли мои родители какими-то чудовищами? Нет, ничего подобного, по тем временам они были совершенно нормальными людьми.
Только в старости мать стала рассказывать мне кое-что о своем детстве. Ее мать, моя бабушка, умерла, оставив дочку совсем маленькой, а еще раньше у нее был сын, скончавшийся в три года от воспаления легких. Моя мать была зачата сразу же после смерти сына, и бабушка имела несчастье не только родить девочку, но и сделать это в тот же самый день, когда умер первый ребенок.
Отмечая столь странное совпадение, мою мать с младенчества одевали в траур. Над ее люлькой висел огромный, написанный маслом портрет маленького брата. Покойник должен был всегда находиться рядом с нею, чтобы напоминать ей каждый раз, как только она открывала глаза: она всего лишь бледная копия того, кто был лучше ее. Понимаешь? Как же тут винить мою мать за ее холодность, за ее нелепое замужество, за отчужденность от всего на свете?
Даже обезьяны, если их растят в стерильной лаборатории без родной матери, спустя какое-то время делаются печальными и быстро умирают. А если пойти еще дальше и посмотреть, как сложилась судьба матери моей матери, ее бабушки и прабабушки, кто знает, что мы там еще обнаружим.
Несчастливая судьба обычно продолжается по материнской линии. Подобно некоторым генетическим аномалиям, она передается от матери к дочери. Переходя из поколения в поколение, вместо того чтобы уменьшаться, она постепенно становится все более интенсивной, все более постоянной и глубокой. Мужчины реже бывали несчастливы, у них вообще все шло по-другому, потому что в их жизни всегда имелись профессия, политика, война. Их энергия могла найти тот или иной выход.
А мы, женщины, всегда были страдалицами. Мы из рода в род всю свою жизнь проводили только в спальне, на кухне, в ванной, мы совершали тысячи и тысячи шагов, жестов, непрестанно тая в душе сожаление и неудовлетворенность. Не стала ли я феминисткой? Нет, не бойся, я только пытаюсь без предрассудков, отчетливо посмотреть на то, что стоит за всем этим.
Помнишь, как однажды августовской ночью мы ходили вместе с тобой смотреть на фейерверк, который запускали над морем? Среди множества взлетавших огоньков непременно оказывался один, который хоть и загорался, все же так и не мог подняться в небо. Вот и я, когда думаю о судьбе своей матери и своей бабушки, когда думаю о судьбах многих моих знакомых, всегда вспоминаю именно этот образ – огоньки, падающие, а не взлетающие ввысь.