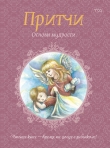Текст книги "Только для голоса"
Автор книги: Сюзанна Тамаро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
В тот же день после обеда мы с нетерпением ждали, пока откроется офис туристического агентства, а потом еще несколько недель ходили по разным турфирмам в поисках чего-нибудь такого, что пришлось бы нам по душе. Наконец мы выбрали Грецию – острова Крит и Санторин – на последнюю неделю мая. Оформление документов, которые надо было подготовить для отъезда, сблизило нас как никогда прежде. Илария с увлечением собирала чемоданы, ужасно боясь забыть что-нибудь необходимое. Чтобы успокоить ее, я купила ей блокнот. «Запиши все, что тебе надо взять, – посоветовала я, – и, когда уложишь все нужные вещи в чемодан, сможешь перекреститься».
Вечером, ложась спать, я упрекала себя, как же раньше не догадалась, что совместная поездка – лучший способ попытаться поправить наши отношения. За неделю до отъезда, в пятницу, Илария позвонила мне, и я услышала какой-то чужой голос. Думаю, она говорила из уличного автомата. «Мне надо съездить в Падую», – заявила она, – вернусь самое позднее во вторник вечером». – «Так уж и надо?» – спросила я, но она уже повесила трубку.
До следующего четверга от нее не было никаких известий. В два часа телефон зазвонил, голос ее звучал неуверенно, в нем слышались и твердость, и сожаление. «Мне жаль, – проговорила она, – но я не поеду в Грецию». Она ждала моей реакции, я тоже выжидала. Помолчав немного, я ответила: «И мне жаль. Но я все равно поеду». Она поняла, что я расстроена, и попыталась оправдаться. «Если поеду, перестану быть самой собой», – прошептала она.
Как тебе нетрудно представить, моя поездка оказалась очень грустной; я старалась вникать в рассказы гидов, рассматривать пейзажи, интересоваться археологическими раскопками, а в сущности, думала только о твоей матери, о том, как складывалась ее жизнь.
Илария, казалось мне, похожа на крестьянина, которого охватил страх, когда он, дождавшись первых ростков в своем огороде, вдруг испугался, что им может что-то повредить. Тогда, стремясь защитить росточки от непогоды, он покупает прочную полиэтиленовую пленку, способную выдержать и дождь, и солнце, и ветер, и укрывает их. Желая уберечь растения от тлей и личинок, обильно посыпает почву инсектицидами. Трудится не покладая рук, и днем и ночью все его мысли только об огороде, о том, как бы надежнее защитить его. Но однажды утром, приподняв пленку, он обнаруживает, что все посадки завяли. А оставь он их расти на свободе, какие-то ростки наверняка погибли бы, но другие выжили. Рядом с теми, которые высадил он, появились бы принесенные ветром и насекомыми сорняки, и он вырвал бы их, разумеется, но некоторые, наверное, распустились бы и своими цветами украсили унылое однообразие огорода. Понимаешь? Вот так все и происходит. Жизнь невозможна без великодушия: когда человек занят лишь своим собственным крохотным мирком и не видит ничего вокруг себя, то он уже мертв, пусть дыхание в нем еще и теплится.
Слишком строго подходя к собственному интеллекту, Илария заглушила в себе голос сердца. В спорах с нею даже я не решалась произносить это слово. Как-то давно я сказала ей, еще совсем юной: сердце – это средоточие духа, spiritus по-латыни. А наутро нашла на столе в кухне толковый словарь, открытый на слове «spiritus», где красным карандашом было подчеркнуто толкование: бесцветная жидкость, пригодная для консервирования фруктов.
В наши дни сердце ассоциируется с чем-то наивным, заурядным. В дни моей молодости еще можно было упоминать о нем, не смущаясь, теперь же это слово никто больше не употребляет. В редких случаях упоминают лишь в связи с плохой работой этого органа – говорят о коронарной недостаточности, незначительных артериальных изменениях; о самом же сердце в полном значении этого слова – о сердце как средоточии человеческого духа – никто больше и не вспоминает.
Я часто задумывалась над причиной такого остракизма. «Кто прислушивается к порывам своего сердца, тот глупец», – часто повторял Аугусто, цитируя Библию. Но почему же глупец? Может, оттого, что сердце похоже на камеру сгорания? Оттого, что внутри него темнота – темнота при ярком пламени? Насколько свежа голова, настолько старо сердце. Кто вспоминает о сердце – можно сказать и так, – тот близок к животным, действующим подсознательно, а кто обращен к логике, близок к самому высокому разуму. Но если б все обстояло иначе, было бы как раз наоборот, если бы именно этот избыток разума истощал жизнь?
На обратном пути из Греции я почти каждое утро проводила возле капитанского мостика. Мне нравилось заглядывать туда, рассматривать радар и другую сложную аппаратуру, которая регулировала курс корабля. И вот как-то однажды, глядя на разные антенны, вибрировавшие в воздухе, я подумала, что человек все больше походит на радиоприемник, способный настраиваться лишь на одну частоту. Как бывает с теми приемничками, какие находишь иной раз в виде презента в пачке стирального порошка: хотя на его панели и обозначены все станции, на самом деле, вращая колесико настройки, удается поймать не больше одной или двух, все остальные отвечают только гулом. Мне кажется, чрезмерная нагрузка на разум приводит к точно такому же эффекту: из всей реальности, что окружает нас, человек способен познать лишь одну какую-нибудь узкую полосу. В ней же нередко господствует путаница, так как вся она забита словами, а слова чаще всего не способны вывести нас на простор, они лишь заставляют ходить по кругу.
Понимание требует тишины. В молодости я ничего подобного не ведала, а узнаю это теперь, когда блуждаю по безмолвному пустынному дому, словно рыба в стеклянном аквариуме. Ведь очевидна же разница, подметаем ли мы грязный пол метлой или моем его мокрой тряпкой. Если воспользоваться метлой, то почти вся пыль тотчас поднимется в воздух и осядет на мебели. Если же взять мокрую тряпку, то пол станет чистым и блестящим. Тишина подобна влажной тряпке, она неизменно лишает вещи матовости. Разум – пленник слов; если у него и есть какой-то ритм, так это ритм слов, беспорядочный ритм мыслей. А сердце, напротив, дышит. Из всех органов человека бьется лишь оно одно, и его пульсация позволяет организму настроиться на более мощную энергетику.
Иногда бывает, скорее всего по моей рассеянности, после обеда на несколько часов остается включенным телевизор. И хотя я не смотрю его, звуки преследуют меня по всему дому, а вечером, когда ложусь спать, чувствую, что мои нервы напряжены больше, чем обычно, и засыпаю с большим трудом. Постоянный шум, грохот – это своего рода наркотик, и уж если к нему привыкаешь, то не можешь обходиться без него.
Не хочу заходить дальше, во всяком случае, не сейчас. Страницы, которые я написала сегодня, похожи на торт, приготовленный сразу по нескольким рецептам. В нем перемешались самые разные продукты: миндаль и творог, яйца и ром, бисквиты и марципаны, шоколад и клубника, – словом, получилось нечто вроде того ужасного блюда, которое ты однажды заставила меня попробовать, уверяя, будто это и есть новая современная кулинария. Мешанина? Возможно. Представляю, что бы подумал, прочитав эти страницы, какой-нибудь философ, он не смог бы удержаться и все исчеркал бы красным карандашом, как это делают старые учительницы. «Непоследовательно, – написал бы он, – выходит за пределы темы, диалектически невыдержанно».
А представляешь, что случилось бы, попади эти страницы какому-нибудь психиатру! Он смог бы написать целое исследование о моих неудачных отношениях с дочерью, обо всем, что сейчас ворошу. Ну, ворошу, а что толку? Какое это теперь имеет значение? Была у меня дочь, и я ее потеряла. Она погибла, разбившись на машине. В тот самый день, когда я открыла ей, что отец, который, как она считала, послужил причиной стольких ее бед, вовсе не был ее отцом.
Тот день так и стоит передо мной во всех деталях и подробностях, словно кадры из фильма, с той лишь разницей, что они не движутся на экране, а застыли перед глазами недвижно, будто пригвожденные к стене. Я наизусть знаю эпизод за эпизодом и в каждом из них помню малейшие детали. Ничто не ускользает от меня, все хранится в моей душе, пульсирует в моих мыслях – и когда бодрствую, и когда сплю. И будет пульсировать даже после моей смерти.
Дрозд проснулся и время от времени высовывает головку, издавая решительное «пи!». «Хочу есть, – похоже, говорит он, – ну, чего ждешь, дай же мне еды!» Я поднялась, открыла холодильник и поискала, не найдется ли там чего-нибудь для него. Не обнаружив ничего подходящего, сняла трубку, чтобы спросить синьора Вальтера, нет ли у него случайно червей. Набирая номер, я сказала дрозду: «Какой же ты счастливый, малыш, что вылупился из яйца и, едва вылетев из гнезда, тут же забыл, как выглядят твои родители».
30 ноября
Сегодня около девяти часов утра пришел синьор Вальтер с женой и принес пакетик мучных червей. Он сумел раздобыть их у своего кузена, страстного рыболова. Я осторожно вынула дрозда из коробки, под его мягкими, пушистыми перышками сердечко билось как сумасшедшее. Металлическим пинцетом я подхватила червяка с блюдца и предложила птенцу. Как ни старалась я обратить его внимание на лакомство, как ни вертела перед его клювом, он ни за что не хотел его брать.
«Откройте клюв зубочисткой, – посоветовал синьор Вальтер, – или попробуйте руками». Но у меня, естественно, не хватило решимости сделать это. И тут я вдруг вспомнила – мы же с тобой стольких птиц выходили! – ведь надо пощекотать возле клюва сбоку. Я так и сделала. И действительно, у дрозда словно сработала внутри какая-то пружинка, клюв сразу же раскрылся. Проглотив трех червей, дрозд, похоже, насытился.
Синьора Райзман сварила кофе – я-то уже не могу делать этого сама с тех пор, как не действует рука, – и мы посидели немного, поговорили о том о сем. Если б не внимание соседей и их готовность помочь, моя жизнь была бы намного труднее. На днях они отправятся в семеноводческий питомник покупать клубни картофеля и семена для весенних посадок. Они пригласили и меня поехать с ними. Я не ответила им ни да ни нет, мы договорились созвониться завтра в девять.
То было восьмого мая. Все утро я провозилась в саду, расцвели акуилегии, и вишневое дерево покрылось бутонами. В обеденный час неожиданно, без предупреждения, появилась твоя мама. Она тихо подошла ко мне сзади и громко воскликнула: «Сюрприз!» – и я от испуга даже выронила лейку. Выражение ее лица, однако, никак не вязалось с притворной веселостью интонации. Губы были поджаты. Она приглаживала волосы, отводя их от потемневшего лица, вытягивала отдельные прядки и совала в рот.
В последнее время подобные манипуляции вошли у нее в привычку, и сейчас они меня тоже не обеспокоили, во всяком случае, не более, чем обычно. Я спросила, где она оставила тебя. Она ответила, что у одной подруги. Когда мы шли к дому, она достала из кармана маленький, помятый букетик незабудок. «Сегодня родительский день», – глядя на меня, сказала она и остановилась с цветами в руках, не решаясь шагнуть навстречу. Тогда это сделала я. Я подошла к ней, с волнением обняла и поблагодарила. Она была вся напряжена, а от моего объятия напружинилась еще больше. Мне же показалось, будто ее тело внутри совершенно пусто и от нее исходит прохладная струя воздуха, какую ощущаешь у входа в грот. И тут – я прекрасно помню это – я подумала о тебе. Что-то будет с девочкой, спросила я себя, мать которой доведена до такого состояния? Твоя мать была слишком ревнива и крайне редко приводила тебя ко мне. Хотела оградить тебя от моего негативного влияния. Мол, если я погубила ее, то с тобой такое мне не удастся сделать.
Пора было обедать, и я отправилась на кухню приготовить что-нибудь поесть. Погода стояла хорошая, и мы накрыли стол в саду, под глициниями. Я постелила скатерть в бело-зеленую клеточку и поставила на середину стола вазочку с незабудками. Видишь, я помню все с невероятной отчетливостью, несмотря на мою нестойкую память. Неужели я интуитивно чувствовала, что вижу ее живой в последний раз? Или, может быть, уже после трагедии я старалась специально удлинить в памяти время, проведенное вместе? Трудно сказать. Кто такое может знать?
Поскольку у меня не было ничего готового, я решила приготовить томатный соус. Пока он варился, я спросила Иларию, что она предпочитает – «перышки» или «спиральки». Из сада донеслось: «Все равно». И тогда я бросила в кипяток «спиральки». Мы сели за стол, и я стала расспрашивать ее о тебе, но она отвечала очень уклончиво. Вокруг нас все время кружили всякие насекомые. Они опускались на цветы, взлетали с них и так шумели, что едва не заглушали наши слова. Вдруг что-то жужжащее шлепнулось прямо в тарелку твоей мамы. «Оса… Убей ее, убей!» – закричала она, вскакивая из-за стола и опрокидывая тарелку. Тогда я наклонилась поближе и рассмотрела насекомое. Оказалось, шмель, и я успокоила ее: «Это не оса, это шмель, он не жалит». Смахнув его со скатерти, я снова наполнила ее тарелку. Все еще взволнованная, она опустилась на свое место, взяла вилку, поиграла ею, перекидывая из одной руки в другую, наконец поставила локти на стол и сказала: «Мне нужны деньги». На скатерти, куда попали «спиральки», осталось большое красное пятно.
Вопрос о деньгах возник давно, несколько месяцев назад. Еще до прошлогоднего Рождества Илария призналась мне, что подписала какие-то бумаги в пользу своего психиатра. Когда же я попросила объяснить поконкретнее, она, как всегда, ушла от ответа. «Гарантии, – проговорила она, – просто чистая формальность». Это была ее обычная дурацкая манера – если ей надо было что-то сообщить мне, она половину не договаривала. Так она как бы перекладывала на меня собственную проблему, но при этом утаивала сведения, необходимые для того, чтобы помочь ей. В этом мне виделся какой-то тонкий садизм. И кроме садизма было еще почти болезненное желание стать объектом чьего-то беспокойства. Чаще всего, однако, подобные ее выходки оказывались всего лишь причудами.
Она говорила, например: «У меня рак матки», и после спешного, лихорадочного расследования я выясняла, что она всего лишь захотела провести контрольный тест, тот самый, какой регулярно проходят все женщины. Понимаешь? Она каждый раз делала из мухи слона.
В последние годы Илария сообщала мне о стольких своих трагедиях, что в конце концов я перестала ей верить, пропуская ее разговоры мимо ушей. Поэтому, когда она сказала, что подписала какие-то бумаги, я не придала ее словам особого значения и не подумала настаивать на подробностях. Я и так уже слишком устала от подобной ужасной игры. Даже если б я настояла на своем, даже если б узнала детали еще раньше, все равно ничего не изменилось бы, потому что бумаги она подписала уже давно, не спросив моего совета.
Настоящая катастрофа разразилась в конце февраля. Только тогда мне стало известно, что в этих бумагах Илария гарантировала своему врачу триста миллионов лир. Но за эти два месяца Общество, которому она подписала поручительство, обанкротилось – его недостача составила два миллиарда лир, и банки начали требовать эту сумму со всех его поручителей. Тут-то твоя мама и пришла ко мне вся в слезах и стала спрашивать, что же ей теперь делать. Гарантия же давалась под залог дома, в котором она жила с тобой, его-то банки и хотели конфисковать в счет погашения долга.
Можешь себе представить мое возмущение. Твоей матери стукнуло уже тридцать лет, а она не только совершенно неспособна была содержать себя, но даже поставила на карту единственное имущество, какое у нее имелось, – дом, который я записала на ее имя сразу же после твоего рождения. Я была вне себя от гнева, но не показала и виду. Чтобы не разволновать ее еще больше, я притворилась спокойной и сказала: «Посмотрим, что тут можно сделать».
Видя, что она совсем пала духом и ничего не предпринимает, я нашла хорошего адвоката. А сама неожиданно превратилась в детектива и собрала всю информацию, какая была необходима, чтобы выиграть дело с банками. Вот почему мне удалось узнать, что психиатр уже несколько лет вынуждал Иларию принимать сильные психотропные средства. А на занятиях в своей школе, когда она приходила в подавленном состоянии, поил ее виски. Он только и делал, что называл Иларию своей любимой ученицей, самой способной из всех, и уверял, что скоро она сможет работать самостоятельно, откроет собственный кабинет и начнет с пользой лечить людей.
Мне просто жутко стало при мысли, что моя дочь, такая беспомощная и безалаберная, с ее абсолютным отсутствием здравой логики, не сегодня завтра возьмется за врачевание. Не случись эта катастрофа сейчас, она непременно произошла бы позже: ничего не сказав мне, Илария принялась бы лечить людей, заниматься тем же ремеслом, что и ее учитель.
Естественно, она никогда не решалась прямо говорить мне о своих планах. Когда я спрашивала, почему она никак не использует свой диплом филолога, она с лукавой улыбкой отвечала: «Вот увидишь, еще понадобится…»
Есть вещи, о которых бывает очень больно думать. Но еще мучительнее говорить о них. В те ужасные месяцы я сделала для себя одно открытие насчет твой мамы. Я обнаружила нечто такое, что прежде мне даже в голову не могло прийти, да и теперь все еще не уверена, правильно ли делаю, рассказывая тебе обо всем. Во всяком случае, раз уж я решила ничего от тебя не скрывать, выверну мешок наизнанку. Так вот, видишь ли, я вдруг поняла, что твоя мама была просто-напросто глупа.
Мне стоило большого труда осознать это и принять как данное – отчасти потому, что родители почти всегда заблуждаются насчет своих детей, а отчасти потому, что Илария, манипулируя своей диалектикой, сумела весьма основательно напустить туману. Достань у меня мужества понять все вовремя, я бы лучше смогла защитить ее, любила бы ее смелее и решительней. А защищая, я, весьма вероятно, смогла бы и спасти ее.
Это было самое главное, но поняла я это уже поздно, когда почти ничего невозможно было сделать. Оценив ситуацию в целом, я решила – единственное, что тут можно придумать, надо объявить ее недееспособной и начать процесс о полном подчинении чужой воле. Когда я сообщила ей, как мы с адвокатом решили действовать, у твоей матери началась истерика. «Ты делаешь так нарочно, – закричала она, – это все задумано только для того, чтобы отнять у меня дочь».
Я-то в глубине души была уверена, что ее заботило совсем другое: если она будет признана недееспособной, ее карьере будущего психиатра навсегда придет конец. Она шла с завязанными глазами по краю пропасти и все еще полагала, будто идет по лугу на веселый пикник. После бурного кризиса она велела отказать моему адвокату и прекратить все дела. Она сама проконсультировалась у другого адвоката и до того самого дня, когда пришла ко мне с незабудками, больше ничего не сообщала.
Понимаешь теперь мое состояние, когда она, поставив локти на стол, попросила денег? Разумеется, я знаю, помню, что говорю именно о твоей матери, и в моих словах тебе слышится, должно быть, только жестокость, и ты думаешь, что она, наверное, была права, возненавидев меня. Но вспомни, что я сказала тебе в самом начале: твоя мать была моей дочерью и моя потеря неизмеримо больше, чем твоя. Но если ты вовсе не виновна в этой утрате, то я, напротив, виновата в полной мере. Если тебе порой кажется, будто я говорю о ней отчужденно, попробуй представить себе, как велико мое горе, тогда поймешь, почему оно так скупо на слова. Так что отчужденность тут чисто внешняя, это тот вакуум, благодаря которому я и могу продолжать свой рассказ.
Когда она попросила оплатить ее долги, я впервые в жизни отказала ей, причем категорически. «Я не швейцарский банк, – ответила я, – у меня нет таких денег. А если и были бы, то не дала бы. Ты достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за свои поступки. У меня был только один дом, и я переписала его на тебя. Ты потеряла его, и меня это больше не касается». Тут она пустила слезу и начала что-то бормотать, но совершенно бессвязно, то и дело умолкая на полуслове. Как ни старалась я, но все равно не смогла уловить в ее словах хоть какой-нибудь смысл или логику.
Похныкав так минут десять, она заговорила о том, что ее волновало больше всего, – об отце, как он виноват перед ней и, самое главное, как мало уделял ей внимания. «Я должна получить за это компенсацию, понимаешь ты это или нет?» – крикнула она мне в лицо, глаза ее при этом злобно засверкали. И тут не знаю уж, как это получилось, но взорвалась я. Секрет, который я когда-то поклялась унести с собой в могилу, слетел у меня с языка. Но едва это произошло, я сразу ужасно пожалела и готова была на что угодно, лишь бы только вернуть сказанное обратно, но – слишком поздно. Слова «Твой отец – не настоящий твой отец» уже дошли до ее сознания. Она помрачнела еще больше, потом медленно поднялась, пристально глядя на меня. «Что ты сказала?» Голос ее звучал тихо-тихо. А я почему-то вдруг снова обрела полное спокойствие. «То, что слышала, – ответила я. – Я сказала, что твой отец не был моим мужем».
Как реагировала Илария? Она молча повернулась и направилась к выходу из сада. И сделала это как-то механически, словно робот, а не живой человек. «Подожди! Давай поговорим!» – крикнула я ей вслед своим противным, скрипучим голосом.
Почему я не поднялась, почему не бросилась за ней, почему не сделала ничего, чтобы остановить ее? Почему сама словно окаменела, произнеся свое признание? Попытайся понять: секрет, который я столько лет так упорно оберегала, внезапно вырвался наружу. В одну секунду, точно канарейка, увидевшая открытую в клетке дверцу, он выпорхнул на волю и долетел до того единственного человека, кому меньше всего следовало знать его.
В тот же день, в шесть часов вечера, когда я, все еще очень расстроенная, желая как-то успокоиться, поливала гортензии в саду, полицейский дорожный патруль сообщил мне об автомобильной катастрофе.
Сейчас уже поздний вечер. Мне пришлось сделать перерыв. Я накормила Бэка и дрозда, поужинала сама. Посмотрела немного телевизор. Моя короста-кольчуга, давно уже разодранная в лохмотья, не позволяет мне слишком волноваться. Чтобы двинуться дальше, мне нужно немного отвлечься, перевести дыхание.
Как ты знаешь, твоя мама умерла не сразу, десять дней она провела между жизнью и смертью. Все это время я была рядом с нею, надеялась, что она хотя бы на минуту откроет глаза и у меня появится возможность попросить у нее прощения.
Мы оставались с нею вдвоем в палате, напичканной аппаратурой. Один небольшой монитор показывал, что сердце ее еще работает, а другой – что мозг почти бездействует. Лечащий врач сказал, что иногда пациентам в таком состоянии помогают звуки, которые радовали их прежде. Тогда я нашла песенку, которую она очень любила в детстве, принесла маленький магнитофон, и мелодия эта звучала часами. Действительно, после первых же тактов выражение ее лица изменилось, смягчилось, и губы зашевелились, словно зачмокали, как у грудных младенцев после еды. Казалось, она слегка улыбнулась. Кто знает, может, в каком-то крохотном, еще живом уголке ее мозга хранилась память о спокойном и светлом времени, и тогда она укрылась именно там.
Это небольшое изменение невероятно обрадовало меня. В таком положении хватаются за любую мелочь, и я без устали гладила ее по голове и повторяла: «Сокровище мое, у нас с тобой еще вся жизнь впереди, мы будем всегда вместе и все начнем сначала, по-другому». Говоря так, я вновь и вновь оживляла в памяти такую картину: ей было годика четыре или, может, лет пять, она гуляла по саду со своей любимой куклой и без умолку болтала с ней. Я находилась в кухне и не слышала, о чем она говорит. Время от времени до меня долетали лишь отдельные громкие слова и веселый смех. Раз она уже была однажды счастлива, значит, это возможно и в будущем. Чтобы вернуть ее к жизни, нужно начинать оттуда, с той девочки.
Естественно, первое, что сообщили врачи после дорожной катастрофы, – даже если она выживет, останется инвалидом, возможно, будет парализована или сознание вернется лишь частично. И знаешь, что я тебе скажу? В своем материнском эгоизме я думала только об одном: дай Бог, чтобы она осталась жива. А что с ней станет впоследствии, не имело никакого значения. Более того, возить ее в коляске, умывать, кормить с ложечки, заботиться о ней, как о единственном смысле моей жизни, было бы самым лучшим способом искупить собственную вину. Будь моя любовь истинной, будь она действительно огромной, я молила бы Бога о ее смерти. Он и проявил к ней больше любви, нежели я: под вечер на десятый день легкая улыбка сошла с ее лица, и она скончалась. Это я сразу поняла, я же была рядом, но я не позвала дежурную медсестру. Потому что хотела еще немного побыть с нею. Я ласково погладила ее по лицу, сжала ее руки в своих ладонях, как, бывало, делала в ее детстве. «Сокровище мое, – продолжала повторять я, – сокровище!» Потом, не оставляя ее рук, опустилась на колени возле кровати и начала молиться. Слезы полились сами собой.
Когда медсестра тронула меня за плечо, я еще плакала. «Пойдемте, пойдемте, – говорила она, – я дам вам успокоительное». От лекарства я отказалась, не хотела смягчать свое горе. Я оставалась в палате, пока ее не отправили в морг. Выйдя из больницы, я взяла такси и поехала к ее подруге, у которой она оставила тебя. В тот же вечер ты уже оказалась у меня дома. «А где мама?» – спросила ты за ужином. «Мама уехала, – сказала я тогда, – уехала в далекое путешествие, далекое-далекое, до самого неба». Ты сидела за столом, склонив свою светлую головку, и молча ела. А когда закончила, спросила своим чистым голоском: «А мы можем попрощаться с ней, бабушка?» – «Ну конечно, любовь моя», – ответила я и, взяв тебя на руки, отнесла в сад. Мы долго стояли с тобой на полянке, и ты махала рукой звездам.