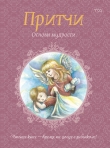Текст книги "Только для голоса"
Автор книги: Сюзанна Тамаро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Однако следующей весной, как и каждый год, мой живот опять начал полнеть. Не было сонливости, но живот увеличивался, как и прежде. Тогда я поняла, в чем дело. Это было ниспосланное мне наказание, расплата за подлость, и я буду оплачивать ее до конца своих дней.
Только когда спустя определенный срок живот не обрел вновь свои нормальные размеры, я забеспокоилась. Месяцем раньше я была у того частного детектива. Здраво размышляя, я не могу понять, зачем это сделала. Наверное, какое-то предчувствие побудило. Должно быть, желание, увидев тебя хоть мельком, положить конец вечному моему наказанию. Я вовсе не собиралась заявлять о себе, предъявлять права, нарушая твое спокойствие.
Я только хотела узнать, каким ты вырос, на кого похож, где живешь.
Так или иначе, через два месяца после твоего дня рождения, почувствовав внутри невыносимую боль, я обратилась к врачу. По иронии судьбы именно в тот самый день детектив дал мне ответ. Ты существовал. Твой отец был инженером, мать – преподавательницей французского языка. Ты изучал медицину, жил совсем рядом, в двух улицах от меня.
А еще через неделю я получила ответ и от врача. «Мне очень жаль, – сказал он, – но у вас большая, размером с плод, опухоль».
Все эти годы мне ни разу не приходило в голову, что может быть и такое. Но когда врач сообщил об этом, я нисколько не удивилась. Более двадцати лет я хотела, чтобы нечто выросло у меня в животе, вот в конце концов желание и исполнилось. С одной небольшой разницей. Вместо жизни я вынашивала смерть.
«Если бы вы пришли раньше…» – сказал доктор, безутешно глядя на меня. Я пожала плечами, как бы говоря: «Что поделаешь». Но все равно – ведь это его профессиональная обязанность – врач оставил мне ниточку надежды. Нужно срочно оперировать, чтобы помешать обезумевшим клеткам отправиться гулять по всему телу. Он дал мне направления на анализы. Я согласилась. На самом деле мне уже было все совершенно безразлично.
Когда объявляют о неминуемой смерти, многие словно сходят с ума. Плачут, отчаиваются, тратят все свои деньги на удовольствия. Другие неожиданно обращаются к Богу и находят последние силы в вере. Со мной не случилось ни того ни другого. Даже врач удивился. Его известие привело меня в состояние некой эйфории.
По дороге домой я задержалась у магазина цветов. И почти весь день провела, создавая новую композицию. Я впервые не повторяла то, чему нас учили на курсах. Расстелила сухие ветки, мох, ветки ягеля и поверх всего этого поместила голую веточку шиповника. Ярко-красные ягоды не подвесила, а разложила, слегка прикрыв мхом и землей.
Я так увлеклась своей композицией, что забыла поужинать. И наконец, вполне удовлетворенная, любовалась ею со всех сторон. Да, это была действительно превосходная икебана. И отнюдь не потому, что верно соблюдены все правила, а оттого что наконец-то я выразила то, что было у меня в душе.
Я дала ей название – «Под снегом».
В следующие дни я сдала необходимые анализы. А потом как ни в чем не бывало отправилась на этот конгресс в Хельсинки. Там, кто знает почему – из-за снега ли, из-за тишины? – я начала писать тебе это письмо. Жалею ли об этом? Нет, мне оно помогает, и этого достаточно. Завтра ложусь в больницу на операцию.
По возвращении из Финляндии – и почему я говорю тебе об этом только сейчас? – я не выдержала, пришла взглянуть на тебя. Под каким-то предлогом узнала у привратницы, где твое окно. Посматривая поминутно на часы, будто ожидая с кем-то встречи, я прогуливалась под ним весь день. Только около пяти заметила мелькнувшую за занавеской тень.
Рим, 18 июня 1969Я опять здесь, дорогой. Еще жива и по-прежнему ношу тебя под сердцем. Плод с обезумевшими клетками пустил ростки по всему телу, захватил сначала печень, а потом и мозг. В агентстве узнали о моей болезни. Альберто навестил меня в больнице. Не мог скрыть изумления. Все повторял: «Никак не могу поверить, ты так хорошо выглядела…» Естественно, он же не знал о твоей истории. Кроме моих отца и матери никто не знал о ней.
Если б ты увидел меня сейчас, не поверил бы, что я твоя мать, а решил бы, что это какая-то сумасшедшая старуха. Наверное, так и подумал позавчера, когда, выходя из дома, увидел меня, сидящую на скамейке напротив дома. Мы словно случайно встретились взглядом, и ты сразу же, скривив губы, отвел глаза. Ты прав, волосы у меня выпали, и кожа, словно желтая грязная обертка, покрывает костлявый череп. Мне хотелось броситься к тебе, обнять, ощутить жизнь в твоем теле. Но я опустила глаза, притворившись, будто ищу что-то на земле, и пошевелила ногой пыль.
Я больше ни с кем не вижусь, и никто из моих немногих знакомых не ищет меня. Столь очевидная смерть всех пугает. Я отказалась ложиться раньше времени в больницу. Ненавижу все эти приборы с проводами, бесконечные операции. Зачем отнимать еще несколько дней у жизни, которой и так почти не осталось? Однажды, в юности, когда еще понимала поэзию, я прочитала стихи одного венгерского поэта. Не помню, что там было в начале, но запомнила конец: «Я жил напрасно, но и смерть напрасной будет». Все последние дни эти строчки почему-то не выходят у меня из головы.
Чтобы незаметно видеть тебя, я стала носить с собой пластиковые мешки. Стою тут возле твоего дома и кормлю кошек. Каждой придумала имя. Когда приходят все сразу, называю их детьми. Ловлю тревожные взгляды привратницы в своем доме. Понятно, она думает, будто синьорина М. тронулась умом. Вижу, как люди на улице обращают внимание на мою голову, но это не сердит меня, а, наоборот, радует. Одним лишь своим дуновением смерть развеяла всю мою мудрость! Вскоре меня не станет. И какое мне дело до всего остального? Оставалась бы я мудрой, то написала бы тебе сейчас последние слова, те великие и прекраснейшие слова, обозначающие жизнь. Но мне только делается смешно. Наверное, это стараются обезумевшие клетки в моем мозгу. Кто знает?
Этой ночью мне приснился сон. Тот самый. Будто я долгие часы пробираюсь сквозь ужасную снежную пургу. На каждом шагу утопаю по колено в снегу. И продвигаюсь все с большим и большим трудом, все более теряя силы. Но вот вижу тот свет вдали и уже чувствую, как внутри меня возникает спокойное оцепенение от холода. Сжимаю зубы, собираю последние силы. Наваливаюсь на дверь всем телом, она не заперта, приоткрывается. В комнате горит очаг, на столе вино и суп. Ем, пью. Потом поднимаюсь на второй этаж, постель разобрана, на подушке лежит белая фланелевая ночная рубашка. Надеваю ее и исчезаю под пуховым одеялом. Рядом стоит зажженная свеча, а снаружи все еще бушует пурга. Лежа с открытыми глазами, принимаюсь считать падающие снежинки, что опускаются на крышу, и те, что ложатся на подоконник. Потом рассматриваю снежинки, покрывающие ближайший лес, вершины и ветви деревьев, землю вокруг. И оказываюсь под плотным белым снежным покровом. Ломаю ледяную корку и опускаюсь еще ниже, туда, где лежат желуди, семена, где кроются соки растений, готовые проснуться весной. Вижу свернувшихся в клубок спящих змей и распластанных, будто мертвых, лягушек. Не понимаю, а что же такое я сама – то ли червь, то ли всего лишь взгляд, а может, муравей. Там, под землей, я двигаюсь совсем легко. Вроде лежу в постели и в то же время не в постели, я там, под землей, и одновременно повсюду. Дышу. Внезапно свеча гаснет, и я засыпаю. Сплю и вижу сон, будто я сплю. И только тогда все понимаю.
Утром у меня уже почти не было сил подняться с постели. Я с трудом открыла шкаф и достала голубую распашонку и штанишки, разгладила их ладонью, завернула сначала в красивую бумагу с цветочками, потом в более плотную, оберточную. Проверила, есть ли в сумочке два билета на автобус. Выбрала самое дальнее почтовое отделение, а обратный адрес написала вымышленный.
Служащая в окошке спросила, нет ли внутри письма, я сказала: «Нет, никакого письма там нет». Тогда она бросила пакет на весы. От его удара я вздрогнула. Заметив это, она с тревогой спросила: «Там что-то хрупкое?»
Еле слышно я произнесла: «Очень хрупкое».
ТОЛЬКО ДЛЯ ГОЛОСА
Вчера пришли эти, с телевидения. Я ожидала их в два часа, они явились около четырех. Их было шестеро. И тотчас принялись искать электрические розетки. Пока устанавливали перед моим креслом кинокамеру, я сказала ведущей, что это мое первое в жизни выступление по телевидению. Уверены ли они, что именно я должна отвечать на их вопросы? Действительно ли я им нужна? Журналистка успокоила меня, сказав, что от меня лишь требуется говорить так, будто никакой камеры вовсе и нет. Мужчины между тем продолжали суетиться вокруг, и всякий раз, когда передвигали кресло или перекладывали какую-нибудь книгу, я вздрагивала. Вовсе не из опасения, будто они что-то испортят, а из-за грязи, которая обнаруживалась при этом. Ты ведь хорошо знаешь, как я живу – всюду столько пыли, но как объяснить им, что у меня самой уже нет сил и не осталось никого, кто помог бы прибраться в доме? Ты, молодая, наверное, посмеешься, ах какие глупости, скажешь. Ведь правда? А я все же чувствовала себя весьма неловко. И все оттого, что меня так воспитали когда-то. Что поделаешь… Поэтому, когда включили все лампы, я попросила взять в кадр только мое лицо и ничего больше, чтобы не видно было ни комнаты, ни книг, ни скульптур моего мужа. И еще я поинтересовалась: «Это пойдет прямо в эфир?» Они засмеялись. Нет, передача состоится месяца через три, может, через четыре. Если мне что-то не понравится, они потом вырежут. Можешь узнать, так ли это? Они, конечно, пообещали, но не очень-то я им верю…
Через полчаса все было готово к съемке, можно было начинать интервью. Кто-то из мужчин щелкнул хлопушкой и крикнул: «Оставшиеся в живых, дубль один!» Камера зажужжала. Журналистка сидела напротив меня. Все с той же улыбкой она представила меня и, еще шире улыбнувшись, предложила: «Не хотите ли рассказать вашу историю?» Поначалу голос мой немного дрожал, но постепенно зазвучал почти нормально.
Я поведала о своем детстве, о жизни в городе в годы войны. Несколько слов сказала о своем отце, о матери, о том, откуда они родом. Описала, как познакомилась со своим будущим мужем и как начались преследования. Я говорила очень хорошо, знаешь, безо всякого волнения, даже не думала, что способна на такое. Будто рассказывала и не о себе вовсе, а о совсем другом человеке. Я не замечала, как идет время, журналистка все кивала, улыбалась и казалась вполне довольной. Я говорила и о рождении дочери, и о наших сложных отношениях… И тут, едва я сказала о ее смерти, ведущая впервые прервала меня. «Когда это произошло?» – поинтересовалась она.
Я стала считать про себя, сколько же минуло лет с тех пор, считала и тут же забывала, спокойно начинала пересчитывать заново, но в тот момент, когда четко осознавала цифру и оставалось лишь произнести ее вслух, вдруг снова забывала. Не знаю, сколько такое длилось, журналистка вроде не беспокоилась, но я разнервничалась и с каждой минутой волновалась все больше.
Именно эта заминка и послужила всему причиной. Веришь ли, я просто не ожидала, что так получится, но вдруг потеряла нить, сбилась. Вот что значит возраст. Я все пыталась сообразить, о чем же надо говорить, как продолжить свой рассказ, но в голове зияла пустота. Камера работала, только ее жужжание и было слышно в комнате, больше ничего. Спустя некоторое время журналистка, желая помочь мне, заговорила сама: «Ваша мать тоже умерла трагически, это правда? Не хотите ли раскрыть нам, как все произошло?»
Она застала меня врасплох, в тот момент я думала не о матери, а совсем о другом. Вместо лица матери передо мной возник чайник, стоящий на кухонной плите, с потрескавшейся накипью на дне, я отмахнулась от чайника и произнесла: «Она умерла…» Но тут мне почему-то представилась герань, что стоит на окне, вся пожелтевшая, высохшая, потому что вот уже три года, как я не меняла землю… Но я отогнала и герань, а дальше все совсем смешалось. Знаешь, как бывало в детстве: кружишься на одном месте с закрытыми глазами, все быстрее и быстрее, а потом, когда внезапно остановишься и откроешь глаза, все вокруг еще продолжает вертеться, и ты не понимаешь, где находишься, словно Мальчик-с-пальчик в лесу, или что-то в этом роде. Так случилось и со мной, я окончательно запуталась и перестала сознавать, где я.
Тут журналистка повторила вопрос. Разумеется, она знала ответ и задала его только для зрителей. Она спросила: «Ваша мать исчезла из больницы, не так ли?»
Вот тогда пробка вылетела и все вырвалось наружу – изо рта, из глаз. Я закричала: «Не знаю!»
И разрыдалась. Я увидела лицо своей матери среди простыней и подушек, ее высохшее тело, и я видела ее – не просто представляла, как сейчас, когда рассказываю тебе, а словно наяву, точно все происходило именно в тот самый момент. А тогда, давно, когда это действительно произошло, я не плакала, и потом никогда не пролила ни единой слезинки, и все последующие годы старалась не вспоминать о случившемся. Но тут вдруг, почти семьдесят лет спустя, мама неожиданно оказалась передо мной, будто наяву, – лежит в постели, а через минуту кровать ее уже пуста, и крытый немецкий фургон отъезжает куда-то у меня на глазах. И я буквально заскрипела, словно старая лодка. Я понимаю, что произошло, – так проявляется, выплескивается наружу старческая сентиментальность. Почему-то с годами все чаще хочется плакать, прольешь слезу и не можешь остановиться, и так длится часами, и ничто не может утешить тебя. Сердце слабеет, еле бьется, веки делаются дряблыми. И перестаешь плакать, только когда уснешь. Такое случилось со мной и вчера перед камерой. Даже сейчас, когда рассказываю тебе все это, чувствую, как краснею от стыда.
Журналистка замерла в напряжении, с блокнотом в руке, и камера продолжала работать. Я думала, ее выключили, но, оказывается, нет, и все стояли не шелохнувшись, будто загипнотизированные ядовитой змеей. А я рыдала все громче, вспоминая свою мертвую мать, просто не могла не плакать, хотя знала, что меня снимают, но все равно не могла остановиться. Продолжая рыдать, я жестом попросила прекратить съемку. У меня больные ноги, ты же знаешь, и я не могла подняться с кресла и уйти в другую комнату, поэтому я только жестом попросила остановить все, но ничто не помогло. Тогда я закрыла лицо руками, и слезы ручьем полились мне на грудь, я почувствовала сквозь кофточку теплую влагу и подумала, что вот сейчас соберусь с силами и скажу: «Все!» Непременно скажу. И я уже готова была произнести это слово, уже открыла рот, как вдруг неожиданно для себя самой закричала: «В холодильнике больше нет масла!»
Только тут все зашевелились и выключили камеру.
Когда они ушли, я все еще рыдала, я проплакала всю ночь. Как ты думаешь, можно остановить их? У тебя ведь столько знакомых, попробуй выяснить. Я потеряла всякий покой, совсем перестала спать. Это тоже возрастное – зацепишься за какую-то мысль и никак не можешь от нее отвязаться. Все прорвалось наружу. Словно эта штука в самолете – черный ящик. Летит себе самолет спокойно, долго, и все идет нормально, ящик сообщает – пролетели над морем, над горами, миновали грозу, все в порядке, все хорошо. А потом самолет падает и разбивается, находят черный ящик, вскрывают его и обнаруживают, что два или три болта уже давно отвинтились, а потом добавилась вибрация крыла, а еще раньше и вибрация двигателя, и в результате самолет взорвался со всеми своими секретами внутри, в своем черном сердце.
Зачем я тебе говорю это? Говорю, говорю… Хотя ничего не понимаю ни в самолетах, ни в черных ящиках, просто читала в газетах. «Говоришь, потому что у тебя есть язык», – обычно объяснял мне отец. Это верно. А знаешь, с тех пор как я осталась совсем одна, у меня появилась привычка разговаривать с самой собой. И я могу болтать так долгими часами, отчего возникает нечто вроде звукового фона, словно радио верещит. Посмотри на мою герань. Что сделать, чтобы она ожила? Стоит вся пожелтевшая. Каждое утро просыпаюсь с мыслью, что вот сейчас вырву ее из горшка и выброшу. Однако ничего не предпринимаю, и вечером она остается все там же, еще более пожухлая.
Каждый раз, когда ты навещаешь меня, я удивляюсь. Зачем, спрашиваю я себя, ты приходишь? Неужели только из жалости? А отчего же еще? Я ведь дряхлая старуха, день ото дня глупеющая все больше и больше. Не надо возражать. Я сама все вижу. Иду в другую комнату взять там что-то, а прихожу и уже не помню, за чем шла. Послоняюсь немного и вернусь. Знаешь, что я сделала позавчера? Слила горячую воду из кастрюли, так и не опустив в нее макароны… С тобой тоже бывает такое? Возможно, хотя в молодости все идет по-другому, тогда забывают лишь по одной причине: чем-то другим занята голова. Я поняла, что действительно постарела, когда обнаружила однажды, что если прежде воспоминания все как миленькие выстраивались в один ряд – хорошие и плохие, важные и незначительные, то теперь… Поначалу отлично помнишь, с кем виделась вчера и что случилось в конце года шесть лет назад, все следует в памяти одно за другим в четком порядке, словно жемчужины на нитке ожерелья. А с годами начинаешь замечать, что не можешь припомнить, что-то выпадает из головы. И возникает ощущение, будто память… ну как пол в деревянном доме, где некоторые доски постепенно прогнивают, но оттого что на вид они, хоть и трухлявые, все одинаковы, ты спокойно ходишь по ним, пока вдруг какие-то не проваливаются и не исчезают этажом ниже. Сгинет такая доска, и все вокруг тоже словно устремляется за ней. Чем больше проходит времени, тем больше в доме подобных провалов, и все превращается в некий круговорот, и ты все осторожнее двигаешься среди зияющих дыр, ведь из-за малейшей ошибки и то немногое, что еще сберегаешь, тоже может рухнуть и пропасть навсегда.
И тогда все погружается во мрак, не так ли? Кругом кромешная тьма, но ты еще жива. И что самое ужасное и больше всего возмущает – сердце и желудок работают как ни в чем не бывало и могут действовать еще много лет, когда ты, по сути, уже и не существуешь.
Окружающие заботятся о тебе: кормят лучшими продуктами, запачкаешься – моют, точно ребенка; разговаривают с тобой – тоже как с младенцем. Все делают для нормальной работы твоего сердца, твоего желудка, притворяются, будто им важнее всего, чтобы нормально функционировали эти органы. И я нередко думаю – единственное, в чем мне повезло в этой жизни, что я стара и одинока и у меня нет никого, кто стал бы заботиться о моем кишечнике. Помнишь госпожу Д.? Ты знала ее? Представь себе, вот уже три месяца ее дети вынуждены запирать мать дома на ключ. Каждое утро она встает, идет в кухню, спрашивает, где ее школьный завтрак, и приветствует всех: «Чао, чао, я пошла в школу!..» Понимаешь? Так лучше уж пусть пожарные найдут меня бездыханной на полу.
Видишь ли, порой, проводя тут в одиночестве целые дни, наблюдая, как постепенно меркнет свет и комнату окутывает полумрак, как следом опускается ночь, сидя в кресле под этой вот лампой, читая что-нибудь иногда, чаще свои любимые стихи, но вскоре откладывая книгу из-за усталости, я нередко закрываю глаза и думаю, убеждая саму себя, что душа все же определенно существует.
А на другой день мне звонит госпожа Д. и с восторгом сообщает: «Я так рада – получила сегодня четверку по математике. Придешь ко мне делать уроки?» И тогда я спрашиваю себя, если душа вообще существует, то где же конкретно душа госпожи Д.? Может, она уже вознеслась на небеса и ожидает, когда к ней присоединится ее тело? Или же никакой души нет и никогда не было, а есть только сердце, кишечник, язык, ну и так далее. Но если все же душа где-то начинается, то где? А если кончается, – опять же, где? Где она выживает? Может, есть какой-то склад, где она хранится? Либо она переходит из одного тела в другое, как собака, ищущая хозяина? Очевидно, такими вопросами не следовало бы задаваться, не так ли? Надо просто верить, а не ломать голову. Но у меня всегда была такая скверная привычка, и я не могу избавиться от нее. Я лицемерна, мне следовало бы сказать себе: души нет, ну и ладно. А я, наоборот, хочу верить, что она все-таки существует. Но только мне никак не удается увидеть ее, и я просто не понимаю, как она перемещается из одного места в другое. Отрывается? Отклеивается и приклеивается? Или вся состоит из шариков и перекатывается?
Знаешь, когда я была маленькой, мой отец придавал очень большое значение субботе, хотел, чтобы к этому дню все относились с уважением. Поэтому от заката в пятницу до заката в субботу мы прекращали все дела. Мне это очень нравилось, потому что немного походило на детскую забаву, не знаю, играют ли сейчас в нее дети. Игра называлась «Прекрасные скульптуры». Дети резвятся, бегают, прыгают и вдруг по внезапной команде одного из них тотчас замирают в различных позах. Утром в субботу у нас с отцом была такая привычка – мы отправлялись с ним вдвоем гулять по городу. И тогда он, крепко держа меня за руку, говорил: «Смотри, видишь, как все двоится? И знаешь почему? Потому что в этот день, только сегодня, в субботу, ты видишь все двумя глазами – своими собственными и глазами души». Это было похоже на колдовство, на волшебство. В детстве обычно очень любят нечто подобное, хорошо бы сохранить такую любовь и во взрослом состоянии. Так или иначе, то, о чем я рассказала, отнюдь не было выдумкой, а происходило на самом деле. В субботу мне слышались какие-то шумы, шорохи, шепот, а в воскресенье или во вторник они никогда не возникали. Я все видела раздвоенным, с одной стороны находилось тело, остававшееся недвижным, с другой – нечто иное, что двигалось вперед, перемещаясь между предметами проворно, словно рыба в воде, как ловкий и стремительный угорь. Конечно, странно, но по субботам мне определенно казалось, будто я становлюсь легче, точно и совсем невесома. У тебя тоже появлялось такое ощущение, когда ты жила в Израиле? Тогда сможешь понять меня. Иногда мне приходит в голову одна фантазия – начинаю воображать себя каким-нибудь очень важным политическим деятелем, главой государства или что-нибудь в этом роде. Знаешь, что бы я сделала, случись такое? Нет, я не стала бы издавать никаких грандиозных законов, проводить реформы и устраивать революции, нет, я только ввела бы один обязательный для всех день отдыха, не просто выходной, он уже есть, а именно день отдыха. Я уверена, что вскоре все почувствовали бы себя намного лучше. Знаешь, в субботу даже моя мать всегда оставалась абсолютно спокойной. Этот день она обычно почти целиком проводила в кресле у граммофона. Тихо шевелила пальцами или негромко подпевала детским песенкам. Сколько ни стараюсь, не могу припомнить, чтобы в субботу у нее случился какой-либо серьезный кризис. А в другие дни – да, такое бывало. Особенно опасные срывы приходились на смену времен года – между зимой и весной, летом и осенью. У нее была такая навязчивая идея: она считала, что в ее мозгу обитают какие-то вирусы, будто бы они сидят там и заставляют извилины поскрипывать, крошат их на мелкие кусочки и, наконец, поедают. Единственным своим спасением она считала пчел, только они своими длинными жалами могут вытянуть, извлечь все эти вирусы один за другим и могут, словно буравами, просверлить все – волосы, кожу, черепную крышку. Это будет выглядеть дикой, безжалостной охотой, но в конце концов добрые насекомые победят, все вирусы погибнут, и она будет навсегда спасена. И я хорошо помню, как она стоит с распущенными волосами у окна и громко призывает пчелиный рой. Нет, мать не родилась сумасшедшей, иначе отец не женился бы на ней. Более того, если послушать дедушку и бабушку, так она была на редкость славной и покладистой девушкой. Видимо, на нее повлияло мое рождение. Все началось – как мне рассказали, когда я выросла, – вот таким образом: часа через два после родов она почувствовала, что испачкалась, хотела вымыться и, увидев меня, закричала: «Уберите прочь эту уродину!»
Потом врачи объясняли, что такое могло произойти по самым разным причинам, но мне-то от этого не легче? Я ведь уже существовала, появилась на свет и оказалась дочерью сумасшедшей женщины. Уже ребенком я получила нечто вроде клейма, понимаешь? И оно сокращало мою жизнь. Я постоянно чувствовала его, словно оно сидело в засаде. Ты ведь тоже боялась сойти с ума? Думаю, рано или поздно нечто такое случается со многими, это почти нормальное явление. Однако для меня, видишь ли, все складывалось немного иначе. Я понимала, более того, я точно знаю, что ее кровь смешалась с моей и течет по моим сосудам. Бывает, по ночам даже слышу, как она переливается во мне и зовет, да, да, зовет: «Ну, иди, иди же сюда, иди ко мне». На прошлой неделе я смотрела по телевидению документальный фильм о японских карликовых деревьях. Как это ужасно, только японцам такое могло прийти в голову! Знаешь, что они делают? Берут самые обычные деревья, разных видов – яблони, сосны, оливы, – с нормальными семенами и листвой обычного цвета и не дают им расти нормально. Кто-то все время следит за ними и постоянно подрезает ветки то там, то тут, подавляя тем самым их развитие и вынуждая оставаться низкорослыми. Вот так и я, совсем одна, постоянно вынуждена думать маленькими-маленькими мыслями, как обыкновенная посредственность. Прекрасно помню, например, что в юности, когда сама природа словно пробуждает в человеке желание объять весь мир, возвращаясь летними вечерами по берегу моря, я ощущала над собой звездное небо, оно было там, наверху, натянутое, точно гигантская простыня, накрывающая все вокруг; я знала, что оно там, это сверкающее небо, к тому же очень красивое, но я никогда не запрокидывала голову, чтобы увидеть его, не позволяла себе этого. Я боялась, понимаешь? Я вообще пугалась темноты, тишины, далеких огней, опасалась всего, что скрыто в засаде. Многие годы я бывала на пляже, но никогда даже не ступала в воду. Я никогда не начинала читать книгу, не узнав предварительно ее краткое содержание.
Мой муж? Я познакомилась с ним в юности, и с тех пор дела мои пошли немного лучше. В то время мою мать уже поместили в клинику. Я редко навещала ее. Моя жизнь словно повернула в другую сторону. В молодости больше думаешь о том, что тебя ждет впереди. Мой будущий муж тогда только-только получил диплом юриста, у него было любимое занятие – кажется, теперь это называется хобби – он занимался скульптурой. Это был сильный и уравновешенный человек. Тогда я думала о замужестве, о детях, о своей материнской роли. Как раз в те времена начались первые демонстрации.
Прекрасно помню один мартовский день. Странная штука наша память, не так ли? Абсолютно не могу вспомнить, что было со мной вчера, а то, что случилось когда-то, очень давно, вижу настолько отчетливо, будто все происходит сейчас, здесь, передо мной. Вот мы с отцом сидим в гостиной, окна распахнуты, он настраивает скрипку, я читаю. По улице движется какая-то толпа, и слышны громкие крики по-немецки: «Juden raus!»[4]4
Евреи, на улицу! (нем.).
[Закрыть] Я откладываю книгу и спрашиваю отца: «Что они кричат?» И он, продолжая как ни в чем не бывало настраивать инструмент, отвечает: «Они кричат: “Jugend raus!” – “Молодежь, выходи”». «Зачем?» – недоумеваю я. «Затем, что так необходимо, – отвечает отец. – Они правы, молодежи надо выходить на улицу, чтобы развлекаться…»
Понимаешь? Он отказывался знать правду. Предавать веру в своего Бога было грешно. Думаю, вот в этом-то и было все дело.
Много лет спустя после всех этих событий я подумала: «Бог тут ни при чем, может, его и нет вовсе. А если и существует, то, наверное, занят где-то в другом месте. Не он вселяет вирус в головы, не он сворачивает мозги, а его противостоящая сторона».
Мне тоже, так или иначе, было трудно понять все это. Знаешь почему? Отчасти из-за влияния отца, возможно, из-за убеждения, что если у тебя сумасшедшая мать, то ничего хуже быть больше просто не может. Словом, если нужно расплатиться за свои грехи, то я уже чиста, с этим у меня все было в порядке, и ничего плохого больше не должно быть. В ту пору я была целиком поглощена приданым, готовила праздник нашего обручения, с радостью ожидала, когда навестит нас мой будущий муж. Жила, как и все мои сверстницы в те времена. На первом плане были мы двое, наше будущее; на втором, третьем, четвертом, где-то совсем далеко – история. Могла ли я вообразить, что именно она и перевернет всю нашу жизнь.
Знаешь, мне иногда случается беседовать с нынешними молодыми людьми вроде тебя, и тогда я понимаю, что вы намного лучше, чем были мы. Вы много читаете, интересуетесь всякими проблемами, и от вашего взгляда не ускользнет происходящее вокруг. Я рада этому, думаю, вот и хорошо, значит, былое не повторится. В наше время все происходило иначе. Тогда рядом существовали великие понятия – религия, Бог, душа – и мелкие, будничные. Недоставало… как бы это сказать?.. Не хватало промежуточного звена.
Еще когда мою мать только поместили в больницу, из Германии пришли какие-то странные известия – сообщения, в какие просто невозможно было поверить. И мой отец действительно ничему не верил. Даже когда некоторые его друзья уехали в Палестину, он упрямо продолжал ничего не видеть. Знаешь, что он говорил? «Люди тревожатся из-за пустяков! – повторял он. – Мы никогда никому не причиняли зла, отчего же с нами должно случиться что-то плохое?» Так говорил он, и я, естественно, старалась следовать за его мыслями.
Нелепо, не правда ли? Сейчас, вновь перебирая все в памяти, я понимаю, что мы спаслись именно благодаря моей матери. Видимо, я осознала это лишь вчера и оттого-то невольно разрыдалась. Вчера все стало понятно моему сердцу, сегодня – голове. Все так и происходит, не спеша. Я говорила тебе, что мама уже три года как лежала в клинике, когда это произошло. Болезнь обострилась, и невозможно стало держать ее дома. А в клинике она неожиданно сделалась спокойной, почти все время проводила в постели и только свистом, коротким или длинным, – сама придумала этот условный язык – подзывала своих подруг, пчел. Иногда вскидывала вверх руки, словно высвобождая их. Именно такой я ее и запомнила.
Ее забрали однажды майским утром, мы ничего не знали, я пришла навестить ее с цветами – она просила всегда приносить цветы для пчел – и обнаружила пустую, смятую постель. Ее не оказалось ни в туалете, ни в процедурном кабинете, я все громче спрашивала у врачей: «Где она?» Но они только пристально смотрели на меня, не произнося ни слова. Выбежав во двор, я заметила крытый немецкий фургон, за рулем которого сидел солдат. Увидев его, я поначалу не придала этому никакого значения. Только пометавшись по коридорам и неожиданно обнаружив множество других пустых кроватей, я вдруг заподозрила, более того, тотчас все поняла, снова поспешила во двор и увидела, что фургон тронулся к воротам. Я с криком бросилась за ним, цветы рассыпались; как сейчас вижу их повсюду на асфальте, никому не нужные. Потом мы долго где только могли искали маму, папа задействовал все свои влиятельные знакомства. Нам не удалось получить никакой, даже самой ничтожной информации. Пропала, исчезла навсегда. Евгеническая программа. Слышала о ней, нет? Еще прежде, чем стали уничтожать евреев, начали истреблять всех неполноценных людей, сумасшедших. Спустя несколько недель кто-то сказал нам, будто окольными путями удалось узнать, что она попала в Германию и послужила науке, проводившей какие-то опыты. А кое-кто другой утверждал, будто ее уничтожили еще в нашем городе, она умерла в том же фургоне – в него подавались выхлопные газы. Мне стыдно признаться тебе в этом теперь, но я до сих пор не знаю, где ее тело, вернее, то, что от него осталось. После войны были опубликованы подробнейшие списки, я могла бы получить их и внимательно изучить, но не нашла в себе сил.