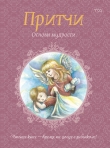Текст книги "Только для голоса"
Автор книги: Сюзанна Тамаро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Дни проходили так: я отправлялся в школу, а они вместе – на работу. Я возвращался, когда они находились еще в больнице, и до ужина был предоставлен самому себе. После обеда, как мы условились, я должен был заниматься. Ходил я теперь в старший класс, и мне задавали уйму уроков, но учиться мне нисколечко не хотелось. В голове роилось столько разных идей, поэтому я уходил гулять до самого вечера. У меня, конечно, были определенные любимые места, где я бывал чаще всего. Особенно мне нравилась дорога вдоль моря.
Нередко с соседнего болота туда прилетали болотные курочки и нырки, иногда и поганки, и я часами наблюдал за ними. Смотрел, как они изящно двигаются по песку среди пластиковых пакетов, и все записывал в свою белую тетрадку. Вечером, когда мать и отчим возвращались, они убеждались, что я дома. Я включал лампу на письменном столе, ставил локти на какую-нибудь книгу и притворялся, будто читаю. Мама была ужасно довольна, когда видела полоску света под дверью, и шептала мужу: «Он все еще занимается, сидит над книгами». Он тоже был доволен, так доволен, что однажды вечером даже погладил меня по голове и сказал: «Вот человек набирается ума-разума!» Только я не был доволен. Из-за канареек, конечно. Они любили друг друга, я уже убедился в этом. Но еще не решили иметь детей. Каждое утро, прямо в пижаме, я бежал к ним, но так и не находил в клетке ничего нового. Я начал беспокоиться. У канареек нет бороды, нет грудей, понимаете? А вдруг продавец ошибся, и это две самки или, еще хуже, два молодых самца? Короче, чем дальше, тем больше я беспокоился.
Когда двое любят друг друга, рождаются дети. Об этом мне и мама сказала, всего неделю тому назад. Мама и он, конечно.
Это произошло за ужином. Обычно мы все тогда собирались за столом. Словом, мы ели, а мама потрогала свой живот, под столом потрогала и сказала: «Скоро у тебя появится братик». Так и сказала.
Я посмотрел на нее, ничего не понимая, открыв рот от удивления, и спросил: «Почему?» Она тихо произнесла: «Потому что, когда двое любят друг друга, рождаются дети».
Понимаете? Значит, мои канарейки тоже должны иметь детей. Как бы там ни было, но братик так и не родился. Однажды мама вдруг согнулась, схватившись за живот, вскрикнула, и тотчас на полу под ней образовалась лужа крови, словно кран открылся.
Они жили в согласии, несомненно. Иначе зачем бы вдруг поженились? Только он был очень ревнивый. Считал, что раз много лет назад мама жила с кем-то другим, значит, и теперь она могла развлекаться и встречаться с посторонними мужчинами. Поэтому иногда он не возвращался вечером домой. То есть возвращался, но позднее обычного. А когда приходил, мы уже были в постели, но все равно слышали, как он ужасно шумел, стучал дверьми и всем прочим, что попадало под руку. Ходил по дому злой, как волк с пустым животом. Искал, что бы поесть, словом, нас искал, будто хотел сожрать. Я делал вид, что ничего не замечаю, а как мама – не знаю.
Я повторял названия камней. Понимаете? Хотя теперь я занимался птицами, но все равно помнил все названия. Берил, арагонит, пирит, сера, кварц, родонит, флюорит, опал… и так всю ночь.
Помогало? Не помогало? Наутро мама потеряла ребенка.
ВОСЬМАЯ БЕСЕДАВ конце концов они родились. Сначала появились яйца, разумеется, а потом, спустя неделю, и птенцы – крохотные уродцы с затянутыми кожей глазами и крупными клювами. Противные или не противные, неважно, зато я теперь не сомневался, что они любили друг друга, и знал, что мои канарейки – самец и самочка. Первые дни я не отходил от клетки, записывал в своей тетради все, что происходило. Кто-то из родителей должен был находиться в гнезде; пока один брал корм из рук, другой согревал птенцов. Это были действительно очень любящие родители. Через неделю птенцы начали оперяться и стали симпатичнее. А потом они сделались очень милыми, особенно когда у них открылись глаза – черные круглые пуговки.
Я ничего не сказал им. Думаю, они даже ничего не заметили. Мы виделись только вечером за столом, и они чаще всего разговаривали о своих делах. Я волей-неволей слышал их разговоры, но старался не вникать и думал о другом. Так, например, мама говорила: «Видел? У триста двадцать первой опять было кровотечение…» И он отвечал: «Я уже трижды делал ей переливание. Теперь ничем помочь нельзя, у нее испорчены вены». Или же вспоминали о другой больной, которой волчанка разъела все лицо так, что остался один череп, обтянутый кожей. «А прежде была такая красивая девушка, – вздыхала мама, – я видела фотографию, очень красивая…» Или же говорили о вновь поступившем больном, которому раздробило ногу грузовиком, и его мать, узнав, что сын скончался, хотела покончить с собой на виду у всех. Словом, они разговаривали всегда об одном и том же, о своей работе, и я старался не слушать их, думал о том, свил ли тот дрозд в саду себе гнездо? Или о том, как же называется маленькая птичка, которую я видел, – может, красноголовый королек?
Но однажды мне их беседы действительно донельзя надоели, я швырнул вилку и закричал: «Вы не могли бы говорить о чем-нибудь другом?»
Я ведь вам уже объяснял, правда? Кровь всегда приводила меня в ужас.
Они замолчали, уставившись на меня. «В чем дело? – наконец проговорил он. – Тебе не нравится наша работа? Или же, – продолжал он, – маленький орнитолог боится крови?» Я ловил вилкой зеленый горошек в тарелке и потому ни на кого не смотрел и ничего не ответил. Но он не отставал. «Тебе давно пора повзрослеть. Настоящие мужчины ничего не боятся. Они преодолевают любой страх. А если не умеют отогнать страх, так превращаются в бабу. Может, хочешь стать бабой, а?»
Вот на этом-то он и зациклился. Он не раз повторял, что я не должен расти размазней, что не должен походить на своего отца ни в чем, что, хоть я и родился кривым, то есть незаконным ребенком, он меня выпрямит. Он сделает это не столько ради меня, сколько из любви к моей матери, которая тащит на себе такой груз, не будучи ни в чем виновата.
Он меня выпрямит? Но как? Как выпрямляют подкову, дерево. Если я проходил мимо него, он возмущался: «Ты пересек мне дорогу! Что ты себе позволяешь?» – и хлестал по лицу. Если я старался незаметно пройти в другой конец коридора, он орал: «Избегаешь меня?! Наберись мужества!» – и снова бил по щекам.
Словом, он делал все, чтобы «выпрямить» меня.
Мама была довольна. Мне, во всяком случае, так казалось, потому что она все видела, но ничего не говорила. Слегка улыбалась, как улыбаются египетские статуи.
Иногда я плакал. Я же не понимал, что мне делать? Тогда мама подходила ко мне, гладила по голове и утешала: «Знаешь, он все делает для твоего же блага, он любит тебя так, как твой настоящий отец никогда не любил. Вырастешь – поймешь. И будешь ему благодарен».
После этих слов я терялся еще больше. Как же я мог быть настолько плохим, если он был такой хороший?
Канарейки никогда не допускали, чтобы их птенцам было холодно. Они все время сидели над ними и кормили всякий раз, как только те открывали клюв. Да, я все записывал в тетради, а чтоб нагляднее было, делал зарисовки.
ДЕВЯТАЯ БЕСЕДАТак вот, о крови. В тот день, как ни странно, за столом ничего не произошло, то есть меня так и оставили «кривым», каким я был доселе, и продолжили разговор о больничных делах. Ничего не случилось ни тогда, ни на следующий день, ни позже. И я уже совсем было успокоился, думая, что пронесло.
Потом однажды утром – в воскресенье, когда мама была на дежурстве, – он вошел ко мне в комнату, разбудил и сказал: «Вставай, поехали на рыбалку!»
Рыбалка – это его страсть, но он не любил рыбачить в открытом море, потому что оно пугало его; он предпочитал быстрые горные реки. «Нет ничего лучше рыбной ловли, для того чтобы расслабиться», – обычно говорил он.
Я оделся, взял свою белую тетрадку и последовал за ним. Часа два мы провели в пути и наконец оказались в небольшой пустынной долине. Вокруг не видно было ни души, только громко шумел ручей, бежавший по камням. Он почти все время молчал, а если и говорил, то как-то чересчур сдержанно. Выбрав место для рыбной ловли, он достал свою удочку, а потом и другую, поменьше, и передал мне. Я тотчас возразил, мол, нет, спасибо, мне не хочется ловить рыбу, но тут должно быть много разных птиц: мартин-рыболов, балерина, водяной дрозд. Словом, я куда с большим удовольствием просто посидел бы в стороне на камне. Но он настаивал, говорил, что одно не исключает другого, можно и рыбу удить, и птиц спокойно разглядывать. Это даже удобнее, ведь нужно сидеть тихо, не двигаясь. Он уговаривал меня еще некоторое время. Настаивал, а я все возражал, мол, спасибо, не хочу, но вдруг заметил, как глаза его зло сверкнули, и тогда согласился.
Он нацепил фальшивых мух, закинул обе удочки и показал, куда сесть, сказав: «Сиди тут!» А сам поднялся немного выше по склону и оттуда крикнул: «Почувствуешь, что клюет, дерни на себя». Он замолчал, я тоже не проронил ни слова.
Я даже подумал, что он, видимо, прав – это занятие и в самом деле очень успокаивает нервы, – как вдруг моя удочка сильно дернулась, едва не вырвавшись из рук. Я с трудом удержал ее и, как только она остановилась, принялся крутить барабан.
Он поспешил мне на помощь, и мы стали тянуть вместе. Наконец, немало потрудившись, мы вытащили на берег огромную форель. «Молодец!» – похвалил он. И я тоже порадовался. И даже улыбался, пока рыба, потрепыхавшись в воздухе, не упала на землю рядом с нами. Она вся сверкала на солнце, но вскоре ее чешую облепил сор. Рыба вертелась на земле, крутясь с боку на бок, словно внутри у нее срабатывала какая-то пружина. Посмотрит на меня одним глазом, потом, подскочив, посмотрит другим. Зрачок был маленький, черный, и к нему прилипла соломинка. Мне показалось даже, что рыба могла бы увидеть меня, но из глаза торчал крючок и лилась кровь – вокруг все было залито ею. Я отвернулся и сказал: «Теперь ведь ее можно бросить обратно в воду, не так ли?» Едва я произнес это, как он схватил меня за подбородок и рванул к себе. «Ты ведь знаешь, – заговорил он, – что рыбу ловят для того, чтобы съесть». В наступившей тишине я услышал, как пролетела балерина. Тогда он взял камень, протянул его мне и приказал: «Убей ее!» Я промолчал и уронил камень. Он подобрал его и снова вложил мне в руку. Короче, это повторилось несколько раз. Наконец он тихо произнес: «Какое же у меня должно быть терпение». Но я чувствовал, что терпения у него остается все меньше и меньше. И действительно, в конце концов он дал мне такую затрещину, что я свалился на землю. Лежа, я смотрел, как он долбит камнем рыбью голову. Когда же та превратилась в кровавое месиво, из которого торчал крючок, я подумал: «Все кончено». Я собрался было подняться, но тут он достал из кармана нож и отрезал рыбе голову. Потом направился ко мне, держа эту голову так, что кровь и какие-то желтые внутренности стекали у него между пальцев. Я не понимал, что он задумал, но все равно вскочил. Однако было уже слишком поздно. Одной рукой он ухватил меня за шиворот, а другой вмазал мне в лицо расплющенную рыбью голову.
Это произошло, наверное, в полдень. Когда же мы сели в машину, он обнял меня за плечи и сказал: «Тебя по-прежнему все еще слишком пугает кровь?» – и привлек к себе, словно мы были школьными приятелями.
Я не мог вымыть лицо, пока мы не добрались до города. Только там, на окраине, он остановил машину у фонтанчика. «Иди умойся. Быстро!» – приказал он.
Мне стоило немалого труда отмыть кровь, потому что она впиталась в кожу, впиталась очень глубоко, до самого мозга.
Маме я ничего не сказал. И он тоже промолчал. Только спросил: «Видела рыбу?! Невероятно, но ее поймал твой сын!» И захохотал.
Мы съели ее в тот же вечер, отварную, с картофелем, под майонезом.
Да, я тоже ел ее вместе с ними, не сказав ни слова. А потом, запершись в ванной, как можно глубже засунул палец в горло.
ДЕСЯТАЯ БЕСЕДАВспоминая обо всем этом сейчас, я могу сказать, что именно то воскресенье стало для меня как бы крещением, своего рода водоразделом. Я не могу точно определить, что же случилось тогда, но думаю, что-то произошло со временем, я начал по-другому ощущать его. Все почему-то стало происходить намного быстрее. И все как-то вдруг разладилось, перестало повиноваться мне.
Запах крови прежде всего. Хоть я и тщательно вымылся, от меня по-прежнему пахло кровью. В ту ночь я не смог уснуть: все время чувствовал этот запах у рта, у глаз. Я зарывался лицом в подушку, и мне казалось, будто я весь насквозь пропитан кровью. Я приподнимал голову, облизывал губы и ощущал этот липкий, сладкий запах. Я испытывал ужас, отвращение, но, кроме этого, и еще какое-то странное чувство. Такое бывает, когда вдруг неожиданно налетит порыв ветра. Тогда кто-нибудь обязательно скажет: ветер несет какое-то предвестие. Или слушаешь музыку, и с первых же нот становится понятно, какая она – грустная или веселая.
Словом, такое в жизни бывает не раз. Со мной вот случилось тогда, но может с кем угодно случиться. Неожиданно из-за какой-нибудь несущественной мелочи вдруг отвлекаешься на что-то совсем иное и направляешься по пути, по которому прежде никогда не шел.
Не знаю, достаточно ли понятно я объясняю, поняли ли вы меня. Но я и сам тогда ничего не понимал. Мне понятно это теперь, когда обдумываю случившееся, заново перебирая в памяти все события в обратном порядке. Крещение? Нет, скорее помазание, что-то похожее на запах падали, притягательный для гиен.
Короче, дело было так. Наутро после того воскресенья, хоть мне и не удалось сомкнуть глаз, я встал, собираясь отправиться в школу, и, еще не одевшись, прошел на кухню взглянуть на мое семейство канареек. Поначалу я просто не поверил собственным глазам. Смотрел, смотрел и все уверял себя, что мне это снится. Потом подошла мама и сзади тронула меня за плечо; вот тогда я понял, что не сплю, а эти растерзанные тушки на дне клетки – мои птенчики. Один справа, другие два слева, у чашечки с водой. Все с перерезанным горлом и вспоротым животом, среди мелких перышек хорошо видны были внутренности. Птенцы погибли не в гнезде, а довольно далеко от него, но ведь они еще не умели летать. Их родители делали вид, будто ничего не произошло, прыгали с одной перекладины на другую и щебетали. Как же так, спрашивал я себя, как же такое возможно? Я стоял у клетки, не в силах шевельнуть даже пальцем. Я все еще стоял, как был – в пижаме, босиком, когда он, уже в пальто, задержался рядом со мной, заглянул в клетку и произнес: «Надо же, мертвые!»
В тот день я не пошел в школу. Сказал, что иду туда, а на самом деле не пошел. Поехал автобусом к морю и все бродил по кромке воды до самого обеда. Я был на берегу и одновременно нигде. И впервые отчетливо ощутил, что я деревянный. Деревянный или каменный, какая разница; во всяком случае, сделан из чего-то такого, что остается бесчувственным, когда к нему прикасаются. И в самом деле, подожги я себе руку и пылай она каким угодно пламенем, я не ощутил бы жара. Только где-то очень глубоко еще оставалась во мне крохотная живая частица. Что-то вроде тлеющего уголька, это нечто еще теплилось и думало. Думало, а я даже не замечал, что думает.
Как всегда, я обедал один. Закончив есть, я не знал, чем заняться, и пошел спать. Проснулся внезапно, с громким воплем, уже вечером. Вот что мне снилось: иду по берегу, как шагал весь день, и вдруг неожиданно, без всякой причины, воспламеняюсь. Огонь пожирает меня изнутри. Я бросаюсь в воду, плыву, но не могу загасить пламя и ору изо всех сил. От этого вопля я и проснулся.
Я просидел за письменным столом до самого ужина. И всего только раз поднялся, чтобы сходить на кухню. Проходя мимо клетки, я притворился, будто не замечаю ее. Я ощущал запах крови, и мне было страшно прикоснуться к птицам. Потом, как всегда, они вернулись домой на машине. Оставили ее в саду и прошли в дом.
За столом, отпивая вино, он произнес: «Надеюсь, ты убрал эти трупики». Я промолчал, не сказал ни да ни нет. Тогда он поднялся и пошел проверить. Потом вернулся и сел за стол со словами: «Чего же ты ждешь? Чтобы их черви съели?» Я сидел не шелохнувшись, он схватил меня за руку и попытался поднять со стула, но я ухватился за скатерть и зацепился ногами за ножки стола. Он тянул меня, а я упирался. У него вздулись вены на шее. Мама между тем подала суп с какими-то зелеными кусочками – он колыхался передо мной в тарелке.
Дело уже дошло до того, что он орал: «Убери их!» А я вопил: «Нет!» Так длилось, наверное, минуты две. Потом я вдруг вскочил и неожиданно ударил его. «Убирай сам, убийца!» – прокричал я и швырнул ему прямо в лицо тарелку с супом.
А потом? Я плохо помню, что было потом. Мама кричала: «Ты с ума сошел!» А он тыкал мою голову в таз с водой. Когда я оказался в своей комнате, он вошел следом и запер за собой дверь. Запомнил я только этот звук – поворачивающегося ключа. Я лежал на полу, и он избивал меня, удары градом сыпались со всех сторон. Сначала я защищался, потом уже не осталось сил. Я понял, что бесполезно сопротивляться, и притворился, будто ничего не чувствую.
Очнулся я в своей кровати, вернее, под нею. Должно быть, я забрался туда, словно в нору. Почувствовал запах крови – она текла у меня из носа. Кровь была повсюду. Я же вам говорил: крещение или водораздел.
На другой день я оказался в интернате.
ОДИННАДЦАТАЯ БЕСЕДАЕстественно, мне пришлось беседовать с психологом. Видите, и в вашей специальности у меня уже есть некоторый опыт. Если честно, я не произнес ни слова, а он все пытался заставить меня заговорить. Наконец, видя, что я упрямо молчу, велел рисовать всякие картинки. Я накорябал как попало и угодил в интернат. Может, ответь я ему или нарисуй картинки получше, и не попал бы туда, но в конце концов все сложилось именно так. В тот же день я уехал. Обрадовался ли я? Не знаю, не очень задумывался об этом. Возможно, что и обрадовался, во всяком случае был счастлив освободиться от них. Единственное, что меня огорчало, – это окончание моих занятий. С того воскресного дня, когда случилась история с рыбой, я не сделал ни одной записи в своей тетради, не собирал больше камни, не наблюдал за полетом птиц. В спешке перед отъездом я оставил дома все свои заметки.
Интернат занимал большое желтоватое здание с матовыми стеклами, стоявшее на лугу. Когда я попал туда, учебный год давно начался и ребята уже знали друг друга. В первый же день меня вызвал к себе падре ректор, седой священник, с такими влажными руками, что, казалось, он их только что вынул из воды. Там, у себя в кабинете, падре стал подробно рассказывать мне историю про овечек, бродивших без присмотра где придется, и про то, насколько лучше им было в одном стаде под мудрым руководством палки. Я плохо понимал, что он говорил, и только позднее сообразил, что у меня сильнейший жар. Поэтому в день приезда ребят я так и не увидел, а попал в больничную палату и провел там довольно длительное время.
В палате я оказался один. Целыми днями лежал в постели, съежившись под одеялом и уставившись в стену напротив. Я попытался сосредоточиться на своих классификациях, пробовал повторять то, что еще помнил, чтобы не утратить привычку, но меня бил озноб, и потому ничего не получалось – я невольно путал названия и формы.
Поправившись, я пришел в свой класс. В интернате существовал строгий, детально разработанный регламент поведения. Я долго не мог освоить его, без конца ошибался, и потому меня все время наказывали. Если б я мог поговорить с кем-нибудь из одноклассников, возможно, все было бы иначе, но нам запрещалось разговаривать друг с другом. Общаться мы могли только в установленный час, под присмотром главного воспитателя.
Знаете, почему запрещалось? Они опасались, что мальчики проникнутся взаимной симпатией, а там дело прямым ходом само пойдет дальше. Тогда я еще не знал, что такое бывает, что люди могут входить друг в друга, даже если они оба мужского пола. Разумеется, подобное все равно случалось. Для этого всегда находилась возможность – ночью или в туалете. Нравилось ли мне такое занятие? Или не нравилось? Не знаю, не задумывался над этим.
Первый раз мне было только больно. И я немного удивился, а потом это вошло в привычку. Более того, именно потому, что это было запрещено, я целый день ни о чем другом и не думал, как только об этом. Поначалу это проделывали со мной, а потом я и сам принялся делать это с другими.
Так вот, когда я пытаюсь понять, как определить то время, мне приходят в голову всего два слова: холод и полумрак. Холод потому, что комнаты и коридоры были огромные и пустынные, а полумрак потому, что в них никогда не было солнца и даже яркого света. А то занятие было, в конце концов, совершенно невинным. Мы проделывали это лишь для того, чтобы согреться, чтобы ощутить в себе хоть немного тепла.
Только поздней весной я понял, что холод никак не связан с температурой воздуха. Сама кожа у меня сделалась холодной, а под кожей и мясо. Я то и дело останавливался и прислушивался к тому, что во мне происходит; иногда казалось, будто и сердце превратилось в кусок льда, будто оно подвешено в каркасе моего туловища, словно кусок говядины в морозильной камере.
Нет, они никогда не навещали меня, даже смену белья не присылали. Только однажды, пару месяцев спустя, я получил открытку. На обратной стороне было написано: «Надеюсь, что ты ведешь себя хорошо». И подпись: «Рита».
Так или иначе, незадолго до конца учебного года неизбежное все-таки произошло – нас накрыли. Я был наедине с самым маленьким мальчиком, и, по правде говоря, мы не делали ничего дурного. Просто мы были вместе и всего лишь держали в руках свои члены. Но когда священник распахнул дверь и осветил нас фонарем, мальчик сразу же со слезами заголосил, что он не виноват, что это я заставлял его заниматься этим. Нас схватили за шиворот и потащили в какую-то темную комнату. Вскоре туда пришел падре ректор. В руках он держал линейку. Приказав мальчику положить руки на стол, он принялся бить по ним линейкой, пока кисти не покрылись кровавыми полосами. Время от времени падре приостанавливался и проверял, смотрю ли я на экзекуцию. Потом он отвел мальчика к двери и, прежде чем вытолкнуть, произнес: «За все это ты должен благодарить своего друга». Мы остались одни. Я решил, что теперь настала моя очередь, и уже было приготовился, но ничего не произошло. Он приблизился ко мне, провел рукой по плечу и сказал: «Мне очень жаль, но тебя я должен запереть». Ну, подумал я, тем лучше. Когда меня отвели в каморку и заперли дверь на ключ, я почувствовал себя едва ли не счастливым и облегченно вздохнул.
Странно, но впервые с тех пор, как оказался в колледже, я перестал ощущать холод. Мне вспоминались исполосованные руки мальчика, кровь, стекавшая с них, и внутри у меня становилось тепло. Выходит, все же я не полностью состою из железа или дерева. И там у меня внутри еще течет что-то горячее и живое.
Спустя некоторое время от нечего делать я уснул. Проснулся не знаю когда, от звука поворачивающегося ключа. Я не успел и приподняться, как кто-то накинулся на меня, навалившись сверху всем телом.
Я заметил, что на лице у него была какая-то маска, действительно очень страшная. Он сразу же приказал: «Не двигайся, не шевелись, перед тобой – дьявол». Но едва его руки коснулись меня, я сразу же понял, что никакой это не дьявол, – ладони были влажные и липкие, как у падре ректора.
Надо ли рассказывать дальше? Вы уже поняли? Могу только добавить, что в тот миг внутри у меня снова все превратилось в лед и осталось так навсегда.
Через несколько дней, едва меня выпустили из каморки, я убежал.
До своего города я добирался два дня. Сначала шел пешком, потом останавливал машины и просил подвезти. В дороге я шаг за шагом уверил себя в одном: мама все знает и будет рада, когда я вернусь. Все опять останется, как прежде, – не могло быть иначе, ведь они любят меня, и мы будем жить хорошо.
Когда я позвонил в дверь, то даже сам не заметил, как начал улыбаться. Его машины на месте не было, и мне стало спокойнее. Я продолжал улыбаться и пока поднимался по лестнице, даже когда вошел в кухню. Она стояла у плиты и обернулась, услышав мои шаги. Я думал, она раскроет мне объятия. Я крикнул: «Мама, вот и я!»
Она ответила: «Вижу» – и снова занялась своим делом.