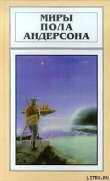Текст книги "Дети солнца"
Автор книги: Светлана Шишкова-Шипунова
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
История любви
– Имейте в виду, – сказала я мужу и сыну задолго до праздника, – этот Новый год я хочу встретить со своей семьёй!
– А кого, собственно, ты имеешь в виду? – уточняет муж. – Если нас с Алёшкой, то мы вот они, и тоже хотим встретить Новый год с тобой.
– Ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду, – говорю я.
– Хорошо. Я не против твоих сестёр, только надо подумать, как все это будет.
– А что тут думать?
– Где всех разместить.
– Да, мам, это как‑то… Я ведь уже ребят пригласил. Ты сама их пригласила. Где мы там все поместимся?
– В доме? О чём вы говорите!
– Нет, давай посчитаем, сколько всего получается народу.
– Давай посчитаем. Тётя Нелля – четверо, тётя Алла – четверо, тётя Женя – трое, это сколько получается, одиннадцать, да? И нас, если твои друзья приедут, – пятеро. Одиннадцать да пять… шестнадцать, что ли? Ой…
– Вот тебе и ой.
– Надо было побольше дом строить! Что это за дом – три спальни?
– Кто‑то не хотел и такого, – говорит муж.
– Да, я не хотела, потому что я не привыкла, я всю жизнь прожила в маленьких советских квартирах, я этих ваших усадеб не понимаю и не…
– Всё ты прекрасно понимаешь. Сестёр для чего собираешь? Похвастаться?
– Если хочешь знать, сколько этот дом строился, столько я мечтала, что наступит день, когда я их всех смогу собрать под одной крышей и мы проведём вместе хотя бы несколько дней. Как в детстве.
– Да… – говорит сын. – Жениться, видимо, лучше на сироте.
– Причём круглой, – добавляет муж.
– Бессовестные вы оба, – обижаюсь я и ухожу в другую комнату.
– Делай, как хочешь, – говорит мне вдогонку муж. – Только Алёшка прав, надо тогда хоть прикинуть заранее, как всех разместить.
– Знаете, что? – говорю я, возвращаясь. – Когда мы были маленькие и жили с родителями на старой квартире, у нас там была комната, считалась залом, 14 метров. Так в ней за столом помещалось 20 человек. 20! И ничего.
– Ага. Как селёдки.
– А спать, если приезжали родственники, ложились даже на полу, покотом, как бабушка говорила. И ничего. А тут целый дом. Поместимся. Главное же не в этом.
– Главное в том, мамочка, что это будет не Новый год, а сумасшедший дом! Я тогда вообще не поеду, я лучше с ребятами где‑нибудь.
– Здрасьте! Сынок, да ты что? Я же хочу с тобой этот Новый год встретить! Это ж все‑таки не обычный год, а Двухтысячный! И я хочу, чтобы все были, все мои родные, а ты ж мой самый родной!
– Вижу я, кто у тебя самый родной.
– Я вообще молчу, – говорит муж.
Господи, ну, как им объяснить, чтобы они не обижались и поняли? Вовсе мне не хочется портить кому‑то праздник, но и отступать от своего, давно задуманного я тоже не хочу. Тем более девчонкам уже пообещала …
– Мам, я придумал, как надо сделать! Давай мы Новый год встретим своей как бы маленькой семьёй, а на Старый новый год ты пригласишь свою как бы большую семью. Я как раз уже уеду.
– А что, – подхватывает муж, – это мысль. Надо, конечно, девчонок свозить дом показать, но на Старый новый год это даже лучше будет, поедете одни, без нас и отдохнёте сколько хотите.
Первая моя реакция, конечно, – возразить, начать объяснять все сначала, но… вдруг я понимаю, что они, пожалуй, правы, так будет лучше для всех, и для меня тоже, по крайней мере, не придётся разрываться между своей семьёй и сёстрами с их ещё более многочисленными семействами.
2000–й год я встречаю в новом, недавно построенном доме на берегу моря вместе с мужем, сыном и свекровью Ольгой Ивановной. В последний момент к нам присоединяется моя незамужняя подруга Зина. Странная у нас получается компания.
Ну, ничего, думаю я про себя, зато на Старый новый год…
Все оставшееся до 13–го января время я живу в заботах и приготовлениях, без конца прокручивая в голове одно и тоже: где я кого положу, что постелю, чем буду угощать и как развлекать. Мне хочется, чтобы всем, в первую очередь сёстрам, было у меня хорошо.
Жаль только, что нельзя привезти в этот дом маму с папой. Вот бы кто порадовался, вот кому было бы здесь хорошо! Постелила бы я им в верхней, просторной и светлой спальне, где полукруглое окно во всю стену, где высокая и широкая кровать (они на такой никогда в жизни не спали). Утром спустились бы они по красивой лестнице вниз, а там, в большой столовой, за круглым столом уже накрыт для них завтрак – лёгкий и вкусный, с фруктами, мягкими булочками, кофе и сливками. Позавтракали бы они, и провела бы я их на открытую галерею, что опоясывает весь фасад дома на уровне второго этажа, и там усадила бы в плетёные кресла, и сидели бы они на воздухе, папа курил бы, а мама любовалась морем. А если б захотели они прогуляться по двору – пожалуйста, места много, гуляйте, а хотите – какую‑нибудь нетрудную работу сделайте, вы ведь не можете без дела сидеть. Хочешь, папа, можешь вот эти пальмочки полить, видишь, их недавно посадили, и нужно всё время поливать, чтобы принялись. Потом они бы ещё долго ходили по дому, всё внимательно оглядывая и радуясь тому, что сделано основательно и красиво, и спрашивали бы: «А что это, доченька, у вас везде свет горит, надо экономить, и так светло, видно». «А воду у вас не отключают? А, свой котёл, ну да, ну да! Это очень хорошо, удобно!». Потом мы бы долго, не торопясь, обедали и про всё разговаривали, и мама бросалась бы к раковине – мыть посуду, а я сказала бы ей: «Ну что ты, мама, зачем, у нас для этого посудомоечная машина есть». И мама с папой удивлялись бы и шли смотреть, как эта машина действует, и папа обязательно спросил бы: «А фужеры не побьются, доча?». А вечером мы зажгли бы камин, уселись в мягкие кресла, смотрели бы телевизор и поглядывали на огонь. И папа снова беспокоился бы, не надо ли подбросить поленца, а мама говорила бы ему: «Женя! Не трогай тут ничего, а то ещё, не дай бог, сломаешь!». А я бы сказала: «Да пусть, пусть подбросит! Помнишь, папа, как на старой квартире ты печку дровами топил?». А они бы засмеялись и замахали руками: «Что ты! Разве сравнить!». И было бы нам хорошо–хорошо. Так хорошо, как никогда в жизни не было.
По–настоящему начинаешь любить родителей, когда их уже нет на свете…
Сестры приехали все, а из зятьёв только двое. Слоняются по дому, не знают, чем заняться. Пива уже попили, на велоаргометре педали покрутили, сидеть с нами и слушать наши разговоры они не любители.
– Включите телевизор, там сто каналов, – говорю я. – Только если напоретесь на порнуху, смотрите, чтобы дети не зашли.
Дети бродят во дворе вокруг бассейна, пробуют руками воду, кричат нам снизу:
– Тёплая!
– Вечером затопим сауну, – обещаю я, – тогда можно будет и бассейн попробовать.
– Мужики пусть пробуют, а мы на них посмотрим.
После обеда мы выходим на галерею, усаживаемся в плетёные кресла, кто с кофе, кто с сигаретой, лично я – со стаканом ананасового сока (теперь везде пишут, что он способствует похуданию), и начинаем усиленно дышать воздухом.
– Надо же, 13 января, а такая теплынь!
– А воздух какой! Не то, что в городе.
– А тихо как!
И правда хорошо – тихо, тепло, морем пахнет, и главное – все мы вместе. Какое счастье!
Я не помню себя единственным ребёнком своих родителей, поскольку в этом состоянии пребывала только первые год и два месяца своей жизни, после чего на свет явилась моя сестра Нелля. Мы росли почти, как близнецы, мама одевала нас в одинаковые платьица, одинаково причёсывала. Самое стойкое понятие моего детства – $1разделить поровну». Если конфет было много (кулёк), они высыпались на диван и честно раскладывались на две равные кучки. Если конфета была одна, её следовало разломить пополам и съесть одновременно, чтобы никто не остался со своей половиной конфеты, когда у другого уже нет.
Среди немногочисленных игрушек нашего куйбышевского детства были две особенно ценных вещицы, не знаю, кем подаренные: детские наручные часики с настоящим ходом и детский же фарфоровый сервизик (чайный). Поделить их между собой мы никак не могли и нашли такой выход. 12 января, я дарила Нелле на день рождения «свои» часики, а 19 ноября Нелля дарила на день рождения мне «свой» сервизик. На следующий год мы менялись подарками: я дарила ей назад её сервизик, а она мне назад мои часики. Так продолжалось, пока у нас не родилась третья сестрёнка. Когда ей исполнился год, мы с облегчением подарили ей наше «богатство» целиком, и вскоре оно было побито и поломано вместе с другими игрушками.
Из‑за того, что я родилась в самом конце года, а Нелля – в самом начале, в школу я пошла шести лет, а Нелля – почти восьми, и разница у нас с ней получилась в целых два класса. Когда я уже училась в первом классе, а Нелля ещё не ходила в школу, был Новый год, и была школьная ёлка.
– А можно я с тобой? – спросила сестра.
Я не знала, можно или нет, но мы нарядились и пошли в школу вместе. Школа была старая, одноэтажная, учились в ней только начальные классы, с первого по четвёртый. Вход в актовый зал был со двора, там росли большие деревья, и стояла скамейка. Мы пришли раньше всех, сели на эту скамейку и стали ждать. Когда во дворе собралось уже много детей, дверь актового зала открылась, вышла чужая учительница и велела всем строиться по классам. Я встала и пошла строиться с 1–м «А», всё время оглядываясь на Неллю и не понимая, как я должна поступить, не ставить же её в строй, она ведь не учится в 1–м «А». Как только мы построились, нас стали запускать в зал, потому что на улице было довольно холодно. Посреди зала стояла большая ёлка, украшенная, помимо стеклянных шаров, фонариками из разноцветной сжатой бумаги, в которых я узнала те, что мы вырезали и клеили на уроках труда. Нас поставили в круг, и мы стали ходить вокруг этой ёлки и звать Деда Мороза и Снегурочку. Я всё время смотрела на дверь и думала только об одном – о моей сестре, которая осталась сидеть на скамейке во дворе. Но выйти из круга, подойти к кому‑нибудь из учителей и сказать об этом, я боялась, а моей учительницы Антонины Лукиничны в зале почему‑то не было. Я бы её сразу заметила, она была старенькая и носила повязку из бинта, закрывавшую один глаз (как Кутузов). Свою учительницу я уже успела полюбить и совсем не боялась, будь она рядом, я бы непременно сказала ей про Неллю.
Вдруг я вижу, как та же чужая учительница, которая велела всем строиться, вводит в зал мою сестру, помогает ей снять в углу пальтишко и о чём‑то спрашивает. Нелля показывает пальцем на меня.
– Что ж ты свою сестрёнку на улице бросила? – укоризненно говорит учительница, подводя ко мне Неллю.
Я чуть не плачу от стыда и от радости, что всё устроилось.
Оказывается, учительница выглянула во двор, чтобы посмотреть, не пришёл ли ещё кто из детей, и увидела сидящую на скамейке маленькую девочку.
– Ты из какого класса? – спросила она её.
– Я ни из какого, – сказала Нелля. – Я сестру жду.
– А на ёлочку не хочешь пойти? – спросила учительница.
Нелля гордо покачала головой.
– У нас дома есть.
Остаток праздника я совершенно не помню. Как только Нелля оказалась рядом со мной в зале, все мои переживания разом кончились, и все остальное – Дед Мороз, Снегурочка, подарок – было уже неважно. Но то ощущение, которое я пережила, пока находилась в теплом зале, а моя сестра на холодной улице, я помню всю жизнь.
При всей любви друг к другу мы с Неллей росли очень разными. Я считалась послушной девочкой, Нелля – строптивой, даже вредной. Бабушка не могла с ней справиться, называла её за это Нелька–чертелька (чертёнок) и часто жаловалась на неё родителям. Когда бабушкины жалобы достигали своего апогея, папа брал ремень и говорил:
– Опять не слушается? Я ей сейчас чертей всыплю!
Выглядело это так: папа держит её одной рукой за руку, а другой замахивается сложенным вдвое ремнём. Нелька, естественно, от ремня убегает и крутится вокруг папиной оси, и он поневоле крутится вместе с ней. Вокруг этой вращающейся пары – папы и Нельки – бегаю я и, заливаясь слезами, прошу папу «не бить Нелличку», потому что «она больше не будет так делать». Сама Нелька при этом молчит и терпит, заставить её заплакать папа никак не может и в конце концов бросает ремень и отпускает мою несчастную сестру, которая тут же убегает на улицу. Я бегу за ней, нахожу её за домом, на брёвнах, где она сидит, потирая попу и исподлобья поглядывая на наши окна.
– Больно? – спрашиваю я, все ещё продолжая всхлипывать.
– Не–а, – говорит Нелька. – Не плачь.
Особенно любила она поупираться за едой. Сядет за стол и водит ложкой в тарелке: «Я это не буду…я это не хочу…». В таких случаях бабушка говорила:
– Ешь, а то на голову вылью!
Просто у нашей бабушки была такая присказка. Но однажды папа пришёл с работы раньше обычного и услышал, как они пререкаются.
– Что ты с ней разговариваешь? – сказал папа бабушке, взял тарелку с супом и… надел её Нельке на голову, как шляпу.
Суп потёк в стоявшие позади стула валенки, но Нелька и тут не заревела, а только надулась, как сыч, и так сидела, наклонив голову и предоставив порядком перепуганной бабушке, которая уже и не рада была, что сказала, вытаскивать у неё из волос толстые, разваренные макаронины.
Бывало, её ставили на колени в угол, тогда рядом, с другой стороны двери становилась на колени и я, так мы стояли, перешёптываясь и хихикая, пока не приходил кто‑то из взрослых и не разрешал нам выйти, при этом выговаривая мне:
– Ну, ты‑то, дурочка, чего стоишь, тебя ж не ставили?
– Светка, ты написала мне сочинение?
– Пишу, не видишь?
– Ты только не пиши слишком умно, а то будет, как в прошлый раз.
В прошлый раз литераторша Нелле не поверила, сказала: «Это тебе, наверное, старшая сестра пишет?».
Пока я пишу сочинение одной сестре, другая, Алла, крутится тут же и ноет:
– Чё ты все Нельке, мне тоже примеры надо…
– Неси, я порешаю! – великодушно предлагает ей Нелля.
Бабушка Софья радуется больше нас самих, когда, придя из школы, мы сообщаем: «сегодня две пятёрки», «сегодня пять, пять и четыре». Но если кто‑нибудь приносит двойку, она раздувает из этого целую трагедию и делает далеко идущие выводы.
– Учти: будешь носить двойки – станешь дворником, улицы подметать пойдёшь.
Особенно часто она обещала это будущее Нелле и сумела так её убедить, что бедная моя сестра почти смирилась с такой своей участью и только думала про себя: «Ну, ничего, я буду вставать рано–рано, когда все ещё спят, быстренько все улицы подмету, и никто не узнает, что я дворник».
Нелля поступает на юридический факультет. На экзамен по истории мы идём с ней вдвоём. Слава богу, аудитория, в которой сдают, находится на первом этаже, низкие широкие окна выходят прямо во двор. Как договорились, она берет билет, садится прямо у окна и первым делом кладёт билет на подоконник, чтобы я прочитала вопросы. Первые два ещё ничего: НЭП и что‑то про последний съезд партии, это она более или менее знает; последний вопрос похуже – о литературе и искусстве Европы Х1Х века. Нелля делает несчастные глаза и показывает мне три пальца. Дальше – дело техники. Я отхожу в дальний угол институтского двора, сажусь на скамейку и на отдельном листке бумаги быстро–быстро, а главное коротко и внятно пишу ответ на 3–й вопрос. И вот я уже снова стою у окна, прилепив листок к стеклу. Сестра косит глазом и лихорадочно переписывает. Как хорошо, что стол преподавателя далеко, и он ничего не видит. Мы получаем пятёрку. По русскому – сочинение, и тут уже номер с окном не пройдёт. Три дня мы пишем дома диктанты, потому что главное – не содержание, главное – написать без ошибок. Я диктую, она пишет. Я проверяю, нахожу ошибки, диктую на эти ошибки новые предложения, и так целый день. Она устала, говорит, что ничего уже не соображает, а я прошу:
– Ну, Нелличка, миленькая, ну, давай ещё разок, и все.
По русскому мы получаем четыре, а немецкий она сдаёт сама, тут я ей не помощник, по недосмотру родителей мы учили в школе разные языки. Три балла, но этого достаточно. Мы поступили. Папа с мамой рады, хотя понятия не имеют даже о том, где этот институт находится.
С Серёжкой они дружили с восьмого класса. Примерно с этого времени он и стал ходить к нам домой и ходил чуть не каждый день, очень ему у нас нравилось. Сам он был у родителей один–единственный, ни сестры, ни брата. Обедать у них принято было так: каждый сам идёт на кухню, берет на плите, что хочет, садится и ест. У нас по выходным дням садились за стол обязательно все вместе, и Сергей с нами. Ему нравилось это большое застолье, вкусный обед, под который наливалась ещё рюмочка «спиртецкого» или стаканчик домашнего вина. Постепенно стал он совсем своим, и уже его, а не нас посылали в магазин за хлебом или за пивом, ему, а не папе, поручали почистить селёдку, натереть хрен на тёрке или арбуз разрезать. Он ходил в детский сад за Женей, ездил с нашим папой на рыбалку, помогал копать огород, а летом, в жару поливал нас с Неллей из лейки на раскалённом асфальте двора (эта процедура ему нравилась особенно, ведь мы были в купальниках).
В общем, он сначала стал членом нашей семьи и подрос вместе с нами, а уже потом, будучи на четвёртом курсе юрфака, женился на нашей Нелле. Ему было 20 лет, ей – 21. Она долго не могла привыкнуть к жизни с его родителями. Там всё было по–другому. Ни шумных застолий, ни беспричинного хохота, когда, взявшись за живот, катаешься по дивану, ни дверей нараспашку и свободного хождения туда–сюда соседей и подружек. Родители Сергея были люди тихие, предпочитавшие уединённый образ жизни и больше всего заботившиеся о своём здоровье. Их двухкомнатная квартира с высокими потолками пропахла лекарствами, в ней всегда, даже днём, стоял какой‑то больничный полумрак. Не принято было включать громко телевизор или музыку, приглашать гостей и самим ходить в гости. Здесь рано гасили свет и рано укладывались спать, после чего в квартире воцарялась гробовая тишина. Ясно, почему Серёжка столько лет бегал к нам и проводил больше времени у нас, чем у себя дома. Но Нелля должна была теперь жить в этой обстановке! Она выдерживала не больше двух–трёх дней кряду, после чего прибегала домой.
– Ой, как у нас хорошо! Мама, можно, я ночевать останусь?
– Ещё чего не хватало! – говорила мама. – Что его родители подумают?
Иногда днём, когда Неллины свёкор со свекровью были на работе, я её навещала.
– Ну, как ты тут? – спрашивала я, внимательно оглядываясь в тихой, прохладной комнате. – Что тебе, собственно, не нравится? Комната большая, ты одна, никто не мешает, сиди себе, занимайся.
– Я за вами скучаю, – вздыхала Нелля.
– Мы тоже, – вздыхала я. – Слушай, а у тебя нет чего‑нибудь… э–э… воды попить?
Нелля всё понимает и хохочет. Мы вместе хохочем. Потом она говорит:
– Знаешь, я тоже есть хочу, но боюсь что‑нибудь сама брать, жду, когда они придут.
– И сидишь голодная?
– И сижу.
– Поехали домой, поедим!
– Поехали!
Долгое время она никак не называла своих свёкров – ни мама–папа, ни по имени–отчеству. «Вы», и все. Впрочем, при ближайшем рассмотрении Сережкины старики оказались людьми по–своему добрыми и хорошими, просто другими, непохожими на наших. Постепенно они привыкли друг к другу, и когда появился на свет Антон, которого дед с бабой сразу неистово полюбили, моя сестра уже вполне освоилась и командовала всем распорядком жизни в этой семье.
Я вышла замуж через год после Нелли, и мне тоже пришлось первое время жить с родителями мужа и привыкать к совсем иному укладу и иным, чем были в нашей семье, отношениям. Например, свекровь, вернувшись из поездки в Москву, за руку здоровалась со свёкром и собственными двумя сыновьями (в том числе, моим мужем). Увидев это, я чуть не упала. Мы свою маму целовали, даже когда она просто приходила с работы, не то, что приезжала из Москвы. Но они были норильчане, совсем недавно выехавшие из Заполярья на большую землю, и, как видно, суровые условия Севера наложили на нравы в их семье свой отпечаток. Впрочем, очень скоро я приучила их всех при встречах и расставаниях целоваться не только друг с другом и со мной, но даже с моими родителями и сёстрами.
Случалось, мы с Неллей жаловались нашей маме на свою жизнь в чужой семье.
– А как же вы думали? Замужем так! – говорила нам мама, которая сама никогда не жила со свекровью.
Впрочем, и мы не стали, а чуть подросли наши дети, ушли от греха подальше на частные квартиры.
– Так что ж наш любимый зятёк не приехал дом посмотреть?
– Да ну его! – говорит Нелля. – Я хоть отдохну у тебя от них, от всех.
Она приехала с Кириллом. У этого мальчика огромные, грустные карие глаза, из‑за которых на него уже сейчас обращают внимание девочки, хотя лет ему всего 11. Нелля родила его поздновато, в 37, когда старшему, Антону, было уже 14 лет. Так получилось. Кирилла она любит со страшной силой, называет «жизнь моя» и говорит, что не представляет, что бы сейчас без него делала.
– Отдохни, сестричка, а то они тебя совсем замучили!
Жалко мне Неллю. Три мужика в доме, не считая собаки. На всех приготовь, всем постирай–погладь, и ни от кого никакой помощи. При этом она продолжает служить в своём УВД, между прочим, майор милиции.
– Светка Нелюшку больше всех любит, – ревниво замечает Женя.
– С чего это ты взяла? Я всех одинаково люблю, особенно тебя.
– И почему родители не остановились на мне? – задумчиво говорит Нелля. – Были б мы, Светка, с тобой вдвоём, как бы нам хорошо было, скажи! Так нет, народили ещё этих двух!
– Вот ты, Нелька, бессовестная. Нам же с Котей тоже жить хочется!
– Да? А мы при чём? У нас из‑за вас никакого детства не было, вечно вас нянчили.
– Ты меня нянчила? Ты меня била! – смеётся Котя.
– Тебя била, а Женьку нянчила.
– Женьку все нянчили.
– Котя меня не нянчила, она меня била, – говорит Женя.
– Я тебя била? Когда? Вот наглая!
– А помнишь, ты скатерть бархатную порезала и заставляла меня сказать, что это я, потому что мне ничего не будет, а тебе попадёт.
– Сколько можно одно и то же рассказывать?
– Нет, самое смешное было, – не унимается Женя, – как Котя учила меня кувырок делать. Ты, говорит, неправильно делаешь, смотри, как надо. Стала на кровать… А сама уже здоровая дылда была, и – бабах! Окно ногами выбила.
– Ну и что смешного?
– Ничего. Просто.
– Светка! Нелька! Бегите скорее! Там вашу Котю девчонки лупить хотят!
Мы срываемся с места и несёмся за дом, на поляну, но там никого нет, тогда мы, не сговариваясь, бежим к банковским домам и там, в глубине чужих дворов натыкаемся на стоящих тесным кольцом девчонок лет восьми–девяти. В центре кольца вся красная стоит наша Котя.
– А ну‑ка не трогайте её! – хором кричим мы с Неллей, и девчонки нехотя расступаются.
– А чего она обзывается?
– Я не обзывалась! Они сами! – орёт вмиг осмелевшая Котя.
Я хватаю её за руку и тащу в сторону нашего дома, Нелля сзади подталкивает её в спину, потому что эта говнюшка ещё и упирается.
– Попробуйте только её тронуть, получите! – грозит Нелля кулаком девчонкам из банковских домов.
С Котей вечно происходят какие‑то недоразумения.
Однажды Нелля идёт из школы и вдруг видит такую картину: возле трамвайной линии стоит наша Котя и разговаривает с незнакомым взрослым мужиком. И этот мужик, на вид очень подозрительный, придвинулся к нашей Коте довольно близко и что‑то ей такое внушает. А ей было лет, наверное, десять, и была она крепенькая, полненькая, с круглой мордашкой. Нелля как крикнет издали:
– Алка! А ну иди сюда быстро!
Котя глянула безмятежно и спросила:
– А чё?
– Я тебе сейчас объясню, «чё», – сказала Нелля, подбегая и беря её за рукав пальтишка. – А вам что от неё надо? – строго, как взрослая, сказала она мужику. – Идите своей дорогой, а то сейчас милицию вызову!
Мужик повернулся и пошёл. Нелля повела Котю домой, попутно уча её уму–разуму.
– Ты зачем с чужим дядькой останавливаешься? А вдруг это маньяк?
– Какой ещё маняк?
– Такой. Вот утащил бы тебя, тогда бы узнала, какой.
Котя у нас немножко увалень – спокойная, медлительная и очень обидчивая, чуть что – сразу в слезы. Она ходит на плавание и в цирковую студию. Папа мечтает вырастить из неё акробатку.
Вот она пытается продемонстрировать упражнение с предметом, который подбрасывается и ловится ногами лёжа на спине. Подходящего предмета в доме не находится, тогда она говорит Жене:
– Нам сказали, можно и сестру подкидывать, если другого ничего нет.
Женя подумала и говорит:
– Ага, хитрая! Сейчас опять что‑нибудь разобьёшь, а на меня свалишь.
Тут в проёме двери возникает соседская девочка Светка, она помладше Жени, маленькая и очень хрупкая.
– Светка, давай я тебя подкину, – предлагает Котя.
– А как это?
Котя объясняет. Светка влезает на стул, перебирается с него на её поднятые вверх ступни, усаживается, Котя делает невообразимый финт ногами, и бедная Светка с грохотом вылетает за дверь. Вечером к нам приходит Светкина мама тётя Вера, она демонстрирует нам её выбитый зуб и сломанный палец и говорит:
– До каких пор это будет продолжаться?
У Коти все не так, как у нас. И родилась‑то она семимесячной, не как все. И толстушкой в детстве была в отличие от нас с Неллей, худых и нескладных в этом возрасте.
– Ты слишком много яиц ешь, – говорили мы ей. – Потому ты такая толстая.
– Ну и что, – отвечала Котя. – Хочу и ем.
Яйца есть она могла утром, днём и вечером, жареные, варёные, сырые – всё равно. Тем не менее, годам к 16 неожиданно для всех вытянулась, постройнела и у неё прорезался голос (может, как раз благодаря усиленному употреблению яиц). Она забросила акробатику, стала носить длинные, прямые, распущенные по спине волосы и петь в вокально–инструментальном ансамбле одного НИИ, занимавшегося вообще‑то вопросами переработки газа. На эстраде восходила тогда новая звезда по имени Алла Пугачева, и песни из её репертуара шли на «ура», тем более Котя слегка на неё смахивала.
Но в отличие от Пугачихи музыкальная карьера нашей Аллы рухнула, даже не начавшись. После школы пыталась она поступить в музыкальное училище, но слишком усердно готовилась, сорвала голос и на прослушивание не пошла. На следующий год с голосом было все в порядке, и прослушивание она преодолела успешно, но срезалась на первом же экзамене, не сумев ответить на вопрос о новой, только что принятой в тот год Конституции.
После этого наша Котя обиделась на весь белый свет и даже надумала уехать из Краснодара куда подальше. Вместе с подружкой, которая тоже никуда не поступила, написали они письмо аж во Владивосток и стали ждать ответа. И вот проходит месяца три, и как‑то раз приходит она домой, а мама спрашивает:
– Так ты куда собралась?
Котя говорит:
– На танцы.
– Нет, куда ты ехать собралась? – говорит мама и показывает ей письмо на бланке управления «Востокрыбхолодфлот», в котором нашу Котю официально приглашают на работу, описывают все условия, и даже прилагают пропуск, поскольку Владивосток – город закрытый.
А она уже и думать забыла о том своём запросе. Стали они с мамой внимательно читать письмо и советоваться, и мама вдруг говорит:
– А что, доченька, может, и правда, тебе туда поехать? Хоть мир посмотришь. А чего тут сидеть, высиживать?
И она поехала.
Папа сначала это дело не одобрил и даже ругал маму, зачем она молодую девчонку одну в такую даль отпускает, но потом смирился, а впоследствии даже гордился Котей, говорил:
– У меня средняя дочка по заграницам плавает.
Плавала наша Котя на разных больших судах – спасателях, танкерах и так называемых перегрузчиках. Они подходили к плавбазе или к рыболовному судну, перегружали улов с его борта на свой и везли его в порт. Её судовая роль была – хлебопёк, хлеб она сама выпекла, а это вот что значит: встать в 4 утра, поставить тесто, дождаться, пока оно взойдёт, замесить, выложить в формы и поставить в печь, чтобы уже к завтраку подать на стол экипажу горячие, свежеиспечённые буханочки.
Лично я в жизни бы так не смогла, не потому даже, что работа физическая и трудная, а просто не могу я просыпаться в такую рань. К тому же, меня на море, как и в самолёте, сильно укачивает.
Из каждого своего плавания Алла слала домой, родителям, радиограммы, что жива–здорова и чтобы не волновались за неё. Потом, сойдя на берег, писала длинное письмо с подробным отчётом, где побывала и что повидала. Мы только диву давались, читая названия стран – Япония, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур…
– Вот даёт морячка! – восхищался папа, который со времён войны ни разу больше за границей не бывал.
Изредка она присылала домой посылки с икрой в поллитровых стеклянных банках, закрытых простой полиэтиленовой крышкой, и свежевяленной рыбой. Икра была прямо из бочки и отдавала всеми запахами моря, не то, что магазинная, в запаянных банках, та вообще ничем не пахнет. Икры у них там, на Дальнем Востоке, было, как мы поняли, – завались, не знали, куда девать.
Однажды, рассказывала Алла, их экипажу пришлось несколько бочек этой икры… выбросить за борт, потому что они не должны были забирать её с плавбазы, их ассортимент был – минтай, а не икра. И то обстоятельство, что вместе с минтаем в сети попадается и красная рыба, а из неё просто сама сочится икра, никого в порту не интересовало. Сказано минтай – значит, минтай.
– Все понятно, но зачем же выбрасывать? – не могли мы взять в толк.
– А чтоб не оштрафовали в порту за неположенный груз.
– Ох, и дурбалаи! – возмущался папа, непонятно кого имея в виду.
Рыба в посылке, бывало, задыхалась и была уже не слишком пригодна к употреблению. Но родители всё равно оставались довольны: дочка прислала, позаботилась!
Раз в два года она приезжала в отпуск и тогда привозила всем подарки – папе с мамой, каждой сестре в отдельности, зятьям и маленьким племянникам, Алёшке и Антошке. Зарабатывала она по тем временам совсем неплохо, но к замужеству своему ничего скопить так и не смогла – то родителям на ремонт квартиры подкинула, то Женечке на дублёнку, чтоб не мёрзла в Москве…
О музыке и пении она, кажется, и не вспоминала. Только однажды, в отпуске, случайно увидев по телевизору певца Александра Серова, удивилась и сказала:
– Надо же, а мы с ним в шефском концерте вместе пели, перед колхозниками, он тогда в нашей филармонии работал.
В истории с замужеством тоже дала о себе знать Котина особость, ни на кого не похожесть. Эту историю следует, пожалуй, рассказать поподробней.
Летит, значит, наша Котя из очередного отпуска, проведённого у родителей, назад во Владивосток, и уже в Москве подсаживается в их самолёт, на единственное свободное место, симпатичный молодой военный в форме лейтенанта. И это свободное место оказывается, конечно, как раз рядом с нашей Котей.
Сначала они летели молча. Потом принесли им обед, тут она увидела, с какой жадностью этот лейтенантик на сухую куриную ножку набросился, и так ей жалко его стало, что она говорит ему: