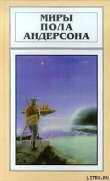Текст книги "Дети солнца"
Автор книги: Светлана Шишкова-Шипунова
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
История квартиры
– Ой, девчонки, знаете, где я недавно была? На старой квартире!
– Да ты что! Как это ты надумалась?
– Так, захотела и пошла.
– Ну и что, стоит наш домик, не снесли?
– Стоит! Все вокруг застроено большими домами, а наш – как стоял, так и стоит.
Надо же… Милый наш, старый домик, где ещё жива была бабушка, где папа с мамой были молодыми, а мы – маленькими…
– Мы ведь никогда и нигде потом вместе, все семеро, не жили, только там, на старой квартире.
– Вот за что я её и люблю.
Секция №2Когда‑то здесь были вишнёвые сады, память о которых сохранилась лишь в названиях трамвайной остановки и пересекающей её улицы – «Вишнёвая». Сады вырубили в самом конце 50–х, и тогда же несколько предприятий города стали строить на этом месте жилые дома для своих работников. Время пятиэтажных Черёмушек, которые займут вскоре всю восточную окраину Краснодара, ещё не пришло. Строили ускоренным, так называемым «горьковским методом» одноэтажные дома на четыре хозяина каждый.
Одной из первых начала строить дом парфюмерная фабрика, где наша мама работала в цехе розлива – разливала готовые духи и одеколоны по флаконам, отчего руки её и платья вечно благоухали. В то время мама была молода, красива (впрочем, красивой она оставалась всю жизнь) и полна надежд. Главное – полна надежд. Скоро у нас будет своя квартира, трёхкомнатная! Больше не придётся мыкаться по чужим углам, снимать жилье у «частников», отдавать за него треть зарплаты, да ещё терпеть от хозяев. Теперь у нас будет детская, а у мамы с папой – спальня. Скорее бы!
Строительство «горьковским методом» означало привлечение к работам самих будущих жильцов. Наши родители относились к этому с большим энтузиазмом.
Вот мы едем на папином «Москвиче», петляем по пыльным улицам старой Дубинки, пересекаем трамвайную линию, ещё раза два сворачиваем и перед нами – пустырь, и на этом пустыре белеет вдалеке он, наш будущий дом. Мы ездим сюда каждое воскресенье. Папа копает погреб и обшивает деревом чердак, а мама красит оконные рамы и двери. Родителям явно нравится все это делать, потому что таким образом они своими руками приближают заветное новоселье. Ещё недавно бегали мы с сестрой по лабиринту фундамента, и вот уже стены стоят – настоящие, кирпичные, не то, что на улице Степной, где мы снимаем частный домик, стены там саманные, обмазанные глиной и побелённые сверху извёсткой.
Ещё через месяц – ура! – крыша!
– Ты смотри, – говорит папа. – Шифером кроют. Не халам–балам!
На улице Степной все дома были крыты камышом, серым от дождей и солнца. Мы вытаскивали из камышовой крыши сухие пыльные трубочки и выдували через них мыльные пузыри. Наш будущий дом кажется нам с Неллей необыкновенно большим и красивым. Мы бегаем по пустым гулким комнатам, в комнатах пахнет побелкой и краской. Мама с папой обсуждают, какой лучше делать накат – зелёный или синий. Мы ещё не знаем, что это такое, но скоро станет совсем тепло, в доме откроют настежь окна и двери (чтобы быстрее сохло), и тогда мы увидим, как окунают в ведро с густой зелёной краской резиновый валик и прокатывают им по стене, на которой остаётся широкая полоса с орнаментом, смутно напоминающим виноградные листья. Это и есть накат.
Дом получился приземистым и вытянутым в длину – как барак. Все его так и называли, хотя от классического барака он отличался отсутствием общего коридора. Дом был поделён на четыре «секции», в каждую из которых был свой, отдельный вход. От настоящей квартиры такую «секцию» отличало отсутствие ванной, туалета и водопровода. В доме были только печки, которые первые несколько лет, пока не провели газ, топились дровами. Все остальные «удобства» находились во дворе. Прямо напротив нашей двери, в трёх шагах от порога, возвышалась, как памятник на постаменте, водопроводная колонка с толстой металлической ручкой, которую надо было рывком поднять, чтобы полилась вода. В дальнем конце двора устроили деревянную уборную на два «очка», с перегородкой, через которую можно было переговариваться. А в баню ездили трамваем, остановок пять или шесть.
Вскоре по соседству встали точно такие же дома, построенные госбанком, управлением связи и масложировым комбинатом. Когда из них составилась уже целая улица, ей дали название – 2–й проезд Айвазовского. Где‑то рядом был 1–й проезд и была ещё улица Айвазовского, хотя никакого отношения к этим местам великий русский художник, конечно, не имел.
Люди въезжали в новые дома, и они начинали со всех сторон обрастать огородами, закрываться друг от друга штакетником, некоторые и внутри одного двора городили низкие заборчики, отмежёвываясь таким образом от ближайших соседей. После многих лет жизни на частных квартирах и в общежитиях всем очень хотелось почувствовать себя хозяевами хотя бы вот этих маленьких клочков земли, этих кусочков дворового асфальта, и самое главное – этих долгожданных, своими руками обустроенных квартир, которым, несмотря на полное отсутствие удобств, новосёлы были несказанно рады.
И тут многих ждал большой облом. Не помню, как обстояло дело в домах банковских служащих и почтовиков, но парфюмерная фабрика умудрилась заселить в четыре секции семь семей. Они бы и все восемь заселили, но одна из секций досталась адыгейской семье, кстати, не такой уж многодетной (на тот момент у них было всего трое детей). То ли никто не рискнул жить коммунально с этой семьёй, то ли сам фабком из каких‑то высших соображений не захотел их стеснять, только адыгейская семья оказалась самая привилегированная в нашем доме. В остальные секции подселили так называемых «одиночек» – одиноких работниц с парфюмерной фабрики. Это были довольно уже пожилые женщины – может, вдовы, а может, разведённые. Нам досталась и вовсе старая дева лет, наверное, пятидесяти или старше (возраст её ни тогда, ни позже нельзя было определить).
О наличии непредвиденной соседки мама узнала только в момент вручения ордера. Она ещё пыталась как‑то отбиться, мотивируя тем, что у нас семья – шесть человек (самая большая среди новосёлов), но было бесполезно.
– Решение это временное, – не глядя маме в глаза, говорил председатель фабкома, – поживёте немного, а при первой же возможности мы вас расселим.
И для убедительности тут же записал маму в другую очередь, «на расширение».
Когда наши родители с ордером в руках и с вещами в багажнике «Москвича» приехали заселяться в секцию №2, соседка находилась уже там. Она успела раньше привезти свои вещи, занять комнату (11 кв. метров, вход отдельный из коридора), врезать замок, и теперь сидела тихо, на всякий случай запершись изнутри.
Нам остались две смежных комнаты общей площадью 23 квадратных метра. Маленький коридор, кухню и деревянную веранду с погребом надо было делить пополам. Мама плакала. Её мечты о спальне и детской рассеялись, как дым, как утренний туман. Пришлось им с папой спать в зале, на раскладном диване, а бабушку и нас троих кое‑как устроили в маленькой комнате. Там смогли поместиться: железная кровать с никелированными спинками, на которой спали мы с Неллей, Аллочкина детская кроватка и бабушкин диван с высокой спинкой и круглыми валиками по бокам. Все это стояло впритык друг к другу, и никакой другой мебели, кроме единственного «венского» стула под окном, в комнате не было. Когда через четыре года родилась Женя, её люльку устроили в зале, втиснув в торец родительского дивана, между стеной и шкафом, так, что и видно не было.
По мере того, как мы росли, наши спальные места всё время менялись. Со временем куплены были два раздвижных кресла–кровати, которые, когда их раскладывали на ночь, занимали все пространство зала, так что приходилось перелезать через них, чтобы выйти в коридор. На одном кресле стала спать Нелля, на другом – подросшая Аллочка, в то время как её кроватку в спальне отдали Женечке. Ещё через несколько лет и Женечке она стала мала. И тогда папа обложил кирпичом и застеклил деревянную веранду, отгородил её досками от входной двери и, как мог, утеплил изнутри. В эту новую «комнату» переселили бабушку. Освободившееся в спальне место заняла Нелля, а её кресло – Женечка.
Так мы прожили около двадцати лет.
Несмотря ни на что, мы любили наш дом. Ведь это взрослые понимали, что тесно, что без удобств, а мы, дети, не зная, как это бывает по–другому, были здесь вполне счастливы.
Спустя всего пару лет после вселения наш дом и двор уже утопали в зелени. Прямо за порогом цвели в низком палисаднике белые, жёлтые, кремовые розы. Большой куст тёмной сирени закрывал собою окно веранды. За домом рос чёрный и белый виноград, сорвать который можно было, не выходя из комнаты, стоило только руку протянуть в открытое окно. И чего только ещё не росло в нашем садике за окнами: яблоки–груши, вишня–черешня, клубника–малина, было даже одно маленькое, но плодовитое дерево– персик… А с другой стороны дома, рядом с сараями, поспевали в огороде редиска и морковка, лук и перец, петрушка и укроп, помидоры и огурцы, картошка и капуста.
За тем, чтобы вовремя вскопать грядки, запастись нужными семенами и рассадой, в срок посадить и потом ежедневно обильно поливать, строго следила наша бабушка.
– Сара с Юрой уже копают, а вы ещё думаете! – говорила она родителям.
Или:
– Аня с Асей уже поливают, а вы сидите! – это нам.
Чаще всего бабушка ставила нам в пример именно адыгейскую семью, как наиболее трудолюбивую и организованную. Просто так таскать от колонки к грядкам тяжёлую «поливалку» было скучно, и мы начинали бегать наперегонки с нашими ровесницами Анькой и Аськой, расплёскивая воду по всему двору и оставляя на асфальте липкие комья земли, натасканные босыми ногами с грядок. Позже взрослые рационализировали этот процесс, обзаведясь длинным шлангом, пользовались которым по очереди.
Помидоры мы срывали с куста ещё бурыми и съедали их тут же, во дворе, без хлеба и соли. Яблоки, не давая им дозреть, грызли зелёными, кислыми до оскомины. Абрикосы (мы называли их жердёлы) поглощали едва зажелтевшими, после чего у всех у нас дружно болели животы.
Что нам теснота и неудобства квартир, если все тёплое время года – с апреля по октябрь – мы проводим на улице, во дворе, на поляне за домом, где много лет лежит связка старых брёвен, отполированных нашими задами. Сидя по вечерам на этих брёвнах, дети нашего двора рассказывают друг другу страшные истории.
«На чёрной–пречёрной горе стоит чёрный–пречёрный дом, в этом чёрном– пречёрном доме стоит чёрный–пречёрный стол, за этим черным–пречёрным столом сидит чёрный–пречёрный человек…».
Сердце замирает в предвкушении страшного конца, впрочем, всем хорошо известного, но ведь важно, как именно будет произнесено последнее, самое страшное слово, и кого при этом схватит в темноте за руку рассказчик. Под нашими ногами уже влажная от росы трава, над нашими головами чёрное–пречёрное небо в звёздах, вокруг нас звенящая цикадами тишина летней ночи, а чуть поодаль светятся оранжевым светом окна нашего дома, и чья‑то мама уже зовёт из раскрытого окна:
– Дети! Домой!
А нам не хочется домой, хочется сидеть на брёвнах и слушать страшные истории. И наша поляна на разные голоса (чтобы услышали все мамы сразу) отзывается из темноты:
– Мы ещё немножко–о–о!
ЖабаВ кухне всегда было темно. Во–первых, потому, что окно выходило не на улицу, а на веранду, застеклённую и занавешенную, так что дневной свет едва брезжил, особенно зимой. Во–вторых, экономили электричество. За дверью кухни было два выключателя. Нажимаешь один – загорается тусклая лампочка под потолком; нажимаешь второй – зажигается ещё более тусклая в стене справа от входа. Верхняя лампочка считалась нашей, боковая принадлежала соседке. Когда она приходила на кухню со своими кастрюльками, там уже возилась наша бабушка. Соседка не включала свет, копошилась в своём углу в темноте, делая вид, что ей и так хорошо (сама была подслеповата и носила очки). Бабушка тоже не включала, делала все на ощупь. Они не разговаривали друг с другом, даже не здоровались. Могли полдня простоять на кухне плечом к плечу у газовой плиты, помешивая каждая в своей кастрюле, и не сказать ни слова. Стояли в полутьме, ни одна не хотела включать «свой» свет, чтобы им не попользовалась «на дурницу» другая. Свет в кухне загорался только вечером, когда приходили с работы родители и садились ужинать. Соседка в это время уже не высовывалась из своей комнаты, она побаивалась нашего папы. Когда‑то, ещё в самом начале нашей совместной жизни под одной крышей, папа окрестил её «Жабой» (она действительно на неё смахивала), так и прижилось, между собой мы её иначе не называли.
Она была полная, рыхлая, с заплывшими глазками на толстом, красноватом лице. Даже летом носила она шерстяные носки и галоши, поясницу укутывала тёплым платком, а голову туго и низко, до самых очков, повязывала косынкой. Ни разу никто из нас не бывал в её комнате, лишь в те моменты, когда она открывала дверь, можно было краем глаза увидеть там нагромождение вещей и почувствовать спёртый запах никогда не проветриваемого помещения.
Жаба была член партии (как и наша мама) и писала на неё анонимки. В фабком, в дирекцию и даже в райком. Однажды она написала о том, что «дети Шипуновой Р. Б.», то есть мы, сдали в металлолом «государственное имущество» – цистерну из‑под смолы. Эта цистерна много лет пролежала в нашем дворе (никто толком не знал, когда и откуда она тут появилась), давно заржавела, по ней лазили дети, в её пустую гулкую утробу закидывали всякий мусор, и странно, что никто туда не свалился, вытащить было бы трудно. К цистерне привыкли, перестали замечать, хотя места она занимала очень много. А тут как раз начался новый учебный год, в школе развернулся очередной сбор металлолома и макулатуры, и кто‑то из нас (может, даже я) сказал вожатой, что у нас во дворе лежит такая здоровая штука, что, если мы её сдадим, то наша школа сразу выполнит план по металлолому за всю четверть. Вожатая сходила к нам домой, лично обследовала ценный объект, позвонила куда надо и через пару дней приехал то ли грузовик, то ли, может, трактор (я, собственно, не присутствовала), цистерну увезли, а нашей школе записали первое место. Во дворе сразу стало просторно. Как вдруг через некоторое время выясняется, что кто‑то написал на нашу маму анонимку насчёт этой самой цистерны. Ну, кто ж ещё, как не наша Жаба! Во двор приходила комиссия с парфюмерной фабрики, мама писала объяснительную, в школе тоже был переполох. Но цистерну уже не вернёшь, да и кому она нужна.
Написав очередную анонимку, Жаба затаивалась в своей комнате и неделями не показывалась, прошмыгнёт в кухню, пока никого нет, и – быстренько назад. Несколько раз бывало, что наш папа грозился её «придушить», если она не прекратит писать.
– А ты доказал, что это я писала? – низким мужским голосом отвечала из‑за двери соседка.
Между тем, никто на фабрике и в доме в этом не сомневался, у неё даже не хватало ума изменить почерк. Были ещё всякие мелкие пакости, вроде пятерни в оставленном на ночь на веранде именинном торте или расколоченном гипсовом круге, на который собирались вешать люстру.
Мы привыкли не обращать на неё внимания. Весь удар принимала на себя наша бабушка. Это она стояла с ней бок о бок на кухне. Если ей даже нечего было делать там, она всё равно не уходила, сторожила, чтоб «эта зараза» не плюнула в кастрюлю. Иногда после долгой молчанки разражался скандал (например, на тему, чья очередь чистить плиту), тогда уж высказывалось все накопившееся за дни и недели, крик стоял неимоверный, после чего обеим становилось как будто легче.
Нашей тайной мечтой было, чтобы Жаба умерла, или чтобы, на худой конец, ей дали однокомнатную квартиру. Но соседка была «здорова, как бык» (бабушкино выражение), а отдельную квартиру ей не давали, поскольку лет через пять после вселения в дом она вышла на пенсию и как пенсионерка никого в фабкоме парфюмерной фабрики уже не интересовала. Оставалось одно: ждать, когда отдельную квартиру дадут нашей маме. И мы ждали.
– Это она потому такая злая, – говорила мама, – что у неё своей семьи нету.
Вдруг однажды выясняется, что у нашей Жабы есть, оказывается, мать. Она появилась неизвестно откуда, вроде бы привёз Жабин брат, у которого старушка до этого жила (как, у неё и брат есть?). В одно прекрасное утро выходим мы на веранду, а там – здравствуйте–пожалуйста, сидит на стуле старушенция, испуганно на нас смотрит и виновато улыбается.
Больше всего нас поразило несходство нашей Жабы с её родной матерью. У старухи было очень бледное, почти белое лицо с тонкими чертами и рассеянный взгляд выцветших голубых глаз. Что‑то даже благородное было в её лице и виноватой улыбке, с которой она смотрела на всех, не произнося ни слова. Старуха, видимо, обезножела, и сынок, а скорее невестка, выперли её к дочери, рассудив (не без оснований), что пора и той принять участие в уходе за престарелой мамашей. В этом их семейном раскладе не учтено было только одно, что дочь, то есть наша Жаба, живёт не в отдельной квартире, а на подселении у семьи, в которой своих семеро. Бабулька становилась на нашей жилплощади (23 плюс 11 квадратных метров) девятой по счету.
Как ни странно, родители ничего по этому поводу не высказали, и стали молча наблюдать, что будет.
Неожиданно для всех наша Жаба оказалась заботливой дочерью (или демонстрировала, что она заботливая). Мать у неё сидела день–деньской на веранде чистенькая, причёсанная, она ей косичку заплетала из жидких, но длинных седых волос. С приходом лета она стала выволакивать её во двор и сажать на стул под своим окном. Та сидела тихо, почти не шевелясь, а сама Жаба тем временем копалась кверху задом в своём огороде.
Самое интересное, что с появлением старухи скандалы на территории квартиры как‑то иссякли, прекратились. Наша бабушка посматривала на старуху сочувственно, вздыхала и норовила сунуть ей свежеиспечённый пирожок или конфетку, на что Жаба немедленно реагировала из‑за занавески в открытом окне.
– Не надо ей ничего давать. Она не голодная.
Интонация при этом слышалась совсем новая, почти примирительная. Сама же старуха, не понимая сложившихся в нашей квартире отношений, смотрела на всех ласковыми глазами и мелко трясла головой.
Думали, что мать погостит у Жабы только лето, но настала осень, подошла зима, а братец все не появлялся, старуха переместилась с веранды в комнату и уже не показывалась.
– Представляю, чем она её там кормит, – говорила мама. – Она ж готовить вообще не умеет, бурды наварит какой‑то и ест всю неделю.
Когда Жаба открывала свою дверь, в общий коридор вырывался довольно тяжёлый запах, и мы были уверены, что дело там идёт к концу. Но бабулька оказалась живучей и следующей весной снова восседала на веранде, радостно улыбаясь нам, как старым знакомым. За зиму она лишь больше побледнела, и голова её стала трястись с удвоенной частотой.
Исчезла она так же неожиданно, как появилась. То ли сын приехал, наконец, и забрал её назад, то ли Жаба определила её в дом престарелых (но это вряд ли, кто бы её туда взял при живых‑то детях). Так или иначе, но стала Жаба снова жить одна, и постепенно они с нашей бабушкой стали опять поругиваться, то из‑за плиты – чья очередь мыть, то из‑за света – кому включать, и всё вошло в привычную колею.
Звали её на самом деле Елена Дмитриевна. Она пережила нас в этой квартире. Когда спустя почти двадцать лет родители переехали, наконец, из барака в новый дом, Жабе тут же подселили других соседей. Правда, на этот раз ей повезло больше: семья была всего из четырёх человек.
«Парфюмерка»Разные запахи носились по Дубинке. Сладкие – когда цвела акация, болотные – когда застоится вода в Старой Кубани. В жаркий летний день вдруг подует ветерок и принесёт удушливый, тошнотворный запах мясокомбината. Фу… А то вдруг накатит волна совсем других – нежных и красивых ароматов. Это тянет с парфюмерной фабрики, или, как все здесь говорят, с «парфюмерки». Запахи знакомы и узнаваемы, всю продукцию маминой фабрики мы знаем наизусть: духи «Кармен», одеколон «Шипр», лосьон «Огуречный», зубной порошок «Мойдодыр»…
Как нашла мама эту фабрику, когда ходила в 1955 году по городу в поисках работы? Почему ноги привели её именно сюда, а не, к примеру, на камвольно–суконный или хлопчатобумажный комбинаты, которые находились в той же, восточной части города и на которых работали многие женщины этого района? У меня есть только одно тому объяснение: мама, будучи сама красивой женщиной, любила в жизни все красивое. Даже во время войны, находясь в эвакуации, она умудрялась из ничего сшить себе и своей младшей сестре Инне такие наряды, что люди на улицах города Куйбышева оглядывались на них – то ли с осуждением (война все‑таки), то ли с восхищением. Первое, что сделала мама, когда мы вселились в наш барак на 2–м проезде Айвазовского, – разбила прямо у веранды палисадник и посадила в нём калированные чайные розы и куст сирени – просто так, для красоты. Точно так же мама старалась украсить нашу скромную квартиру изнутри, для чего покупала всякие ненужные, но, с её точки зрения, красивые вещи – разные вазочки и статуэтки, которые папа называл одним словом – «финтифлюшки».
Не могла же она пройти мимо такой замечательной, такой благоухающей на всю округу фабрики!
Между тем, гораздо более завидным местом работы считался на Дубинке мясокомбинат, и устроиться туда было непросто. Те, кому посчастливилось, сами всегда были с мясом и снабжали родственников, соседей и знакомых. Мясо носили по дворам под покровом темноты в небольших хозяйственных сумках.
– Есть печень, языки, не желаете? А рёбрышки?
Наша бабушка почему‑то брезговала этим мясом и не брала, предпочитала покупать на базаре, у колхозников.
– Кто их знает, как они его проносят, может, в штанах!
Но многие брали, и охотно, у «ходоков» была своя постоянная клиентура. Отчего не взять, если в два раза дешевле, чем на базаре.
Что касается парфюмерки, то, как выяснилось со временем, там тоже было чем разжиться. Почти вся продукция фабрики делалась на спирту. Выносили его в специальных фляжках и грелках, в основном для себя, к празднику, чтобы не тратиться на водку, но бывало, и приторговывали. Между теми, кто работал на мясокомбинате, и теми, кто работал на парфюмерке, были свои, особые отношения. Мясо и колбаса хорошо менялись на чистый спирт, и, таким образом, главные составляющие любого праздничного стола были обеспечены. (Другие составляющие – картошка, лук, помидоры–огурцы, зелень – это у каждого было своё, с огорода).
Папа называл эту прозрачную, с резко бьющим в нос запахом жидкость «спиртецкий».
– Ну что, выпьем спиртецкого?
Мог пить неразбавленный. Но вообще‑то спирт разбавляли. Из литра «чистого» выходило четыре–пять (смотря как разбавить) бутылок водки, которые отдавали по 2 рубля за бутылку. Весь наш двор потихоньку приторговывал спиртом. Появлялись по вечерам какие‑то чужие люди, шептались во дворе с кем‑нибудь из соседей, после чего уходили с полными сумками. Теперь я понимаю, что это были, видимо, перекупщики.
– Они дождутся, что их всех посадят, – говорила наша бабушка.
И действительно, время от времени становилось известно о проверках на проходной парфюмерной фабрики, о том, что кого‑то «застукали» со спиртом, но никогда я не слышала, чтобы кого‑нибудь за это дело действительно посадили. То ли спирт носили с фабрики в разумных пределах, то ли у ОБХСС были в то время дела поважнее, но все как‑то обходилось.
В цехе розлива мама работала только первые года два–три, после чего перешла в контору фабрики, а именно – в отдел снабжения и сбыта, где и застряла на много лет, до самой пенсии. У мамы обнаружились редкие по тем временам коммерческие способности, и работа её связана была с тех пор с постоянными разъездами. Вернувшись из одной командировки, тут же собиралась в другую. Мамина работа состояла в том, чтобы «выбивать» у смежников «сырье и комплектующие» – например, розовое и эфирное масло, флаконы и колпачки для флаконов, даже этикетки – всё это, согласно существовавшей системе производства, делалось в разных местах Союза. Эта мамина специальность называлась некрасивым словом «толкач». Однажды я услышала это слово по телевизору, из уст Аркадия Райкина и поняла, что у мамы какая‑то плохая, даже неприличная работа, ведь Райкин над этим самым толкачом явно насмехался. Сама же мама свою работу уважала и говорила, что без толкача, то есть без неё, фабрика вообще встанет и не выпустит не то что ни одного флакона духов, а даже ни одного тюбика зубной пасты, потому что эти самые тюбики (по–производственному – «тубы») надо ещё съездить протолкнуть из какого‑нибудь Днепропетровска.
Отправляясь в командировку, мама обязательно упаковывала в чемодан «презенты» для нужных людей. Обычно это были подарочные наборы духов в бордовых и синих бархатных коробках, отличавшиеся тем, что внутри флаконов находились живые цветы (кажется, глициния). Я никогда не могла понять, как они туда попадают (горлышки у флаконов были совсем узкие, с копейку) и как они там, в этой концентрированной жидкости, живут. У нас дома тоже стояли на трюмо флаконы с цветами внутри, и когда духи кончались, бедный цветочек так и оставался в своём стеклянном заточении, склонив головку и влажно поблёскивая безжизненными лепестками.
Особенно много подарков требовалось для командировки в Москву, в министерский главк, где маме предстояло пройти через десяток кабинетов и подписать десяток различных бумаг. Кроме духов и туалетных наборов (мыло, зубная паста, лосьон, крем для бритья – все в одной коробке), в главк надо было везти также хороший, лучше – армянский, коньяк и хорошие, желательно кубанские, вина. Хорошими кубанскими винами считались «Чёрные глаза», «Южная ночь» и «Улыбка» – приторно сладкие креплёные напитки с красочными этикетками, из‑за которых они, по–моему, больше всего и ценились. Для «организации» такого рода подарков у мамы были свои связи на ликеро–водочном заводе. Вообще через пару лет работы мама уже лично знала снабженцев всех предприятий города. У них была, по–моему, своего рода негласная корпорация, основанная на том, что каждый в нужный момент готов был выручить каждого. «Ты – мне, я – тебе» – это был их лозунг, замотанных, вечно куда‑то спешащих, пронырливых снабженцев плановой системы хозяйствования. И ведь ни сотовых телефонов, ни факсов, и ездили, экономя командировочные, поездами, и конфликты гасили в основном телеграммами. «Срочно подтвердите отгрузку наш адрес трёх вагонов спирта… номер заявки…». А вагоны застряли на полпути и стоят себе в тупике на какой‑нибудь станции Георгиу Деж.
Зато из Москвы мама всегда привозила подарки нам. Обычно она покупала их в универмаге «Детский мир», где выстаивала огромные, змеящиеся по лестницам с первого на третий этаж очереди. Скорый поезд «Москва–Новороссийск» прибывал в Краснодар рано утром, часов в пять или шесть. Папа ездил на вокзал встречать маму, и когда они приезжали домой, было ещё темно, но нас всё равно будили, и мы, сонные, в ночных рубашках, едва поцеловав маму, тут же начинали примерять обновки. Шерстяные платья–матроски ярко–красного цвета, много лет потом служившие нам «на выход» (мы неизменно надевали их 1 мая и 7 ноября), плиссированные юбочки, носочки и гольфики, даже атласные ленты и газовые банты, даже пионерские галстуки (шёлковые, алые) – привозила нам из Москвы мама. Последними извлекались кульки с шоколадными конфетами, купленными на развес в Елисеевском («Мишка на Севере», «А ну‑ка, отними!», «Белочка»), длинные, синего цвета коробки с хрустящей соломкой и полиэтиленовый пакет с крупными, ноздреватыми, густо–оранжевого цвета апельсинами.
Утро маминого приезда из командировки превращало нашу маленькую квартиру в сумасшедший дом, в филиал магазина. Всё было вынуто, примерено, отброшено и ещё раз померено, все открыто, развёрнуто и откушено. Всюду валялись конфетные обёртки и толстая кожура апельсинов, наполнявшая комнату свежим, острым, нездешним ароматом.
Во всё время этой вакханалии тряпок и сладостей папа сидел в сторонке на диване и пристально поглядывал на маму, пытаясь, видимо, угадать, почувствовать, как там всё было у неё – в поезде, в гостинице… Папа ревновал маму и не любил её командировок. Первые два–три дня после возвращения отношения у них всегда были немножко напряжёнными, но потом он успокаивался, и всё шло своим чередом. До следующей командировки.
– Ты что думаешь, мне очень хочется мотаться по стране? – устало говорила мама. –Да я бы давным–давно ушла. А кто будет квартиру пробивать, ты?
Мама работала уже начальником отдела снабжения, её шансы на получение квартиры все повышались, тогда как у папы не было никаких.