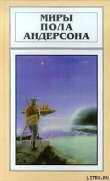Текст книги "Дети солнца"
Автор книги: Светлана Шишкова-Шипунова
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Вот в присутствии обеих бабушек моя сестра Алла собирается в школу.
– Ба! Ты не видела, где мой дневник?
«Наша» бабушка всплёскивает руками, начинает бестолково передвигаться по комнате и квохтать, как наседка:
– Иде ж ты его дела? Шо это за дети, усе пораскидают, ходи за ними, ищи. Иди уже без дневника, а то опоздаешь у школу и получишь два!
В то же самое время бабушка Даша молча подходит к столу, за которым все мы по очереди делаем уроки, поднимает бархатную скатерть, заглядывает под неё, видит лежащий там дневник, как видно, самой же Алкой припрятанный, и невозмутимо спрашивает:
– А это что, собака?
Невозмутимо–спокойной баба Даша, в отличие от «нашей» бабушки, была всегда. Я никогда не видела её ни плачущей, ни сильно о чём‑то переживающей, как, впрочем, и сильно веселящейся, смеющейся тоже.
Всю жизнь бабушка Дарья проработала швеёй в маленькой швейной мастерской, находившейся где‑то недалеко от их дома, на углу улиц Коммунаров и Горького (или Гоголя). Она сидела там у большого окна, склонившись над швейной машинкой, и её было видно с улицы, можно было подойти, стукнуть в окно, бабушка поднимала от машинки плохо видевшие глаза, щурилась из‑за очков, стараясь разглядеть, кто там, за окном. В глубине мастерской сидели в два ряда другие женщины, и стоял сплошной, непрерывный стрёкот ножных машин. В мастерской бабушка Дарья потеряла зрение, зато заработала пенсию. По этому поводу бабушка Софья сильно ей завидовала.
Чем занимался дед Константин, я знаю смутно. Вроде бы когда‑то давно, до войны, он был учителем в начальной школе, но во времена, когда мы появились в Краснодаре, я помню деда Костю ходившим по дворам и пилившим дрова чужим людям. У сарая возле их дома всегда лежало много распиленных брёвен, и, когда дедушка укладывал одно из них на деревянные козлы, я пристраивалась где‑нибудь сбоку, на порожке, и вдыхала необыкновенные запахи сырого мха, горьковатой коры и высекаемых звенящей пилой сухих опилок.
Дедушка Константин носил серый холщовый пиджак и такую же фуражку–шестиклинку с пуговкой на макушке. Он был копия киноартиста Николая Сергеева, игравшего роль старого рабочего Басманова в фильме «Большая семья». И когда дедушки уже не было в живых, а артист Сергеев, бывший примерно одного с ним возраста, все ещё играл в кино, я всякий раз, увидев его на экране, говорила своим младшим сёстрам, деда практически не запомнившим или даже не заставшим:
– Вот, вот, смотрите! Вылитый дед Костя!
Пока дед был жив, он неизменно дарил каждой из нас на день рождения «красненькую», то есть десять рублей. Первое время после его смерти бабушка Даша продолжала эту традицию, но вскоре перестала дарить нам денежку, потому что всю пенсию стала забирать у неё дочь Мира.
Мне было лет 10–11, когда дед умер. Известие об этом принёс папин шурин дядя Жора. Он приехал к нам на Дубинку трамваем, вошёл с улицы в кухню, где были в тот момент только я и папа, пришедший с ночной смены и как раз собиравшийся поесть и спать. Дядя Жора просто так никогда бы днём, один не приехал, это могло означать только что‑то чрезвычайное. И мне кажется, что папа, как только увидел его, все без слов понял.
– Отец умер, – сказал дядя Жора.
Папа бросил ложку, встал и пошёл вон из дома, даже не переоделся, ничего не взял, как сидел, так вскочил, заплакал и пошёл. Меня он словно не заметил в тот момент и ничего мне не сказал. Оставшись одна, я стала думать, как мне следует поступить. Для меня это была первая смерть в нашей семье, хотя смерти (вернее, похороны) чужих людей я видела уже не раз. Там, где мы жили, часто можно было услышать доносящиеся то с одной, то с другой соседней улицы звуки траурного оркестра. «Айда, похороны посмотрим!», – кричал кто‑нибудь из пацанов, и мы ватагой срывались с места и бежали «смотреть похороны». Вид мёртвого человека заключал в себе нечто таинственное и недоступное пока нашему пониманию, но это‑то и притягивало. А ещё мне почему‑то нравилась траурная музыка, непохожая ни на какие обычные звуки, торжественная и тревожная.
Но теперь хоронить будут не кого‑то чужого, неизвестного, а моего родного дедушку, и значит, вести себя надо как‑то совсем по–другому, но как? Вроде бы надо заплакать, но у меня никак не получается. То есть никаких чувств по поводу дедушкиной смерти я не испытываю. Тогда я зачем‑то переодеваюсь в школьную форму, нахожу талончик на трамвай, закрываю квартиру на ключ (до сих пор не понимаю, где находились в тот день все остальные члены нашей семьи), ключ кладу на дно рукомойника на улице, а к двери прикрепляю записку такого содержания: «Мама, ключ в рукомойнике. Я поехала к дедушке. Он умер».
За этот ключ, вернее, за записку мне потом, уже после похорон, здорово попало:
– Светка! – сказала мама. – Ну, ты у нас умная–умная, а дура! Кто ж так делает? Подходи, открывай, бери что хочешь, да?
Никто, конечно, не подошёл, не отрыл и ничего не взял за те несколько часов, пока никого не было дома. Кстати, на ключ наши двери закрывались только на ночь, а весь день были открыты настежь (в тёплое время года, разумеется).
Я ехала в трамвае очень долго. Днём трамвай пустой, можно сидеть у окна и смотреть на город. Всю дорогу я старалась выдавить из себя слезы, для чего представляла всякие страшные картины, мёртвого дедушку и душащую его «грудную жабу» (эти слова я слышала в разговорах взрослых, когда они обсуждали дедушкину болезнь), но слез всё равно не было. От остановки надо было пройти ещё три квартала пешком. Я не шла, а бежала, надеясь, что, может, запыхаюсь от бега и тогда смогу заплакать, но и это не получилось. И вот уже их тесный, закоулками двор и их дверь в самой глубине двора, у сараев, она открыта, только марлевая занавеска колышется. Я вхожу и не вижу ничего и никого, кроме папы, сидящего, согнувшись, на стуле прямо напротив двери. С разбегу бросаюсь я ему на шею, и громкие, взахлёб рыдания оглашают тишину маленькой комнаты. Я плачу долго, упоённо, измусоливаю папе все плечо и шею, а в дверях стоит соседка и говорит:
– Надо же, как внучка переживает, жалко дедушку.
На самом деле, если мне кого и жалко, так это папу. Наконец я решаюсь оторваться от его плеча и с опаской оглядываю комнату. Только теперь я вижу, что на столе накрытый простыней лежит мёртвый дедушка. Отсюда, с папиных колен, мне виден только задранный вверх нос и торчащие из‑под него пегие усы.
Всю ночь взрослые что‑то делали во дворе, готовясь к похоронам. Меня оставили ночевать и положили на высокую бабушкину кровать, которую я очень любила из‑за мягкой перины. Проснувшись ночью, я увидела в окне свет лампочки, специально по такому случаю подвешенной во дворе, и силуэты людей, в которых узнала папу, тётю Миру и бабушку Дашу, ходивших туда–сюда. Между окном и кроватью, на которой я лежала, утонув в перине, стоял стол, и на нём, по–прежнему не в гробу, а так лежал мёртвый дедушка Костя. На фоне окна чётко выделялся его нос с папиной горбинкой. До стола было рукой подать и, если бы я захотела, могла бы, не вставая, дотронуться до простыни, накрывавшей дедушку. Почему‑то мне совсем не было страшно, а может, наоборот, было так страшно, что я даже не могла этого как следует почувствовать.
Вскоре после того, как похоронили деда Костю, наша мама устроила тёте Мире вступление в кооператив (было самое начало развития жилищных кооперативов) и даже помогла занять у кого‑то деньги на первый взнос. Спустя два–три года, семья папиной сестры уже въезжала в новенькую трёхкомнатную «распашонку» на пятом этаже (до этого они тоже жили на частной квартире). Туда же взяли жить оставшуюся в одиночестве бабушку Дарью. Кооператив этот находился неподалёку от нас, на улице Вишневой, и теперь бабушка Даша могла чаще приходить к нам в гости. В свою очередь, и мы с сёстрами заявлялись иногда к тёте Мире, чтобы искупаться в их ванной, это было ближе, чем ехать в баню.
Наша мама недолюбливала папину родню, видно, не могла забыть, как её встретили когда‑то, при этом ни в каких просьбах никогда им не отказывала, а наоборот, чем могла, помогала. Но в гости к ним ходить не любила, считала, что они слишком скупые.
– К твоей Мирке когда не приди, у неё всегда только постный борщ, удавится чем‑нибудь угостить.
– А что, я люблю постный, – пожимал плечами папа.
– Постный он любит! Когда ты его ел в последний раз?
У нас варили только мясной борщ, из говяжьей грудинки, или, реже, из петуха. При этом бабушка старалась самые жирные куски положить в тарелку папе. Если варили к празднику холодец, то, разобрав по тарелкам мясо, бабушка говорила маме:
– Позови его, пусть кости посмокчет.
Папа приходил на кухню, садился перед большой тарелкой, полной костей с остатками мяса, и с большим удовольствием их «смаковал», после чего кости выбрасывали Тарзану.
Напротив, тётя Мира и вся её семья очень любили бывать в гостях у нас. Мама накрывала обильный стол и щедро угощала. Сама тётя Мира ела мало, она была худая, как будто измождённая, в то время как муж её, дядя Жора (все звали его Жорик), имел большой живот и двойной подбородок. И он, и наши двоюродные братья, Генка и Игорек, которого наша бабушка упорно называла «Огирок», лопали так, что «за ушима трещало» (её же выражение). Причём Жорик тут же отваливался на диван и мгновенно начинал храпеть, а братцы шли гулять во двор, но ещё не раз забегали в комнату и хватали со стола то пирожок, то кусок колбасы, что очень не нравилось нашей бабушке. Она не любила, когда хватают со стола.
– У них этот Огирок какой‑то самашечий! Прибежал, ухватил, опять побежал! С голодного края, чи шо?
Если это замечание делалось в присутствии бабы Даши, она недовольно поджимала губы, но возражать не решалась. Она и сама ругала внуков «скаженными» или – того лучше – «малахольными».
Было забавно наблюдать встречу двух бабушек. Они называли друг друга «сваха», лицемерно улыбались и говорили о том единственном, что их поневоле связывало, то есть о нас, их общих внучках. При этом по давнему негласному уговору я считалась любимой внучкой бабушки Софьи, больше всех на неё похожей, а Нелля – любимицей бабушки Дарьи, она была похожа на папу, следовательно, немножко и на неё. К двум нашим младшим сёстрам, родившимся уже в Краснодаре, обе бабушки относились, кажется, одинаково спокойно.
Бабушка Дарья жила у тёти Миры долго, больше двадцати лет, по поводу чего наш двоюродный брат Гена шутил в последние годы, что «её пора заносить в «Красную книгу».
– Как тебе не стыдно! – говорили мы. – Это же твоя бабушка, она же вас с Игорем вырастила!
– Между прочим, она такая же ваша, как и моя, – отвечал на это брат Гена, но мы относились к такому утверждению с известной долей отстранённости. Наша бабушка – это наша бабушка.
На рынок, или, как говорила бабушка Софья, на базар, ездила она трамваем через весь город, потому что жили мы на Дубинке, а это была тогда почти окраина. Гуляя во дворе, мы каждые полчаса выглядывали из нашего узкого проулка на трамвайную линию – не идёт ли? И вот идёт, плетётся еле–еле, устала, ноги старые болят, тащит в обеих руках, аж гнётся. Тогда мы наперегонки мчимся навстречу – помочь донести и получить тут же, на улице что‑нибудь вкусненькое: бублик, густо усыпанный маком, или мягкую булочку с изюмом. А бабушка, опустив на землю сумки, садится на скамейку возле чужого дома и говорит: «Ой, дети, погодьте…».
В обязанности бабушки входило: поднять нас утром с постелей, покормить, отправить в школу, встретить после школы и опять накормить.
– Рая, шо сегодня готовить?
– Что хочешь, – говорит мама, собираясь на работу.
– Борщ варить, чи шо?
– Вари, конечно, – говорит мама, раскручивая на голове бигуди.
– А шо на второе? Котлеты, чи шо?
– Можно котлеты, – машинально отвечает мама, цепляя серёжки.
– А може лучше вареники исделать?
– Ну, сделай, – говорит мама, подкрашивая перламутровой помадой губы.
– А и с чем? С картошкой, чи с чем?
– Мама! – говорит мама. –Да жарь котлеты! Я из‑за тебя на трамвай опоздаю.
– А шо на гарнир? Пюре отварить, чи шо?
Но мама уже стучит каблучками–шпильками по двору. А бабушка долго ещё топчется по квартире и ворчит себе под нос:
– Откуда я знаю, шо готовить?
Но к моменту нашего прихода из школы обед всегда на столе. И бабушка стоит, сложив руки под грудью, на порожке и поджидает нас. Едва кто‑нибудь из нас свернул из проулка на асфальтовую дорожку двора, как тут же раздаётся:
– Светка! (Нелька! Алка!) Иди кушать!
Она называла нас «Светка–Нелька», но у неё это звучало уменьшительно–ласкательно, как «детка» или «рыбка, птичка».
– Иди кушать, я кому сказала.
– Я не хочу!
– Я тебе дам «не хочу»!
Когда вечером мама приходила с работы, бабушка ей докладывала:
– Исделала вареники, 30 штук. Всем по чатыре, ему – шесть.
«Ему» – это, разумеется, папе. Чуть он задерживался с работы, она говорила:
– Придёт або пьяный, або выпивший.
Из всех возможных вариантов развития событий бабушка Софья всегда почему‑то предполагала самый худший. Если от кого‑нибудь из родственников долго не было письма, она говорила:
– Это точно что‑то случилось. Може, их уже и в живых нет.
Писание писем было одним из самых важных занятий бабушкиной жизни. Дело в том, что трое родных братьев деда Бориса остались живы–здоровы, после войны жили в разных городах Советского Союза, и бабушка Софья много лет с ними переписывалась. Один из них, дедушка Миша, жил в Чернигове с женой и двумя дочерьми, старыми девами, которых наша мама и тётя Инна, много лет безуспешно пытались пристроить замуж, организовывали им знакомство по переписке и все такое. В результате младшая, Нина, вышла‑таки замуж, но без их участия, сама по себе, а старшая, Лиза, так и осталась. Другой брат её мужа – дедушка Юра, имевший нормальную дочь Люду и душевнобольного сына Гришу, проживал в Томске. А самый младший её деверь (он же двоюродный брат), дедушка Илья, отставной полковник, тоже отец двоих детей – дочери Люды и сына Лёни осел во Львове.
Во все эти города бабушка исправно писала, пока глаза её хорошо видели. Позже писать письма она просила меня. Я вырывала из школьной тетрадки двойной лист, садилась к столу, и она начинала мне диктовать:
– Здравствуйте наши дорогие все–все! Во первых строках своего письма сообщаю, что мы все живы–здоровы, чего и вам всем желаем!
Я этот «зачин» знала наизусть и строчила, не дожидаясь диктовки. «Во вторых строках» надо было написать: «письмо ваше мы получили, за что большое спасибо». Далее следовал бабушкин как бы отклик на прочитанное. Если кто‑то умер, бабушка выражала сочувствие, если кто‑то женился, вышел замуж или родил ребёнка, бабушка поздравляла и желала «крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни». Затем коротко сообщались новости из жизни нашей семьи, передавались приветы от мамы и пожелания «усего самого наилучшего». Заканчивала диктовку бабушка тоже всегда одинаково: «Целуем крепко–крепко – все».
Когда письмо было продиктовано, я читала ей его вслух. Бабушка внимательно слушала, одобрительно кивала головой, потом аккуратно складывала листок и сама запечатывала конверт. Последним ритуальным действием было такое: бабушка клала конверт на стул, садилась на него и долго на нём сидела, полагая, что так оно лучше заклеится.
Много лет бабушка Софья была хранительницей родственных связей. Когда её не стало, переписка с роднёй сразу же оборвалась и никогда уже не возобновлялась. Маме было не до этого, а нам – тем более. Где теперь все эти двоюродные тёти и троюродные братья – один Бог знает.
Пока бабушка была жива и здорова, под её неусыпным контролем находилось все происходящее не только в нашей семье и в семьях родственников, но также у соседей, во дворе и вокруг. Переделав все домашние дела, она выходила во двор, садилась на лавочку под верандой и зорко наблюдала, кто куда пошёл, кто откуда пришёл, кто что принёс и так далее. Вечером обстоятельно докладывала родителям обо всех важных событиях прошедшего дня. Папа называл её за это «комендантом».
С мамой у бабушки были сложные отношения. Она была не властна над ней, но упорно продолжала хотя бы на словах ею командовать, во все вмешиваться и уж во всяком случае все комментировать, то есть – сотрясать воздух, мама все пропускала мимо ушей.
– Подожди, вырастут твои дочечки, они тебе ещё не то покажут! –грозила бабушка.
Потом похожие слова мы слышали от нашей мамы:
– Вот подождите, повырастают ваши дети, тогда узнаете!
И почти то же самое говорю я теперь своему взрослому сыну.
– Вот будут у тебя свои детки, тогда ты поймёшь!
До сих пор сердце моё сжимается от жалости и стыда, когда я подумаю, как доживала свою жизнь наша бабушка Софья. Ей было 70 лет, и она уже не могла ходить, только лежала или сидела в жёстком деревянном кресле, специально сделанном для неё папой. В кресле было вырезано круглое отверстие, под которое ставили ведро. Получалось, что бабушка сидела на самодельном подобии унитаза. Так решена была самая неприятная проблема ухода за ней. Кресло и кровать, на которую её надо было перетаскивать на руках, стояли на веранде. Папа сам её утеплил, обложив кирпичом, оббив войлоком, застеклив и законопатив окна. Настоящего отопления там, однако, не было. Всю ночь и весь день рядом с бабушкиным креслом и кроватью включены были два калорифера, так что было даже жарко.
Сидя на своей веранде, бабушка иногда заглядывала оттуда в окно кухни, ласково улыбалась и стучала по стеклу пальцем. Кормил её тот, кто был в это время дома. Но ела она уже совсем мало, только просила иногда «горачево чаю». Больше всех досталось ухаживать за бабушкой, вытаскивать из‑под неё пелёнки, стирать, перестилать чистое, перетаскивать её с кровати на кресло и обратно – вовсе не мне, её любимой первой «унучечке», а нашей третьей сестре Аллочке, которой было тогда лет 14–15. Я в то время училась в Москве, Нелля вышла замуж, Женечка была ещё слишком мала, а мама, как всегда, работала. Впрочем, хватило, конечно, и маме. Самое трудное – купать, переодевать – это могла делать только она.
Умерла бабушка Софья зимой 1974 года, в мамин день рождения.
23 февраля, папа встал первым, вышел на веранду и заглянул, как там бабушка. Вернулся в комнату и сказал:
– Слушай, кажется, мать того, готова…
Как‑то грубо у него получилось, маму это покоробило, но она ничего не сказала, только глянула испуганно и пошла посмотреть на ватных ногах. Бабушка лежала на боку, лицом к окну. Мама дотронулась до её руки, рука была уже холодная…
В библиотеку на Моховой, где я с раннего утра занималась (готовилась к госам), днём пришла девочка из нашего общежития и сказала:
– Там на вахте тебе телеграмма лежит, только ты не волнуйся.
– А что случилось?
– У тебя бабушка умерла.
Я заплакала и пошла из библиотеки. Пошла я на почту, К-9, звонить в Краснодар. Дома у нас телефона не было, и я стала звонить на мамину парфюмерную фабрику. Там взяли трубку и сказали, что Раисы Борисовны нет, она сегодня мать хоронит.
– Во сколько? – спросила я, понимая, что, во сколько бы ни было, я уже всё равно не успеваю.
– Да уже поехали. А ты не Света?
– Да.
– Так мама сказала, чтобы ты не приезжала. Потом приедешь.
Было 24–е число. Телеграмма сутки пролежала на вахте.
Я полетела домой только на 9 дней, но маленький холмик на краю кладбища, укрытый тремя скромными венками – от нас, от тёти Инны и от соседей – не произвёл на меня никакого впечатления. Представить, что там, под этим холмиком, лежит моя бабушка Соня, никак не получалось. Ни тогда, ни когда‑нибудь потом. Просто она была, и её не стало.
А бабушка Дарья умерла летом 1984 года, почти 90 лет от роду. Умерла тихо, ночью, как и бабушка Софья, которую она пережила на целых десять лет. Только та года два перед смертью уже не вставала, а эта шаркала по кооперативной квартире до последнего дня. Никто особо не плакал о ней, даже родная дочь, не говоря уже о внуках, все будто давно ждали, когда это случится, и испытали какое‑то облегчение. К концу своих дней бабушка Даша стала такой маленькой, так согнулась и высохла, что почти сравнялась ростом со своей восьмилетней правнучкой. Мёртвая, она лежала на белой кровати в белой кофточке и белом платочке, укрытая до пояса белой простынкой. На беглый взгляд могло показаться, что просто тряпочки какие‑то белые лежат, так иссохла, избыла её телесная оболочка. И гроб ей понадобился совсем маленький, почти детский.
Один только папа пролил над ней немного слез. Думаю, он любил её.
Папа пережил свою мать, бабушку Дарью, всего на семь лет.
Выйдя на пенсию, он брал в погожий день лопатку, веничек и ехал велосипедом на Славянскую, там у нас кладбище, потом звонил и докладывал:
– Доча, я ж сегодня на кладбище был. Ну, значит, всех объехал потихоньку, у матери у своей был, подравнял там могилку, земли подсыпал, потом, значит, у Жорика, правда, еле нашёл, позарастало так… Потом до вашей бабки заехал, тоже поубирал там все. Надо б ей оградку покрасить, но это я уже в другой раз как поеду, захвачу серебрянки и покрашу…
Сами мы редко выбирались в те годы на кладбище, а мама так и вовсе не ездила, очень она не любила там бывать, даже у своей матери, «нашей бабки». Не любила и все. Пугало её, что ли, кладбище, а папа чувствовал себя там спокойно, по–хозяйски – где покрасить, где бурьян вырвать, где подравнять, вроде за этим и ездил.
Знала бы бабушка Софья, кто будет ухаживать за её могилкой!
Я не видела бабушкиной смерти и не была на её похоронах, оттого она мне как‑то легко вспоминается, не то что папа и мама, которые умирали у меня на глазах, а мама – даже у меня на руках. С тех пор я только это и вижу.
Тётя Инна умерла через год после нашей мамы. Весь этот год, до самой своей смерти, переживала она, что не смогла приехать на похороны единственной, горячо любимой сестры, с которой всю жизнь они крепко держались друг дружки. Из Полтавы, где она (похоронив незадолго до этого мужа), жила в последние годы, зимой 1994 года уже не ходили в Краснодар поезда и не летали самолёты. Другое государство.
Сейчас, когда я пишу эти строки, из всех жива только тётя Мира. Она стала такая же маленькая и сгорбленная, как была баба Даша. Внуки шутят, что её «пора заносить в Красную книгу».