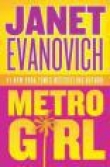Текст книги "Лотерея "Справедливость""
Автор книги: Сухбат Афлатуни
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Почему Билл?
– Я не знаю. Я же сумасшедший. Почему я должен знать? Акбар построил мне клетку и кормит меня женщинами. Они все время танцуют. Они танцуют, чтобы со мной не разговаривать. Женщины всегда так делают. Им легче танцевать перед мужчиной, чем выслушать его. Они, во время танца, заставляют меня пить таблетки, им нет дела, что я от этих таблеток лысею. Ты думаешь, мне сколько лет? Не угадал. Мне всего тридцать три, Алекс. Я хочу служить человечеству, я хочу создавать хорошие компьютерные вирусы.
– Очень-очень хорошие?
– Да, Алекс, очень-очень. Не то, что этот мистер Билл со своей Лотереей. Я только не знаю, для чего он придумал эту Лотерею, что ему нужно от нее. Спроси его сам, если хочешь.
– Почему ты думаешь, что это его Лотерея?
– Я не знаю. Он ждет конца света, этот мистер Билл. Он из какой-то церкви, брат говорил мне, не помню название, они там все ждут конец света. Говорят, очень веселая церковь, поют песни, даже танцуют. Мой брат тоже к ним ходил, в эту очень-очень известную церковь. Это Церковь Неверующих. Они сознательно распространяют неверие, чтобы остаться единственными в мире верующими и спастись... Там много богатых людей, они туда ходят танцевать. Они там договариваются, как лучше и быстрее приблизить конец света.
– Зачем им конец света, Митра?
– Мой друг, откуда я, сумасшедший, могу знать, зачем нужен конец света психически здоровым людям? Может, они ждут, что придет Бог и будет всех судить. А может, хотят на этом конце света заработать. А эта Лотерея... Я не знаю. Я не специалист по религиозным программам и вирусам. Конечно, мне нужно было это помнить и не лезть в систему без твоего разрешения, извини. Но я хочу тебе сказать одну вещь. Я очень быстро разобрался в системе и был поражен... Она была построена как мега-вирус. Я это уже говорил? Нет, я не говорил, какой. Он очень похож на тот вирус, который я несколько лет назад сам разрабатывал в компании брата... Я забыл его название, я забыл, зачем я его разрабатывал... Они убивают мою память, Алекс! Помоги мне... Они затыкают мой рот таблетками и поцелуями танцующих женщин...
– Вы еще здесь, Алекс?
Алекс поднял голову.
Над диваном стоял Билл и вытирал салфеткой потное лицо.
Женщины – жрицы любви для мужчин
Алекс подходил к дому. Слежки не чувствовал, но было все равно неспокойно.
Прогулка по краю бездны.
Воздух прогрелся и засинел. Даже птицы забыли о вчерашнем снеге. Ходят, греют на солнце крылья. Осторожно зацветает вишня.
Ветер играет бумажными объявлениями, но Алекс только отмахивается от них. Нет, мне не нужен конкретный массаж. И худеть не собираюсь... С чего вы взяли, что я собираюсь поправиться? Нет, трехкомнатная в районе Карасу меня не интересует... Нет, и персиковый пудель тоже... Нет... Нет... Нет!
Уворачиваясь от летящих на него слов и запятых, Алекс сворачивает с проспекта.
“Этот человек болен, – говорят ему вслед. – Его не интересует даже лечебное голодание и персиковый пудель!”
Пообедал остатками вчерашнего пира, допил выдохшееся пиво.
Владимир Юльевич перед уходом вымыл всю посуду.
Болезненная чистоплотность.
Вчера пировали допоздна, зажгли свечи, слушали, как мокнут под дождем лепестки урючины. Иногда начинали петь “Я пригласить хочу на танец вас”; Алекс отбивал такт по столу, прыгали вилки. У Владимира Юльевича открылся высокий баритон и манера дирижировать, чуть не стоившая жизни чайнику.
Потом снова слушали дождь.
Дождь говорил: “Ш-ш... Пш... Тинь-тинь”.
“А у питерских дождей совсем другой голос, – сообщил В.Ю. – Наверно, другая почва, море... Нет, родился я как раз в Ташкенте, родители здесь в эвакуации были, после войны на несколько лет задержались. В Питер уже со мной вернулись, меня там все Узбечонком в детстве называли...”
Владимир Юльевич говорил так, как обычно говорят, показывая семейные фотоальбомы. Потом Алекс рассказывал о Лотерее, а Владимир Юльевич слушал и нервно мял воск с оплывших свечей.
...Алекс подошел к окну. На перилах балкона были расставлены кегли голубей.
Голубь причесал клювом грудку, потопал ногами и стал кружиться, пытаясь выразить чувства.
“Интересно, – вдруг подумал Алекс, – а что за танцовщиц Акбар приводит Митре?”
Город был полон солнцем, весной и оптовой любовью.
“Что же ты теряешься?” – спросил сам себя Алекс. Разве ты не видишь, сколько продажных цветов готово цвести перед тобой? Они захлебываются нектаром. Накорми свое тело любовью, Алекс. Причастись хлебом Эроса. Наполни свои ладони смуглым молоком. Наполни сладким продажным молоком. Выпей это молоко и стань козленком, осленком, бельчонком.
“Забавный зверек белка! – шептали продажные женщины. – Какая она трудолюбивая! Она зарывает шишки в укромные места”.
Чего же ты ждешь?
Твои глаза хотят видеть стонущую кожу женского плеча. Твои уши хотят слышать: “Какой ты нетерпеливый...”. Твои губы хотят танцевать. Твои ноздри хотят обжечься горьким огнем косметики и запахом вчерашнего дождя у корней волос. Твоя спина говорит: “Я готова терпеть эти царапины”. Твой мозг хочет исчезнуть,
сердце – разжать кулак с бабочкой, тело – пролиться восковым дождем.
“Дети поймали хорошенького жучка, – делились новостями продажные женщины. – Головка у него черная, крылья красные, на крыльях пятнышки. Да жив ли он? Что-то не шевелится”.
Чего же ты ждешь?
Твое тело недовольно тобой.
Ты всегда относился к нему, как хозяин к породистой собаке.
Ты приучал его сидеть по команде “сидеть!”, лежать по команде “лежать!” и уважать старших по команде “уважать старших!” Ты приучил его два раза в неделю залезать в горячую ванну и наблюдать, как кожа на пальцах становится розовой, как у младенца, и морщинистой, как у старичка. Ты выгуливал свое тело по вечерам, и оно размахивало руками, прыгало и пинало белые стволы тополей. “Фу, опять курил?” – спрашивала мама, когда вы возвращались.
Потом прогулки стали дольше: началась эпоха поцелуев в подъезде.
Подъезд – это ад для влюбленных. Старые собачки высовываются и взрываются лаем. Пробегают мальчишки, кидают камнями. Ты смотришь на них печальными глазами и мечтаешь откусить им что-нибудь.
И снова ванна два раза в неделю, и дача раз в неделю, где папа изображает Мичурина, а мама – балерину Плисецкую. Однажды ты привозишь на дачу свою спутницу по подъездным скитаниям. Пока родители, споря, идут куда-то за водой, в твоем небе взрывается тысяча салютов, и в тысячу горячих ванн падает удивленное тело. “Только пользуйся ошейником”, – шепчет по дороге домой папуля. Мама делает вид, что не слышит, и яростно обмахивается прошлогодним журналом “Бурда”.
Чего же ты теперь ждешь?
Соат.
“Я жду Соат”, – подумал Алекс и закрыл окно. Город заткнулся.
“Я надиктую ей письмо”, – подумал Алекс и принес из своей комнаты диктофон.
“Я все ей объясню...”
Тяжелыми каплями сочится кран.
Бесполезно шелестит диктофон, записывая молчание Алекса. Слова, которые он хотел наговорить, мятой бумагой намокают во рту. Разбухают стоматологической ватой.
Алекс выключил диктофон, перевернул кассету на другую сторону.
Там была записана Соат.
Он как-то ушел на обед чуть позже, оставил диктофон включенным, так, чтобы Соат не видела. Диктофон всасывал в себя все ее шорохи, дыхание, шелест пальцев по клавиатуре.
Закрыв глаза и поднеся диктофон к уху, Алекс смакует ее звуки.
Вот Соат печатает, дышит.
Подвинула чашку, делает глоток.
Вот звук оставляемой губной помады на поверхности чашки.
Выдвинула ящик стола: звук пыли, металлический шорох снимаемой скрепки.
А вот – удача: шелест ее платья.
Снова пальцы бьются о клавиатуру.
Похрустывает, словно грызя какую-то бесконечную рыбу, компьютер.
Прощание
Проходя мимо букинистического, Создатель бомбы заметил оживление. Какие-то пожилые люди выходили и несли стопки книг. Впереди шагала Ольга Тимофеевна, которая в прошлый раз читала в магазине Тютчева. Она снова ступила на тропу войны, оглядывалась на магазин и шевелила губами в комочках помады.
Создатель Бомбы вошел.
На фоне поредевших книжных полок ходил Марат и посмеивался. Провел пальцем по книжной полке:
– Мы закрываемся...
– Да, Алекс мне сказал.
– Алекс? Нашли его? Хорошо. Жизнь продолжается!
– Что, опять приходила эта?..
– Ольга Тимофеевна и ее команда? – дергал губами Марат. – Видели? Говорю ей, заберите ваши книги, закрываемся мы, понимаете? А она мне: в храме культуры так разговаривать невозможно! И эти книголюбы с ней, тоже ни в какую не забирают. Я им: завтра уезжаю из Ташкента. Уезжаю! Они: вот и возьмите наши книги с собой. Куда, говорю, я их возьму? Ну, говорят, туда, куда уезжаете, – вы их там за большие деньги продадите, не то, что здесь.
Подошла Маша с пиалой; запахло валерьянкой.
– Зачем ему в Москву, – говорила механическим голосом Маша. – Без прописки, с его внешностью... Будет лицом кавказской национальности...
– Лучше кавказской, чем вообще никаким лицом... – глотал валерьянку Марат.
– Сегодня с утра снова они приходили... Не терпится им наш магазин забрать.
Владимир Юльевич посмотрел на серое, горящее лицо Марата.
Посмотрел на круглую Машу с мертвыми вьющимися волосами.
– Возьмите, – Марат протягивал ему какую-то книгу. – Это вам на память. Нет, не нужно платить... А это передадите от меня Алексу, пусть у себя повесит.
И сорвал со стены репродукцию с умирающим Маратом.
Под ней темнела паутина и была наклейка с девушкой.
Владимир Юльевич вышел из магазина.
Мимо нервным шагом прошла Вера. Ехала на лечение, к своей Бибихон. Но Владимир Юльевич не был знаком с Верой...
Он возвращался с бывшего спецобъекта. Богобоязненное государство раздавало сегодня милостыню сотрудникам. В такие дни он заранее отключал свой агрегат, поскольку со стороны бухгалтерии начинало тянуть такой темной энергией, что ни о каком генерировании любви не могло быть и речи.
Дело двигалось медленно: пять граммов обогащенного сырья за месяц. Для опытного образца нужно хотя бы десять... Конечно, стоило бы испытать для начала один грамм. Но на ком?
На себе?
Бред. Куда он со своим... изъяном. Можно, конечно, еще один грамм потратить на какую-нибудь женщину. А что, он читал, даже у евнухов были любовницы, жены.
Но ведь тогда это будет уже не эксперимент, а брак. То есть семья. Станут они жить-поживать, добра наживать.
Вот к чему, коллеги, приводит неосторожное обращение с техникой.
Жидкие аплодисменты.
Нет. Постойте... Он не Фауст. Он не собирался брать реванш за те ледяные постели-одиночки, постели-карцеры, в которых он всю жизнь мучился бессонницей.
Кроме того, испытывать надо на здоровом представителе человеческого рода... Чтобы в здоровом теле – здоровый дух... пух... лопух... Только где их откопать, этих здоровых добровольцев, лопухов, готовых подвергнуться любви? Может, предложить его сотрудникам? Нет, дойдет до начальства, потребуют объяснений, почему Земля вертится... Нужен кто-то со стороны.
В тот вечер он рассказал Алексу в общих чертах о Бомбе.
Отлет
Следующий день пронесся скоростным поездом: мелькали только белые проемы воздуха между вагонами.
Маша укладывала вещи, потом, не выдержав, шла на кухню, пила тяжелыми кислыми глотками вино.
Под вечер чемоданы были собраны, пирожки в дорогу остывали и почему-то пахли хозяйственным мылом, что расстраивало Машу и веселило Марата.
Маша смотрела на его веселое лицо, и ей хотелось выть.
Самолет улетал рано утром.
Ночью они не спали: Марат курил, Маша принюхивалась к пирожкам и плакала.
Докурив, Марат набросился с прощальной, про запас, яростью на Машу, порвал ей свитер. “Давай по-человечески, – просила Маша, гладя его колючее лицо. – Давай по-человечески”.
Потом он снова курил, а Маша зашивала свитер, в котором хотела помахать Марату рукой в аэропорту. Запах хозяйственного мыла из пирожков почти выветрился, и она упрашивала все-таки их взять. “Возьми, – ходила она за ним, – возьми!” Марат молчал и слушал, как за окном в темноте шумят собаки.
Потом они ехали на “Запорожце” по цветущему городу.
Марат собирался зачем-то заехать до аэропорта в свой бывший магазин.
Оставил машину на стоянке, вышел:
– Посиди, я вернусь скоро.
– Я с тобой, подожди, – встрепенулась сонная Маша.
– Сиди, сказал!
“Хорошо как”, – думал Марат, подходя к магазину. Тишина, никаких людей. В такое бы время работать. Интересно, изобретут когда-нибудь круглосуточные книжные магазины?
Усмехнулся. Так... Милиции, кажется, не видно. Хорошо.
Открыл дверь. Свет включать не стоит. Сейчас и так будет все видно. Так… Вот проход к двери, чтобы успел выбежать. Нащупал внизу заготовленные канистры.
– Ну что, ребята, устроим прощальный фейерверк?
Принялся кропить бензином стеллажи. Получалось неумело; дрожали руки.
– Так... Теперь классиков. Александр Сергеич... мое почтение. Фёдор Михалыч... Еще бензинчика! И тебе, Вильям, хватит… Не нервничай. Так. Современники! Есть. Философы, философы! Гегель... Какие мы многотомные, а! Бензина не напасешься... – Закашлялся. – Как они на этих бензоколонках работают? Спички, где спички...
Не выдержав, Маша вылезла из машины. Потопала ногой: отсидела. Пошла к Марату.
– Извинит, ваш документ!
Милиционер, выросший прямо из воздуха, темнел перед ней и улыбался.
– Да иди ты, какие документы? Вон, в машине документы...
– Машина ваш?
– Да. Мужа. Муж вон в магазин пошел. За углом, знаешь, букинист? Книжный, книжный.
– Чем такой поздний время здес занимаетес?
– Да иди ты, говорю, мне к мужу надо!
– Документик покажите...
Магазин загорелся сразу; от неожиданности Марат отпрянул и ударился спиной о стеллаж.
Стеллаж, рассыпая горящие книги, покачнулся. И упал, загородив выход.
Задыхаясь, Марат бросился в подсобку, но там взорвалась неистраченная канистра. Кинулся к стеклам... Выломать решетки! Решетки...
– Та-ак... Посмотрим ваш документ, – говорил милиционер, с интересом изучая паспорт. – Какого, говорите, года рождения? Ай, совсем молодая.
– Да мне идти надо, к мужу, объясняю же!
– Э, а муж сам не придет? Зачем так за мужем бегать? Э... стой! Ты куда! Стой! Что там горит?..
Он бросился за ней.
– Магазин! – кричала Маша. – Марат! Мара...
– Стой, сестра! Эй, кто там горит?! Твой муж огонь делал?
Магазин горел, лопались стекла. Милиционер что-то кричал в рацию.
– Мара-а-ат! – завыла Маша, бросаясь к огню. Она видела его, повисшего на решетке...
Пламя.
Милиционер оттаскивал Машу:
– Стой! Куда, сумасшедший... Назад, умрешь!
– Маратик! Да отпусти, отпусти же, пусти! Я сейчас... воды... воды принесу. Потушить! Пусти же...
Они упали, Маша пыталась вырваться, милиционер кричал:
– Ты что... хочешь мне два трупа за дежурство делать... Дети у меня... Дети!
Рухнула крыша. Крики Марата стихли. Из окон выглядывали сонные лица.
– Пожар! – закричал кто-то.
По пустым улицам мчалась бесполезная пожарная машина.
Прощание
Хоронили в закрытом гробе, на Домрабаде, на русской карте.
Лил дождь.
Было возбуждено дело и шло следствие, Марата долго не отдавали. Неожиданно помог Акбар: уладил все двумя звонками.
Другой неожиданностью стала Ольга Тимофеевна. Позвонила Маше, плакала в трубку, казнилась и обещала откусить себе язык. Через какие-то ее связи и удалось получить разрешение на погребение на Домрабаде. Нести Марата пришлось почему-то долго. Алекс смотрел на запущенные, засыпанные листвой и птичьим пометом надгробья русской карты.
– Да... – сказал Алекс какой-то старушке, приехавшей вместе с Ольгой Тимофеевной. – Как все неухожено...
– Так ухажеры все разъехались! – кивала старушка. – А на еврейской карте, говорят, и того хуже. Дети-внуки эмигрировали, а этим – куда эмигрировать? Они уже все...
– Репатриировались, – подсказал старичок с большой хозяйственной сумкой и в ботинках, зашнурованных шпагатом.
Люди стояли над ямой.
Ольга Тимофеевна достала листочек бумаги. Старичок с хозяйственной сумкой держал над ней зонт. Маша плакала. Ольга Тимофеевна громко читала:
– Дорогой Марат! Мы, члены-активисты бывшего Общества книголюбов, пришли проводить тебя в твой последний нелегкий путь. Ты не только многие годы поддерживал нас, книголюбов, морально и материально; ты поддерживал в своем магазине очаг высокой культуры и духовности. Твой трагический уход – невосполнимая потеря для нас, активистов бывшего Общества книголюбов, которые всегда считали тебя своим единомышленником.
Зонты в руках старушек дрожали; белели носовые платки.
Владимир Юльевич наклонился к Алексу:
– Это выше моих сил... Может, пока отойдем?
Ольга Тимофеевна продолжала:
– Твой близкий друг, Мария, которая тоже присутствует здесь, открылась нам, что в последнее время тебя несправедливо преследовали представители мафии... Что ж, пусть это будет на их грязной совести. Но мы, книголюбы, клянемся так этого не оставить. Мы уже подготовили письмо в авторитетную международную организацию “Лотерея-Справедливость”, на счету которой уже немало добрых дел на территории нашей республики. Пользуясь случаем, я бы хотела зачитать это письмо. Многоуважаемая Лотерея-Справедливость!..
Алекс и Владимир Юльевич отошли и встали поодаль. Деревья были в больших молчаливых воронах. Алекс стал ковырять ботинком глину.
Потом было слышно, как Ольга Тимофеевна читает какой-то отрывок из Тютчева. Зонтики запрыгали: присутствующие аплодировали.
– Идемте, – сказал Алекс.
В яму посыпалась земля. И не только земля...
Старички и старушки вытаскивали из своих хозяйственных сумок какие-то книги и кидали.
“Бух-бух”, падали книги.
Ольга Тимофеевна метала Н.Островского, М.Горького и письма Тютчева.
– Ну зачем же... Не надо книги! – говорил Владимир Юльевич.
– Мы всех наших активистов так хороним, – отвечала Ольга Тимофеевна, целясь Островским. – А Марат нам теперь как активист.
Кричали вороны.
Маша смотрела пустыми глазами и шепотом повторяла: “Ну зачем тебе в эту Москву, Мара, зачем тебе в эту Москву...”
Дождь перестал; замолкли вороны на цветущих деревьях.
Люди возвращались.
Старики шли с горящими хозмаговскими свечами.
– Понимаете, Алекс, – шептал Владимир Юльевич. – Любовь снизойдет на мир; слишком много горя пережили люди...
– Боже, грешной душе пошли прощенье, – тихо говорили старики. – Сжалься над той, которой нет возврата... Даруй ей от ада избавление... Будет костер за все грехи расплатой...
Горячий воск каплями падал на кладбищенскую глину. Падали мокрые лепестки цветущих вишен. Люди шли.
– Я не знаю, Владимир Юльевич, – говорил Алекс, глядя на зонты и свечи. – Уже столько раз человечество пытались осчастливить... Все заканчивалось очередным концлагерем...
– Не только лагерем, Алекс! Я не оправдываю никакую диктатуру, но...
– А сами хотите ввести диктатуру любви...
– Да, Алекс, именно любви! До сих пор все диктаторы обещали только хлеба и зрелищ... Ну еще эту вашу... справедливость! Любви, любви никто не обещал; она опасна для любой диктатуры, для любой власти. Но пришел час и для любви, Алекс!
– Боже, грешной душе пошли прощенье, – шептали старики, прикрывая от ветра свечи. – Сжалься над той, которой нет возврата... Даруй ей от ада избавление... Будет костер за все грехи расплатой!
Медленно проплывали надгробья.
“1901—1964”, – читал Алекс. – “1928—1948. 1923—1969. 1900—1970. 1961—1980”.
Восьмизначные телефоны мертвых.
Просьба не беспокоить.
– Боже, грешной душе пошли прощенье...
Ольга Тимофеевна поддерживала Машу, что-то объясняла, деловито зажигала погасшую свечу...
– Сжалься над той, которой нет возврата... Даруй ей от ада избавление...
Кто-то, Маша или не Маша, тихо спрашивал:
– Молитву услышит Господь в небесах? Пошлет ли душе, пошлет ли спасение? О, сердцем владеют ужас и страх...
1970—1999. 1898—1973. 1911—1973. 1948—1974.
1964—1979. 1964—1979.
– Любовь должна войти в мир, Алекс...
–...пошли прощение. Сжалься над той, которой нет возврата!
–...посидим, помянем, все скромно. Все очень скромно.
1966—1982. 1907—1983.
1969—1998. 1958—1997. 1970—1998...
1980...
Через два дня
Они возвращались с обеденного перерыва. Воздух был теплым, густым от цветочной пыльцы. Даже объявления стали похожи на лепестки, летящие с деревьев. Горки розового мусора шевелились у корней.
Алекс срывал объявленья со столбов и стен, мастерил журавликов и отпускал их обратно в небо.
– Где ты их так насобачился делать? – спрашивала Соат.
– Мацуда-сенсей научил; помнишь, я тебе о нем рассказывал? Ну, со словарем еще?
– Нет, не помню.
До офиса было еще далеко. Они стали играть в города.
Это была усложненная разновидность игры: разрешалось называть только те города, в которые навсегда уехал кто-то из друзей, знакомых или родственников.
– Нью-Йорк, – говорит Алекс. – Два одноклассника.
– Ка? – переспрашивает Соат. – Казань. Соседка по лестничной площадке.
– Новосибирск. Однокурсница, вышла замуж там...
– Опять “ка”? Киев, подруга.
– Вена, – говорит Алекс. – Один мой препод университетский туда уехал.
– А... Алма-Ата. Однокурсница, сосед. Один мой бывший... бизнесмен.
Алекс внимательно посмотрел на нее.
Одноэтажные дома. Башни Дархана, как стаканы с синей водой.
– Значит, на “а”, – медленно сказал Алекс. – А... Амстердам. Знакомый переводчик уехал.
– Крутые у тебя знакомые. “Эм” – Москва! Двоюродная сестра, два одноклассника, три...
– Ладно, ладно, всю дорогу сейчас перечислять будешь... А... Афула-Элит! Мамина лучшая подруга.
– Это где?
– Афула-Элит? В Израиле где-то... Будешь называть?
– Тэ... тэ...
– Ташкент! – подсказал Алекс.
– Да... очень отдаленный город, – улыбнулась Соат. – Не вспомню, кто туда уехал.
– Мы с тобой, например.
Соат сломала веточку цветущего персика. Повертела, отбросила.
– Да, Ташкент сильно изменился... Иногда мне кажется, что я родилась в другом городе.
Показался офис.
– Ладно, – сказал Алекс, – мне еще надо кое-что купить... Может, вместе сходим?
– Не, меня еще парочка злобных графиков дожидается.
Перед офисом стояли люди. Соат потемнела.
– Ты заметил? – их все больше. Я уже просила Акбара сделать сбоку отдельный вход для сотрудников; он говорит, подожди, скоро все кончится... Как по битому стеклу каждый раз прохожу... Ладно, скоро придешь?
Алекс кивнул. Соат пошла в сторону офиса. Он смотрел ей вслед.
“Пора начинать эксперимент”, – подумал Алекс и улыбнулся хитроватой детской улыбкой.
III
Прошел месяц
Человек – существо, выделяющее время.
Поглощает он разные впечатления, объявления, предложения сбросить вес, известия о сгоревшем книжном магазине.
Поглощает разговоры в метро, зазеленевший голос урючины, ночные визиты нищих детей, утренние визиты нищих птиц, вечерние визиты самого себя в какой-нибудь кабак, где кожно-венерический голос поет про бе-е-елый танец.
Поглощая все это, человек выделяет время.
Поглощая жадными губами, глазами, ногами пространство, человек выделяет время.
Я выделяю. Тик! Ты выделяешь. Так! Он, она, оно выделяет. Тик! Длинным невидимым шлейфом – так! – тянется время за нами.
Потому что мы – тоже выделяем время. Тик... И они. Так...
Покачиваясь и бесшумно тикая, оно поднимается в небо. Сквозь вагон метро, в котором едет Алекс, сквозь шумящий над головой бетонно-глиняный купол. Сквозь ветви деревьев, сквозь тела скворцов и крылатые баклажаны самолетов.
В вечернем небе плывут сгустки времени. Разноцветные тикающие нити.
Топ... Топ...
А кто идет по улице (под плывущими в небе нитями, нитями)? Топ?
Алекс идет. Топ.
А что делает Алекс (почему в руке у него темнеют цветы, не цветы)? Топ?
Алекс – идет. Топ.
А куда идет Алекс (отчего у него такое испуганное лицо)? Топ?
Он идет домой. Топ.
А что у него дома (кроме месяца, пойманного в мышеловку окна)? Топ?
Какое вам дело... Топ....
В вечернем небе плывут сгустки времени. Разноцветные нити людей-времяпрядов. Эти нити отрываются от голов и плавают, сплетаясь, чуть повыше облака шашлычного дыма, чуть пониже облака объявлений. На закате, когда отрываются эти нити, людей посещает тоска со вкусом столовой соды. Новые нити только-только выползают из головы, маленькие, слабые.
А что у Алекса в ушах?
В ушах у него наушники.
Алекс, Алекс, дай и нам послушать, просили взгляды прохожих. Остановись, добрый Алекс, отстегни от ушей хоть один наушник, напои жаждущих, угости нотным изюмом. Мы же птицы, Алекс, птицы бескрылой породы. И ты – нашей породы. А птицы должны помогать друг другу: смажь нам больное ушко музыкой, ушко – бо-бо.
Х о р: Ушко – бо-бо!
А л е к с: Прохожие! С чего вы решили, что я слушаю музыку?
Х о р: В лицо твое заглянули. Мы же – взгляды, Алекс, мы – сад налитых любопытством глазных яблок. Ты сам из нашего сада. А взгляды должны помогать друг другу: плюнь в наше больное ушко мелодией, ушко – вава.
Х о р: Ушко – вава!
А л е к с: Прохожие! С чего вы решили, что я слушаю музыку? Я слушаю запись дождя, запись тишины перед телефонным звонком; потрескивание холодильника, в котором мерзнет красное вино.
Тишина в наушниках оборвалась; зашумел оркестр.
Ну вот, думал Алекс, глядя на людей с вечерними сумками, они оказались правы. Из сумок выглядывали телескопики колбасы: люди торопились скорее наблюдать звездное небо в сияющих жиринках.
Но музыка, которая булькала в наушниках, была странной; хотя Алекс почему-то был уверен, что это она – старинная.
Музыканты в камзолах и париках топили инструменты в озере. Шумно тонул контрабас, пуская торжественные бетховенские пузыри. Долго не могли потонуть скрипки: пришлось швырять в них клавирами. Духовые, напротив, тонули быстро; хотя некоторые ненадолго всплывали, чтобы выкрикнуть из мокрого горла еще несколько нот. Музыка над тонущими инструментами стояла такая, что нельзя было разобрать, красивая она или экспериментальная.
“Нет, думал Алекс, прохожие до такой музыки еще не доросли. Они еще дети”.
Х о р: Да, мы – дети. Внутри каждого из нас потеет ребенок; этот ребенок дергает за ниточки, и мы поднимаем и опускаем руки. А когда он мочится – мы начинаем говорить правду. Наш внутренний ребенок требует громкой музыки – иначе у нас перестанут расти руки, ногти и зубы. Дети должны помогать друг другу, греметь и грохотать друг для друга: покрась наше больное ушко в цвет Лунной сонаты на полную громкость: ушко – вава...
Встречи
Тут Хор подошел к Алексу и поздоровался. Не весь – только один человек в куртке. Алекс узнал его, это был Славяновед. Но он его не слышал из-за музыки, как раз топили ударные, музыканты выбивались из сил...
Славяновед что-то говорил и запускал ладони в широкие карманы воздуха.
Наконец, Алексу надоело это немое кино, он выковырял наушники из ушей. Жаль, недослушал, чем там закончилось: потопили они там барабан или отпустили концептуально поплавать.
–...так что не знаю, что с Веркой делать, совсем она с этой гадалкой одурела. Все меня к ней тащит.
“Можно было не вытаскивать наушники”, – подумал Алекс.
Несмотря на апрель, от Славяноведа пахло жженными осенними листьями.
– Послушай, Слава... А что ты мне это все рассказываешь? Я, что ли, ее к этой гадалке посылал?
Они проходили мимо бывшего букинистического. Здесь уже что-то строили, стучали железом, сваривали.
– Сам не знаю, Алекс. Совсем о другом тебе хотел сказать, о Лотерее этой... Короче, будь осторожен. Как друг советую.
Чихнул и снова смешался с Хором.
“Сколько можно наживать себе друзей?” – думал Алекс. – Пора заводить врагов”.
Около его подъезда стояла Соат. Подурневшая, с огромным колючим букетом.
Отступать было поздно.
– Ты хочешь закидать меня этими цветами? – спросил Алекс.
– Алекс, – сказала Соат мокрым, растоптанным голосом, – нам надо поговорить... Ты не можешь так со мной поступать, Алекс.
– Мы уже говорили...
Он вошел в подъезд. Было темно; пахло собаками, кошками и людьми.
– Да, я хочу закидать тебя цветами! – кричала вслед Соат. – Я хочу, чтобы ты смотрел на цветы и вспоминал меня... хоть иногда...
– Как может женщина надоесть за какой-то месяц!
Алекс остановился, скривил губы. Повернулся.
Соат стояла в дверях подъезда:
– Я купила твои любимые розы, Алекс. Что мне теперь с ними делать?..
– Что хочешь! Хочешь, подъезд ими подмети...
Снова стал подниматься.
Ших... ших... ших...
– О-о... – выдохнул Алекс и повернулся.
Склонившись, Соат подметала букетом заплеванную плитку. Хрустел целлофан; осыпались красные лепестки.
Алекс прислонился к стене.
Лаяла откуда-то сверху собака, скрипел целлофан, раскаленный шар медленно катался в груди.
Ших... ших... ших...
Как он любил, как он хотел ее. Какими глазами на нее смотрел. Какими ночами о ней думал. Водил утренней бритвой по лицу, думал о ней. Смотрел на простреленные светом деревья, думал о ней. Падал щекой на подушку и думал, думал о ней.
Ших... ших... ших...
– Соат!
Она перестала подметать, подняла голову.
– Соат, вон там не забудь подмести... Да нет, вон там, видишь, кучка собачьего...
Лечение
Вера лежала на жестком коврике; на нее медленно падал потолок.
Если долго смотреть на любой потолок, он начинает падать.
И деревья, если на них, запрокинув голову, долго смотреть, начинают падать. И дома. Всё начинает падать.
Сейчас из Веры вытащили очередной предмет. Им оказался ключ.
Вера узнала его – это был ключ от квартиры Алекса.
– Чувствуете облегчение? – поинтересовалась святая Бибихон.
Рядом на ковриках лежали другие больные. На них потолок, кажется, не падал. Они разговаривали.
– А знаете, – говорил один больной другим больным, – к моей соседке пришли из этой Лотереи и большие деньги с нее взяли.
– Ну, это понятно. Без денег сейчас ничего не происходит, – кивали головами остальные.
– А что ей сказали, для чего берут?
– Кому сказали?
– Ну, этой, вашей...
– Соседке? Сказали: хотите, чтобы пересмотр вашего дела был со справедливостью, давайте поговорим. Вот и поговорили. Последнее им отдала, теперь головой о стенку стучится.
– А кто приходил-то?
– Ну, Справедливость эта приходила. Как положено, в международной форме пришли, удостоверение в лицо сунули.
– Да...
Из соседней комнаты неслась молитва Бибихон. Мерзли ноги. Бесшумно падал потолок.
– А мне говорили, одной пенсионерке они помогли. Вроде она у них выиграла, они ее на машине поздравлять приехали, презент привезли: тортик и колготки.
– Ну, уж могли что-нибудь посолиднее привезти... Чтобы воспоминание на всю жизнь ей было. Инвалидную коляску какую-нибудь...
– Не говорите, международная организация, а какие-то тортики!
– Да нет, тортик они просто подарили, для разминки. Главное, что они ей сразу говорят: а ну-ка, бабуля, кто вас обидел, кто международные законы нарушил? Она, святая душа, им на потолок показывает: сосед, сволочь, затопил, платить не хочет: будешь, говорит, макака старая, жаловаться, еще сильнее затоплю.
– У нас такая же история... И что они?
– Ну, они ей так вежливо по-английски улыбнулись, говорят: все понятно, вы тут, бабуля, пока тортик кушайте, а мы поднимемся, соседу вашему в глаза посмотрим.