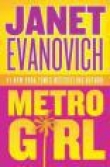Текст книги "Лотерея "Справедливость""
Автор книги: Сухбат Афлатуни
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
– Ребята... Ну... Над чем смеетесь-то?
– Ой, ха-ха... Ольга Вадим-мна, ой... Хи-хи...
– Алекс, выклю... ха-х... выключи эту штуковину...
Снова всех накрывает волной смеха, кто-то стонет. Мама, так и не выяснив, с чего такое веселье, тоже начинает смеяться. На полную мощность. Он слышит ее смех в общем хоре.
Можно ли развестись с родителями?
Он, Алекс, с ними развелся. Мирно. Они оставили ему жилплощадь. Иногда они, то есть мама, высылают ему алименты. Отец стал дачным человеком. Звонит иногда из своих Озерков: Алеш, а у меня тут картошечка уродилась – просто царская, поверишь, царица просто... Просто царица, белая такая, царская... Царица, чувствуешь?..
Алекс после этого разговора два дня картошку видеть не мог.
– Ну... – смеется мама, – рассмешили... пузо заболело! Это чё у вас, водка? А воды нет, смех запить? Не буду я вашу водку, Алешка знает, мой организм ничего, кроме шампанского... Что, и шампанское есть? Ай, черти, уломали старую...
Смех.
А “старой” лет тридцать восемь тогда было. На шесть лет старше нынешнего Алекса. Брр.
Кассета кончилась.
Яростно шумела вода. По вымытой посуде сползали тяжелые теплые капли.
Небо над городом
Человек – существо, выделяющее время.
Поглощает он разные впечатления, объявления, разные предложения сбросить вес, телепередачи с новостями, репортажами с места крушения яйца, анекдотами про тещу, прогнозами о будущем России, которые напоминают анекдоты про тещу, если вместо “тещи” подставить “Россию”; поглощает человек трамвайно-троллейбусные разговоры, конвульсию кипящего чайника, ночные крики пьяных, утренние крики птиц, свои собственные вечерние крики в непринужденной беседе с домочадцами.
Поглощая все это, человек выделяет время.
Длинным невидимым шлейфом оно тянется из его головы. Голубоватым паром.
Покачиваясь и бесшумно тикая, оно поднимается в небо. Сквозь дребезжащие потолки автобусов. Сквозь чердаки, где гнездятся птицы, кошки, подростки, солнце. Сквозь ветви деревьев, сквозь тела пролетающих скворцов.
В вечернем небе над городом плывут сгустки времени. Разноцветные нити людей-времяпрядов. На закате эти нити отрываются от голов и плавают, сплетаясь, чуть повыше облаков шашлычного дыма, чуть пониже облака объявлений. На закате, когда отрываются эти нити, людей наполняет печаль со вкусом столовой соды. Новые нити только-только выползают из их головы, маленькие, слабые.
В вечернем небе над городом плавают прозрачными вермишелинами вроде китайской фунчезы нити времени: тик, тик, тик, перетикиваются друг с другом.
Внизу: Дизельная, Музей искусств, проехала стеклянная клетка автобуса.
Плывет шашлычное облако, из облаков-палочек складываясь в облако-барашка: бе-е, убили меня люди, плясали по мне своими зубами, подпевали губами “мм-м, вкусно”. Вместо заупокойной молитвы читали надо мной из кулинарной книги, вместо савана бросили меня на грязную скатерть, вместо лилий усыпали маринованным луком. Бе-е, бе-е, поет-плывет шашлычное облако. Внизу: Театр Навои, загорелись четыре башенки, осветились четыре колонны, возникли четыре девушки, три ташкентские, одна из Ферганы, стали ждать четырех ухажеров – двое честных, но несостоятельных; один иностранец со странными фантазиями; один вообще не придет.
Плывет облако объявлений, жизнерадостное, получившее конкретный массаж, похудевшее до потери бедер и живота, устроившееся на высокооплачиваемую работу, спасшее человечество от целюлита. Усталое, но довольное, облако завершает трудовой день русско-китайской песенкой с этикетки от носков:
Мода ходячий
Высший брюки Руни
Размер 35—40.
Внизу: синие башни Дархана; ресторанчик с деревом, обмотанным желтой – погасла, желтой – погасла – гирляндой; Акбар и Билл сидят за столиком. Желтые блики вспыхивают на их офисных щеках, зубы пляшут по мясу, но умные губы не подпевают “мм-м”, а ведут деловой разговор. На столе – две кружки пива с паутинкой выдохшейся пены. Мясо по-французски возле Акбара. Судак с прозрачным лепестком лимона возле рыбоглазого Билла. Соль, перец, крошки.
– Так ты думаешь, – говорит Акбар, постукивая пальцем по кружке, – что мы сможем еще что-то получить с этой лотереи сверх контракта?
План букиниста
Выручка за день была такая, что хоть ложись на шоссе с объявлением “Задавите меня!” Марат вздохнул и поскреб бок.
Книги, полуприкрыв коленкоровые веки, сонно смотрели на него.
Маша возилась в подсобке, переобувалась.
Для чего ему эта Маша?
– Маш, – позвал Марат.
– А! – отозвались из подсобки.
– Маш, ты мне для чего нужна?
– Не слышу! Подойди, я тут занята!
– Ладно, потом, – крикнул Марат.
Она там занята, кикимора.
Посмотрел на книги.
Нет, скажите, а куда еще он мог посмотреть? Если все стены и даже часть пола в этих книгах? Куда? На потолок? Сами на этот потолок смотрите.
Ему сорок два года. Зачем, для чего ему уже сорок два года?
Он счастливый человек. Он очень счастливый человек. Поздравьте счастливого человека. Мечта его детства исполнилась. Ура, банзай. Или ты забыл, Марат, как на цыпочках входил в детстве в книжный магазин? На цыпочках, чтобы не обидеть, не вспугнуть спящие бабочки книг?
Ты забыл, Марат, как уходил из дома, где отец пил, а мать его за это ругала, а отец снова пил, и она снова его за это ругала, а он еще больше пил, а она еще больше его за это ругала... Куда ты уходил?
Ты уходил в книжный. Книжный был твоей школой, мечетью, семьей. Книжный. Книги были твоими братьями, твоими животными, твоими друзьями. Книги. Люди, ходившие между книжными стеллажами, были твоими родственниками, продав-
щицы – воображаемыми любовницами. Так?
Да запарили... Запарили! Да, уходил. Любовницы. Мечтал. Листал. Хотел. Но все это было в другом месте и в другое время.
Место было – за Педагогической.
Одноэтажная поросль, домишки, развалюшки. Но центр, самый центр Ташкента. Там даже машины по-другому пахнут.
...А вечером, когда в окнах зажигается свет, кажется, что в каждом доме жарят картошку. И люди на улицах негромко обсуждают рецепты жареной картошки: вы ее как, с чесночком? А вот мы с луком, с луком! А мы – мы сверху сырку натрем, укропчиком порадуем... Когда на уроке биологии он узнал, что у картофеля и бумаги похожие молекулы или что-то там еще, он понял, почему так любил жареную картошку... Это – жареная книга! Оп-па – он, оказывается, ел книгу, пускай разодранную на поджаренные листочки, и она была сладка во рту его и что-то та-та-та-там в чреве его, лень тянуться за Библией, далеко стоит.
Маша наконец переодела туфли, вышла, смотрит. С этой короткой стрижкой стала похожа на Есенина Сергея, отчество забыл, во-он серенький трехтомник стоит. Маша-Маша. Табула раса, чистая доска, кухонная дощечка, чик-чик – лучок. Что тебе скажут, Табула Маша, названия прежних книжных магазинов? “Дружба” – книги соцстран? Маша не помнит “Дружбу”... Она не помнит эти яркие, строгие альбомы, праздничный шелест мелованных страниц. Вот что осталось от той “Дружбы” – “Смерть Марата”. Голый выцветший Марат. А помнит Маша “Книжный пассаж” напротив ГУМа? А книжный на вокзале? А напротив консерватории? Садись, двоечница...
– Мар, долго ты еще будешь тут газету читать? – глядела на него двоечница.
– Какую газету?
А... Да, газету. Забыл про нее. Что он читал?
Эротический аутотренинг под руководством дипломированного йога. 122-00-75.
Избавляем от тараканов навечно. 67-9...
Продается собака терьер, девочка, в хорошем состоянии.
Профессиональная топка котят. Недорого.
Бе! Не то. А, вот.
“Внимание: СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Международная организация по человеческому измерению (МОЧИ) объявляет о проведении широкомасштабной...”
Ага. Вот, что он искал:
“В письме участник розыгрыша должен описать любые имевшие место случаи допущенной в отношении него (нее) несправедливости.
Участники должны также указать способы и методы исправления этих несправедливостей”.
“Запорожец” старательно затарахтел. В машине было неуютно. Ледяная баранка. Кривая трещина-усмешка во все лобовое стекло.
Мотор прогревался, Маша курила.
Кашляла и курила. Зачем курит? Чтобы кашлять. Назло ему, Марату, кашлять: кха-кха. Кха-кха.
Марат подышал на замерзшие пальцы и тоже закурил.
Он устроит им лотерею. Он им такую лотерею устроит... Он их затопит письмами. Весь его проклятый магазин, все униженные и оскорбленные приползут к дверям этой их лотереи, посыпая пеплом голову, плечи, подмышки и промежности. И вдруг – бамс! – какое-нибудь из писем сработает. Что тут начнется...
Машина, раздавив пару заиндевевших луж, выехала на улицу. Марат с ненавистью смотрел на наползающий на него город и улыбался.
– Слышь, Маш... Если эта чокнутая Ольга Тимофеевна опять придет со своими книжками, я ее из магазина выкину. Кому сейчас ее Шолохов-Горький нужен...
– Все у тебя, Мара, чокнутые... Хоть бы про кого человеческое слово сказал.
“Запорожец”, кашляя и моргая слезящимися фарами, проехал Институт повышения врачей и затрусил в сторону Дархана.
Голосовавшей на дороге женщине он, естественно, не остановил.
Ночная серенада для мерзнущей женщины
Вера вдруг поняла, что голосует совершенно не в ту сторону.
Успела уже забыть.
Последние объявления этого дня падали на остывающий город.
Одинокая женщина ищет тепла.
Одинокая женщина с ребенком ищет тепла.
Одинокая интересная женщина, 170 см, шатенка, славянской национальности, ищет тепла.
Одинокая женщина, кулинарка, любит природу, животных, тихие весенние вечера, ищет тепла; понимаете – просто тепла.
Не понимаете...
Было слышно, как оттаявшие за день лужи покрываются стеклянной кожей.
Перешла дорогу. Здесь ее подобрал троллейбус. Холодный дребезжащий троллейбус с дребезжащим, закутанным в платок кондуктором. С дребезжащими пассажирами.
Славяновед умчался смотреть очередную квартиру. На Айбеке. Или на Чиланзаре. Ей какая разница? Хоть на Марсе.
Перед уходом деловито ее поцеловал. И ей стало еще холоднее.
Залезла под душ; обжигающие струи впивались в нее, царапали... Не согревали. Чужим полотенцем вытерла свою какую-то чужую кожу. Что с ней происходит? Она ходила по квартире, терла виски. Иногда начинала сушить волосы, хотя голову не мыла. Ей казалось, что у нее мокрые, холодные, ледяные волосы.
Спальня, коридор, кухня, лоджия, комната, коридор...
Славяновед выбрал ее, Веру, как квартиру. Посмотрел, сощурился, выбрал. Она знала, что у него еще есть где-то две квартиры. Купил за бесценок у уезжавших, сделал евроремонт. Теперь ждет, когда цены еще подрастут... Так же он купил ее, Веру. Оглядел, прикинул что-то про себя. Планировочка ничего, но убитая квартирка, ремонт нужен. То, что с ней сейчас происходит, это, наверное, и есть... ремонт. С перепланировкой.
Вера ходила по квартире, шаркая мужскими тапками.
Коридор, кухня, лоджия, комната, кошка, пнула кошку, заползает на согнутых лапах под диван, глядит оттуда с ненавистью, лоджия, кухня...
Коридоров, Спальман, Лоджиянц...
Так они когда-то с Алексом развлекались – слова в фамилии переделывали. Дурная привычка. Кухня, коридор, стена.
Зазвонил телефон.
– Алло, – сказал наглый женский голос.
Вера бросила трубку.
Да, она ехала к Алексу.
Нет, она не собиралась с ним воссоединяться.
Да, она хотела... хотя бы его взгляда. Или смеха. У него теплый, солнечный смех. Послушаешь – и все прощаешь.
Нет, она не хотела ничего прощать. И слушать его смех не будет. Когда он засмеется, она заткнет уши, закроет глаза, выбежит из комнаты. Пусть сам сидит и смеется. Да, она только зайдет к нему, на минутку, и сразу выйдет. Она же ключ ему везет. Она тогда унесла его ключ. Отдаст этот вонючий ключ ему, проверит, как там Алекс, и уйдет...
Нет, от чая она, конечно, не откажется. И сразу уйдет.
Да, она, конечно...
Нет...
Двери троллейбуса хрипло открылись. Поздний вечер протянул к Вере свои окоченевшие руки. Вера поежилась и сошла с троллейбуса.
Когда этот южный город научился быть таким холодным?
В подземном переходе торговали рыбой, носками, жвачками. Казахской водкой, китайскими презервативами, корейскими салатами из маринованных лунных лучей.
Упершись в холодную деку подбородком, играл скрипач.
Вера шла.
Музыка шла ей навстречу.
Вера мерзла, и музыка тоже старательно дула в свои покрасневшие обветренные ладони. “Вечер добрый, – кивнула ей на ходу Вера. – Я вас, кажется, уже где-то слышала. Я – Вера”. – “Очень приятно, – музыка подает ей руку с оборками, немного мятыми и пыльными. – А я – Ночная серенада. Ты любишь Моцарта, Вера? Извини, что я с тобой сразу на "ты"; я со всеми так”. – “Да нет, ничего...” Вера роется в карманах, находит какие-то деньги. Смущаясь, вкладывает в ее обветренную ладонь: “Вот, извини, Серенадочка...” – “Спасибо, Верочка... Будешь у нас в Зальцбурге, заходи...” – и машет ей вслед пыльными кружевами.
Скрипач тоже посмотрел ей вслед. Вот она исчезает в холодной перспективе подземного перехода. Наплыв подземного ветра несет ей вслед фантики от жвачек, чешуйки проданных рыб, прошлогодние листья, этикетки носков “Мода ходячий”.
Поднявшись на третий этаж, открывает дверь. Ключом, естественно. Можно было позвонить. А зачем?
Заходит. Улыбается. И останавливается.
Дверь в комнату открыта; на диване – Алекс.
В кресле, подобрав под себя ноги, сидит женщина и зачем-то на нее смотрит.
На столике – вино, конфеты, еще какая-то гадость.
Вера делает шаг вперед.
Скопец
“...Узнав об этом, я перевез Элоизу в женский монастырь Аржантейль, недалеко от Парижа, где она в детстве воспитывалась и обучалась. Я велел приготовить для нее подобающие монахиням монашеские одежды (кроме покрывала) и сам облек ее в них. Услышав об этом, ее дядя, родные и близкие еще более вооружились против меня, думая, что я грубо обманул их и посвятил ее в монахини, желая совершенно от нее отделаться. Придя в сильное негодование, они составили против меня заговор и однажды ночью, когда я спокойно спал в отдаленном покое моего жилища, они с помощью моего слуги, подкупленного ими, отомстили мне самым жестоким и позорным способом, вызвавшим всеобщее изумление: они изуродовали те части моего тела, которыми я свершил то, на что они жаловались. Хотя мои палачи тотчас же обратились в бегство, двое из них были схвачены и подвергнуты оскоплению и ослеплению. Одним из этих двух был упомянутый выше мой слуга; он, живя со мной и будучи у меня в услужении, склонился к предательству из-за жадности.
С наступлением утра ко мне сбежался весь город; трудно и даже невозможно выразить, как были все изумлены, как все меня жалели, как удручали меня своими восклицаниями и расстраивали плачем. Особенно терзали своими жалобами и рыданиями клирики и прежде всего мои ученики, так что я более страдал от их сострадания, чем от своей раны, сильнее чувствовал стыд, чем нанесенные удары, и мучился больше от срама, чем от физической боли. Я все думал о том, какой громкой славой я пользовался и как легко слепой случай унизил ее и даже совсем уничтожил; как справедливо покарал меня суд божий в той части моего тела, коей я согрешил; сколь справедливым предательством отплатил мне тот человек, которого раньше я сам предал; как превознесут это явно справедливое возмездие мои противники, какие волнения неутешной горести причинит эта рана моим родным и друзьям; как по всему свету распространится весть о моем величайшем позоре. Куда же мне деться? С каким лицом я покажусь публично? Ведь все будут указывать на меня пальцами и всячески злословить обо мне, для всех я буду чудовищным зрелищем. Немало меня смущало также и то, что, согласно суровой букве закона, евнухи настолько отвержены перед Господом, что людям, оскопленным полностью или частично, воспрещается входить во храм, как зловонным и нечистым, и даже животные такого рода считаются непригодными для жертвоприношения. Книга Левит гласит: "Вы не должны приносить в жертву Господу никакого животного с раздавленными, или отрезанными, или отсеченными, или с отнятыми тестикулами". А во Второзаконии говорится: "Да не войдет в божий храм евнух"”.
Владимир Юльевич уронил книгу на пол.
Скорее даже бросил.
Вот. Хотел немного расслабиться, отдохнуть после всего этого леса формул. Дремучего, холодного леса.
Расслабился...
Нет, он привык к этому. Сжился, стерпелся.
Как с ночным шепотом тараканов.
Как с шелестом отклеивающихся обоев.
Как с лицами врачей. С их улыбками. Он изучил все эти их улыбки. Улыбка любопытства: уголки губ – вниз, брови вверх. Улыбка брезгливости – губы сжаты, но уголки предательски ползут вверх. Улыбка сострадания... этого издевательства вообще не описать.
Пришла бы собака, облизала своим шершавым языком сердце.
Владимир Юльевич поднялся. Болела поясница. К перемене погоды, наверное. Перемены погоды. Единственные перемены, которые он еще чувствовал.
Только бомба.
Бомба будет его подарком человечеству. Бомба, которая никого не убьет. Ничего не разрушит. Не прольет слезы ребенка. Наоборот, утрет всякую слезу и соплю.
Иногда он называл ее Бомбой Любви.
Потирая поясницу, подошел к столу. На чертежах отдыхал таракан.
Надо снова позвонить убийцам тараканов.
На спецобъекте был уже собран генератор. Никто, кроме Владимира Юльевича, не знал, зачем он нужен. Иногда сам Владимир Юльевич, глядя на это сооружение, напоминавшее Вавилонскую башню, начинал сомневаться.
Поднял книгу Абеляра, прихлопнул таракана.
Снова вспомнил о Лотерее. Сел за стол.
Гелевая ручка забегала по формулам, графикам, рожицам на полях.
Внезапно ручка замерла.
Вспотели пальцы.
Кто-то подошел ко входной двери. Тихие подъездные голоса.
Стараясь не шуметь, Владимир Юльевич вышел в коридор.
Заглянул в глазок и похолодел.
Она говорит аллегорически
– Ну, я тоже, наверное, пойду, – улыбнулась Соат, когда дверь за Верой захлопнулась.
Алекс растерянно посмотрел на нее:
– Куда?
– Домой.
– А... – начал Алекс и закашлялся, подавившись слюной.
Соат внимательно смотрела, как он кашляет. Встала с кресла:
– “Зачем пришла”, да?
Алекс, полусогнутый, покрасневший, кивнул.
– Ну, во-первых, потому, что ты меня пригласил, – Соат прошлась по комнате, для чего-то осматривая мебель. – А во-вторых, чтобы ознакомиться с тобой в неофициальной обстановке... Да не удивляйся ты так. Обычная практика нашей фирмы.
– Ну и как, – скривился Алекс, вытирая рот, – ознакомилась?
– Ага. Можно, закурю? Не обижайся. Просто, прежде чем предложить работу, мы внимательно изучаем человека. Ну что ты на меня так смотришь? Да, мы хотим предложить тебе работу. Слышал, что сегодня Билл с Акбаром о Лотерее говорили? На, почитай.
Достала из сумочки сложенный листок бумаги, развернула.
– Что это? – спросил Алекс.
Вера посмотрела на желтое окно Алекса на втором этаже. Зевнула. Нервная зевота. Все хорошо. Просто нервная зевота. Желтое предательское окно.
Да, она сама ушла от него. Ушла. Ты прав. Ушла, но не бросила, слышишь? Это ты меня бросил, каждый день бросал... Смотрел сквозь меня, проходил мимо меня, будто я – как будто я... я...
Сравнения не находилось. Мебель? Половая тряпка? Пустое место?
...как будто я... уже тебе не нужна.
Когда она, уходя, выгребла свои вещи из тесного шкафа и увидела, как в нем стало свободно, ей вдруг стало ясно, как обрадуется Алекс ее уходу. С каким облегчением вздохнет. Наберет полную грудь воздуха и – вы-ы-ыдохнет... Его всегда раздражали ее вещи в шкафу. На них он как раз обращал внимание.
А на нее – нет.
Ненавижу, слышишь?!
Запустить ему сейчас камнем в окно. И гордо убежать. Пусть они там в осколках барахтаются.
Ну и двор... Ни одного камня...
Алекс дочитал: “Ни одного камня...” Какие камни? Мысли путались. Нет, про камни здесь не было. “Внесите свой вклад в торжество СПРАВЕДЛИВОСТИ!” Да, торжество... Она хочет, чтобы он внес вклад в торжество...
– Наша компания выиграла тендер на первичную обработку этих писем, – сказала Соат.
Взяла конфету, раздела ее и положила в рот. Замолчала.
Было слышно, как конфета задыхается у нее во рту.
Встала, снова прошлась по комнате:
– Нам нужен человек, который будет читать все эти письма. Оценивать по специальной шкале. Заносить в базу данных. Работа, конечно, тяжелая... Зато пашешь два месяца, потом два просто в офисе отсиживаешь за те же деньги до официального завершения лотереи. Плохо?
– Да нет, – морщил лоб Алекс.
Как-то все... И эрос весь выдохся, и бабы какие-то непрогнозируемые... Одной вдруг ключ приспичило отдавать!
Другая вместо того, чтобы возбудить, опьянить... принимает его на работу.
– И вообще будешь формально считаться сотрудником МОЧИ. Зарплата, страховка... Ну, ты понял.
– Послушай, Соат... А что за дурь сегодня с этими переговорами была? Мыло и... вообще – всё?
– “Тест на абсурдность”. Не слышал о таком? Его уже западные компании вовсю здесь применяют и еще в каких-то странах. При приеме на работу. Проверить, как человек себя в абсурдной ситуации ведет. Билл этот тест просто обожает.
Алекс молчал, разглядывая бесполезное вино в фужерах.
– Соат... Но ведь я у вас оказался совершенно случайно, просто приятеля подменял.
Соат села рядом с ним – теплая, ироничная, пахнущая конфетами:
– Билл любит говорить, что случайность – это религия дураков.
– Значит, мы тоже не случайно встретились? – Алекс пододвинулся к Соат и положил ладонь на ее шершавое чулочное колено. И подумал: “Она спит с Биллом...”
Конец кассеты
“Нет, в тот вечер между нами ничего не было. Я трогал ее волосы, водил губами по ее гладким щекам. Она разрешала.
С тем же успехом я бы мог целовать холодильник. Ласкать, приоткрывая дверцу, морозильную камеру.
– Неужели ты никогда не любила, Соат? – спросил я ее.
– Я любила одного человека, – ответила Соат, поднимаясь с дивана.
– Я очень любила этого человека, – сказала Соат, допивая остаток вина.
– Я ничего не чувствовала тогда, кроме любви... Ни вкуса еды, ни холода, ни порезов на руках, – говорила Соат, выходя в коридор и проверяя свое лицо в зеркале.
– ...я совершила поклонение одному святому месту, – сказало зеркало лицом Соат, – ...я молилась, чтобы меня избавили от любви... навсегда.
– В глубоком мраке ночи, – пела во дворе замерзающая Вера, – к тебе, любимый, я проникла, а ты не знаешь... Блин, ну где же камень?.. Попрятал он их все, что ли? Так пусть зефир мое дыханье и мой привет ему несет и любви несет стенанья!
Я помогал Соат надеть пальто: красное, пахнущее разочарованием пальто.
– ...и я почувствовала вкус еды, – говорила Соат, – ...я почувствовала холод, заболели порезы на руках, кисло-горьким стало вино во рту, – подчеркнула Соат, погружая руки в полумрак рукавов. Посмотрела на часы. На меня. Снова на часы. – ... и разучилась любить... Завтра приходи в десять, заполнишь анкету. Пока!
Подъезд на секунду обрамил ее серебряной рамой из холода, запаха кошачьей мочи и треска счетчика.
– Сколько можно петь? – спросила Соат, отстраняясь от моего бесполезного поцелуя.
– О, пусть зефир ему несет, – отвечала снизу окоченевшая Вера, – страстный призыв любви моей... Сколько хочу, столько пою, дура, не твое дело... Пусть искупленьем станет он за тяжкий плен и гнет цепей...
Закрыл дверь. Соат, царапина.
Истошно тикали часы. Взял бутылку, выпил из горлышка.
– Надежда пусть проснется, – пела Вера, строя гримасы вслед уходящей Соат, – любви восторг вернется...
Кислый огонь горел во рту. Шумела и жалила неутоленная плоть. Пьяные пальцы нажали на кнопку диктофона:
– Хи! Хи-хи-хи-хи!
– Ха-ха...
В окне через двор двигалось красное пальто Соат. Хи-хи-хи. “Подожди... ты пожалеешь”, – почему-то вертелось в голове. Ха, ха!
Камень долетел до стекла. Тысячи трещин разбежались передо мной. Перелетев через плечо, камень упал рядом с коробкой конфет. Меня, к счастью, не ранило. Хотя потом пришлось долго вычесывать стекляшки из свитера.
...А из тапок у меня сыплется всякая ерунда: бумажки, резиновые ломтики. Представляете? Из тапок.
Еще линька у подушек началась. Весь пол в этих перьях, и на стол забираются. Вчера долго вылавливал перо из супа...”
Кассета пошла по второму кругу.
Забытый диктофон лежит на столе в пустом офисе “Сатурн Консалтинг”, и только соседний компьютер внимательно слушает его. Бывший компьютер Соат. По темному монитору ползут божьи коровки букв: “Алекс, ты – солнышко. Ты – самый классный, Алекс. Ты просто великолепен”.
II
Пир
Двенадцать человек сидели в комнате и ели, иногда вставали и снова садились.
Сложно сказать, что именно эти люди накладывали в тарелки и что они дальше с этим делали. Было темно, и сама еда казалась подкрашенными сгустками этой темноты.
Смеркалось, пора была чем-то восполнять ушедшее солнце. Но свет все-таки не зажигали – люди не могли оторваться от тарелок, бросить недоеденное на произвол судьбы, пойти во мрак искать выключатель.
Чем темнее становилось, тем больше возрастала деятельность едоков, учащалось дыхание. Кто-то пытался говорить, но слова не могли выйти изо рта, набитого сгустками жирной темноты. Человек пытался бороться с едой, проглотить ее и освободившимся языком сказать что-то.
Но еда побеждала. Она уже владела и ртом, и горлом, а главное – руками, которые продолжали что-то накалывать, зачерпывать и направлять в глубокую нору между носом и подбородком.
Двенадцать человек пребывали в состоянии ужина; они были им довольны, но почему-то никак не могли от него избавиться, закончить его или прервать. Те, кто заканчивал, – начинали снова. Они вставали, произносили слово, которому их учили в детстве, и снова садились, не в силах бороться с видом накрытого стола.
Слово, которое они, дожевывая, произносили, напоминало полоскание для рта. Оно означало сытость и всхлип воды. Расслышать его было сложно. Даже соседи по столу его не слышали. Не только из-за темноты, но и из-за той пищи, которая уже сама вползала в них, расталкивая губы, щеки и обессиливший язык. Слова “спасибо”, срывавшегося вялыми пузырьками с двенадцати губ, никто не слышал. Казалось, не только рты, но и уши были залеплены едой.
Трапеза продолжалась. По ту сторону единственного окна, где раньше слоями лежали земля, горизонт и небо, – наступила окончательная, сосущая темнота. Она смешивалась с пищеварительной темнотой комнаты и обессиленная, сытая, валилась на паркет. “Спасибо”, – шептали над ней пульсирующие рты.
Росли и удлинялись куда-то вниз, в темноту животы. Стреляли пуговицы; разевали свои золотозубые пасти молнии на брюках. Трапеза продолжалась, подали сладкое. Торты и пироги айсбергами надвигались на едоков.
На самом большом, хищном торте было написано: “Справедливость”.
Алекс открыл глаза.
Свет скользкой лапшой хлынул в него.
Когда он успел задремать? Не высыпается. Письма съедают его сон.
Он сидел на диване. Ужин тяжелым шаром катился к своему завершению. За столом сидели Билл, Акбар, Соат, Митра. Еще – пара сотрудников посольства государства с неприличным названием; пришли на ужин со своим глобусом, долго объясняли, где находится их родина. Рядом с ними сидели представители какого-то министерства и с государственным видом накладывали себе жаркое.
Слева помещался совершенно опьяневший от еды гренландский профессор. Всю жизнь профессор занимался изучением справедливости, писал о ней холодные и массивные, как гренландские льдины, книги. За эти заслуги МОЧИ эвакуировала его из родной Гренландии и теперь возила по миру как своего эксперта. Профессор долго не мог понять, в чем заключается его миссия, но постепенно выработал безотказную тактику: он внимательно выслушивал собеседника, а потом проникновенно смотрел ему в глаза: “Да... Это хорошо. Но как у вас тут со справедливостью?”
Сейчас он даже это сказать был не в силах. На пустой стул рядом с ним приземлился Митра, которому забыли напомнить о приеме таблеток. Митра стал осторожно рвать на себе пиджак и жаловаться на непонимание. Профессор сочувственно икал.
Были еще какие-то люди: представители то ли свободной прессы, то ли гражданского общества, то ли еще каких-то воображаемых миров.
Алекс посмотрел на Соат. Обычная офисная улыбка.
Соат, Соат.
Алекс поднялся с дивана. Банкетный стол качнулся в его глазах... И удержал равновесие. Жующие челюсти остановились и внимательно посмотрели на Алекса. “Да... я, кажется, немного перебрал”, – думал он, пошатываясь.
Подошел к столу.
“Это в конце концов мое личное дело, – продолжал думать Алекс. – Хочу – шатаюсь, хочу – по стойке "смирно" встану”.
И попытался встать по стойке “смирно”.
– Алекс, шли бы вы домой, – сказал, наблюдая за его попытками, Акбар.
– Отдыхать тоже надо, – добавил Билл.
– Да... – сказал Алекс, все еще пытаясь встать по стойке “смирно”, – я хотел пару писем прочитать...
– Отдыхать тоже надо, – повторил Билл и булькнул глазами-рыбами. – Батыр вас отвезет.
“Соат... что ты со мной делаешь, Соат...”
Письмо № 372
Глубокоуважаемые!!!
Прошу Вас оказать честь международному приоритету и тем проявить помощь справедливости и внести вклад, как вы сами сказали, если не пошутили и т. д.
Чрезвычайно трибунальное обращение!
Исчерпавшись в правовой защите, я выполнил все необходимые условия для законодательного осуществления своего образа жизни. В зависимости от разбоя и пытки я передавал уместные сообщения.
Могу подчеркнуть – постоянные столкновения в подставных ситуациях /вспышечные/ с лицами, идущими вопреки служебной обязанности с пытками, означают – гнать личность от общества для получения прибыли и присвоения и т. д.
В том числе деятельность Патентного ведомства и пытки со стороны средств массовой информации и опустошенное политическое поведение. По требованию своих прав – уже распространяются сплетни.
При этом должностные стихийные идеалы идут напролом, создавая искусственных барьеров, и идут на разбой с подстрекательством. И деятельность прикрывают несозрелостью, терроризмом под эгидой “ЮНЕСКО” и красивыми фразами. А недавно свою неосознанность законов объективного мира руководители и члены партий демонстрировали по телевидению повелительно (иногда обычными) чтениями своих взглядов.
Намного легче обходить истину и выразить фантазию с красивыми идеями, чем выразить свою растерзанную душу сомнениями, предрассудками, оскорблениями и издевательствами в течение 18 лет. При этом к вашему сведению в посольстве государств дезориентация и дезорганизация, стихия и самотек, языковое презрение и т.д. И, в свою очередь, отсутствие судебного определения для полной реабилитации.
По подсчету нанесенных убытков по обычным ставкам к 1992 г. составила вокруг да около 6 млн долларов США /подсчет приложен к делу/. В этом подсчете только учтены те высокохудожественные произведения искусств, входящие в произведение искусств “Созерцание видов цветного слуха” в виде автореферата. При этом без учета расходов на поиск, поездку /на которую продавал свои теплые вещи/, дискриминации, растерзания души, моральные и духовные угнетения, что меня, воспользовавшись в качестве заложника, исключают из моих возможностей. При том опустошенно выгоняя меня и назло осуществляя безответственное ведение всякого вопроса отрицанием закономерного развития действительности и т.д. К 1992 г. мне еще было лет 35—36.