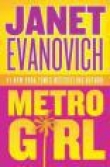Текст книги "Лотерея "Справедливость""
Автор книги: Сухбат Афлатуни
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Школа, которую он любил. Снова – мокрый дом на улице Достоевского. Архитектурные облака; в Ташкенте таких не бывает – небо здесь беднее.
Первая влюбленность; он проводит ее до красного дома на улице Марата. Плесневеющие амуры глядят на них. Он – белый толстый подросток. Он слышит, как первые волосы растут на его подбородке. Она – худенькая восточная девочка; она хочет, чтобы он ее обнял, но боится, что у них от этого будут дети; как быть?
Вот если бы снова началась война, она бы его обняла. Тогда уже все равно.
Керосиновые стрекозы самолетов проносятся над городом. Война снова отложена, вместо нее продолжается детство. Но уже не по-детски высыхает язык, сердце проваливается в живот. Ему кажется, что очень хочет по-маленькому. Ну просто очень, невозможно рассказать как. Быстро попрощавшись, бежит домой. Мимо пролетают каменные сады, катятся гипсовые яблоки.
Дома, дрожа в уборной, он с удивлением открыл, что тревога была ложной.
Он не хотел по-маленькому. Он хотел любить и быть любимым.
За дверью скрипела и дышала коммунальная квартира. А он – он втюрился.
И проснулся.
Тестообразную тьму прорезал голос муэдзина. Зашелестели простыни, застучали по полу сонные пятки, захрустели сгибаемые молитвой позвоночники.
Он удивился, что смог вообще уснуть. Наверное, потому что они не приходили этой ночью. Он пытался понять, кто подсылает к нему этих ребят.
В ту первую ночь почти месяц назад они пришли попросить милостыню.
Голоса у них были хриплые, как будто в колыбели им давали вместо соски дымящуюся сигарету. Если у них вообще были колыбели.
А лица... Лиц не было. Были рты, уши, глаза, сопли. Все это никак не хотело складываться в лицо. Он испугался их тот первый раз. Потом, когда они стали часто приходить к нему по ночам, страх прошел. Остался обыденный ужас.
Ничто так не сводит с ума, как дети.
Кто к нему их подсылал? Иногда они убегали, как только он открывал дверь.
Он как-то поймал одного. Мальчик дрожал и дергался. “Кто вас ко мне посылает?” Хриплый голос мальчика ответил: “Улугбек знает, я не знаю. Он знает”. – “Где этот Улугбек?” – “Сегодня нет. Завтра придет. На следующей неделе”. – “Не обманывай”. – “Отец, отпустите! Улугбек придет – его поймайте. Он большой. Пожалуйста, отец! И на хлеб дайте”.
При слове “отец” ладонь ученого разжалась.
Улугбек долго не приходил. “Ты – Улугбек?” – спросил он какого-то нового паренька. “Я – Вася”, – возразил паренек. “Это правда, – сказали остальные попрошайки, – он русский”. – “Кто тебя прислал?” – “Это же Вася, – сказали
дети, – что вы его спрашиваете. Он вообще не наш. Просто есть хочет. Его маму на хорошие мусорки не пускают”. И засмеялись.
Он даже привык к этим детям.
После их приходов, он заметил, даже лучше работалось над бомбой.
Днем работать он почти не мог. Днем надо было запутывать слежку.
Днем много времени съедала Лотерея.
Он долго собирал информацию. Его догадки подтверждались. Потом он смог убедить начальство, что Лотерея имеет какое-то отношение к исследованиям его отдела. Начальство зевнуло и поверило. Сонная подпись легла на бланк, завтра он отнесет его сам в “Сатурн Консалтинг”. Нет, не нужно через курьера, он сам это письмо отвезет, ему по дороге.
– Владимир-ака, – остановил его уже около двери голос начальника.
– Да?
– Вы... вы себя нормально чувствуете? Дома все в порядке?
Еще один забытый
Утро. Побежали вокруг домов мужчины в обвисших трениках, заплакали петухи, зашуршали отдохнувшими голосами объявления:
Конкретные консультации для участия в Лотерее “Справедливость”!
Хотите выиграть в Лотерее “Справедливость”? Звоните нам.
Помощь в участии в Лотерее + нежный массаж.
Район бывшей Горького зашумел ртами, замелькал руками, зашелестел
стоптанными китайскими подошвами.
Мученики капитализма ныряли в мраморную прорубь метрополитена – раздавать новую порцию приглашений на работу.
Вдоль гладких стен подземного перехода выстроились торговки нарциссами, средством от прыщей и тараканов и казахско-узбекской водкой “Русский стандарт”. Чуть позже подходили старушки, предлагая прохожим котят и лимоны.
Создатель бомбы шел мимо нищих, пытаясь отгадать матерей своих ночных гномов. Покалывало сердце.
Зашел в букинистический: нет ли чего нового?
Напротив Марата сидела плачущая женщина лет шестидесяти.
Плакала она тихо, но настойчиво и была той самой Ольгой Тимофеевной, которую Марат обещал Маше выбросить из магазина.
К груди Ольга Тимофеевна прижимала несколько коричневых томов Горького, красный трехтомник Николая Островского и “Письма” Тютчева.
– Кровь вы всю из меня выпили, – говорила Ольга Тимофеевна.
– Я из вас ничего не пил, – огрызался Марат.
Ольга Тимофеевна погладила Горького, Островского и Тютчева:
– Всю жизнь кусок недоедала, все на книги... Жизнь свою на эти подписные издания положила. На переклички утром ходила, каждую книжечку как ребеночка гладила, баюкала. Читать даже боялась: может, думаю, страницу погну или борщом залью. Подарков сколько этим книжным продавцам носила, колготок импортных...
Вспомнив колготки, Ольга Тимофеевна снова заплакала:
– Где теперь справедливости искать?
– Где хотите, там и ищите... Только не в букинистическом, хорошо? Я вам уже говорил, какие книги нас интересуют.
– Тютчеву хотя бы уважение окажите...
– У меня уже вон, видите, три Тютчева стоят...
– А такой не стоит! Придут покупатели, спросят: “А письма Тютчева есть?” И как вы им в глаза посмотрите? Вы сами-то эти письма прекрасные читали? Ну вот видите... Вот!
Ольга Тимофеевна торжественно открыла книгу и стала читать:
– “Милая моя кисанька, третьего дня получил твое письмо из Ревеля, весьма меня порадовавшее; но этого мне мало... Мне хочется также узнать о первых простодушно-искренних впечатлениях твоих от этого приятного местечка”.
Ольга Тимофеевна читала с выражением; Марат зеленел.
– Не возьмете? – спросила она и высморкалась.
– Хорошо... – сдался букинист. – Оставьте Тютчева.
– А Горького? Нобелевскую премию за роман “Мать” получил!
– Нет, только Тютчева... И идите.
– Ну и пойду, – поднялась Ольга Тимофеевна. – И Тютчева вам не оставлю. Тютчева захотели! Читайте свою “Анжелику” и современную матерную литературу... Напишу на вас всех в Лотерею... И вообще, горите вы синим пламенем! Всего хорошего.
Хлопнула дверью.
Марат посмотрел на Создателя бомбы.
Помолчали.
– Как ваши дела? – спросил Марат и потер затылок, пытаясь отогнать зашевелившуюся головную боль.
В последний месяц Создатель бомбы часто заходил к Марату, что-то покупал. “Штук десять таких надежных покупателей, – думал Марат, – и торговля бы наладилась”.
– Нормально дела, – сказал Создатель бомбы, ползая пальцами по книгам. – А ваши?
– Сами видели. И так торговли нет... Берете?
Расплатившись, Создатель бомбы спросил как бы между делом об Алексе.
– Переводчик? – переспросил Марат. – Да, раньше часто заходил. Живет, кстати, недалеко. Родители в Россию укатили, а он здесь сидит, непонятно зачем. Ладно, вот эти бабульки забытые, еще понятно... Но вот на него смотрю или, извините, на вас и думаю: ёксель-моксель, что вы тут сидите?
– Но вы же тоже тут сидите.
– Да. И я тут сижу...
Письмо № 441
В ООН, Правительство и Международную Справедливость.
Я простой гражданин, рабочий, данное время водитель, переписываюсь с Правительством (уже) с 1991 г. по сей день. Были всякие письма в его и его окружающим помощникам, они у меня все с ответами сохранены, и, как вы видите, я сел и невредим и продолжаю работать.
Я, как простой гражданин Узбекистана, чувствую себя нормально. Я, считая себя независимым, говорю и пишу не по подсказкам, а по зову. Во вчерашнем интервью наше Правительство и вам дало такую возможность, если вы будете говорить правду и брать такие интервью, что после ваших действий будет всем хорошо, то все вас будут уважать.
И в данное время я по командировке в Ташкенте, также я ни с кем не советовался и меня никто не просил, я по зову сердца могу представить мною сделанную работу с 1991 г., как независимого и желающего мира аккредитованным дипломатам ООН и др. Пожалуйста, ознакомьтесь и сделайте себе выводы, мне есть о чем хвалиться.
Приезжайте в наш город, у нас работают очень много спортивных секций – по плаванию, боксы, теннис. Есть чем заниматься нашим детям и взрослым, у нас есть стадион “Металлург” вдоль канала. Еду каждое утро на работу мимо стадиона – с 5.00 утра столько много народу всех возрастов, занимаются.
В том числе и мои дети занимаются каждый по-своему.
У нас очень совершенный теннисный корт, тут же часто выступают заслуженные артисты Республики.
Обновляют колледжи, отремонтировали многие школы, как говорил наш ген. Директор, будем поэтапно продолжать, что и делают.
В основном эти новые парты, школьные принадлежности привозит наш водитель Николай на своем супер МАЗе-длинномере, он говорит, уже устал их возить, когда это все кончится, но одновременно и радуется и, говорит, мне приятно, что я принимаю участие в этих добрых делах.
Но вы, дипломаты, аккредитованные в штаб-квартирах ООН, считаете, что все довольны этим?
Нет, не все. Есть недовольные. Но это не от бедности и Правительства, а виновны они сами.
Я приведу такой пример, и он был совершен в нашем городе, но я не интересовался глубоко. Мне достаточно было послушать от людей, и я был потрясен.
Человек приходит к остановке, где стоят частные такси, и просит водителя отвезти по назначению. Проехав километр, внезапно отбирает машину, высаживает водителя и уезжает к своим друзьям. Хи-хи-ха-ха, они садятся и едут кататься, они не знают, что она – чужая машина.
И вдруг на них нападают 6—7 ребят, друзья хозяина машины, вытаскивают по одному из машины и что там происходит? Вы уже догадались – госпитализация и вмешательство органов.
До этого события эти семьи жили, я бы сказал, нормально.
Но из-за необдуманного поступка этих молодых ребят, я бы сказал, победнели 10 и более семей. И мы в большинстве случаев скрываем правду, вводим себя и других в заблуждение и т.д.
А вы, уважаемые журналисты из США, из европейских стран, из России, можете сделать поспешные выводы, подтвердив свою интервью из многих пострадавших, а их много, там нет победителя, каждый, наделав делов, будет защищать самого себя, забыв о своих друзей.
А вы поспешными фактами, сообщениями можете разозлить политиков своих стран против политиков тех стран, где вы аккредитованы.
Я не хочу сказать, что наше Правительство не ошибается, но эти ошибки можно решать мирным путем.
Например, я на днях хочу встретиться с ген. Директором нашего комбината, на мой взгляд, он подписал очень суровый приказ по комбинату. Если работник потерял пропуск, он должен заплатить 78 000 сум.
Я получаю в месяц 100 000 сум, если потерял пропуск, значит, я лишаюсь месячной зарплаты, это не реально и очень сурово!
Встреча
Ныло сердце...
Создатель бомбы доехал на троллейбусе до Дархана. Вышел.
Троллейбус плюнул кусочком молнии, и уехал.
Владимир Юльевич подходил к розовому особняку; покачивалось во внутренностях портфеля письмо на бланке.
Перед особняком темнела очередь.
Две женщины в одинаковых плащах, но с разными лицами.
Какой-то парень с коляской, в которой желтели пирожки.
Горбатый старик в изумрудном чапане и с сутулым внуком.
Беременная женщина, о которой вообще ничего нельзя было сказать, кроме того, что она беременна. Еще два-три сумрачных лица.
Владимиру Юльевичу очередь не обрадовалась.
– Вы за кем записывались? – спросила его одна из женщин в плаще.
– Я с письмом... – начал Создатель бомбы.
– Мы здесь все с письмом. Вон старый человек стоит, он тоже с письмом и не лезет, хотя, может, на войне воевал.
Старик в изумрудном чапане вытащил смятый конверт и вручил его Создателю бомбы. Создатель повертел конверт в руках. Старик улыбался прозрачной беззубой улыбкой.
– Да вы не бойтесь, возьмите письмо, у него их много, – сказала другая женщина в плаще. – Он вас за министра принял. Он думает, в Ташкенте все мужчины при галстуке – министры. Сына у него посадили, наркотики подбросили, говорит... А вы в очередь все-таки запишитесь.
Парень принялся качать коляску с пирожками:
– А пирожки! Кому пирожки? Пирожки есть!
– Понимаете, – сказал Создатель бомбы, – я от организации.
– А вы думаете, я от имени частной лавочки стою? – поинтересовалась одна из плащевых женщин. – Я тоже от организации. Два месяца зарплату не платят, вот сейчас бы пирожок съела, а не на что.
– Сестра, пирожки в кредит даю, – подрулил к ней коляску парень.
– Отойдите вы с пирожками, у меня токсикоз, – подала голос беременная женщина.
– Вы не понимаете, – говорил Создатель бомбы. – Я пришел с официальным письмом.
– А меня через розетку облучают, – сказал еще чей-то голос. – Соседи.
– Я пришел не с жалобой, – объяснял Создатель бомбы.
Вокруг него крутилась коляска с пирожками. Болело сердце.
– Я вообще-то раньше работала киллером, – говорила беременная женщина. – По амнистии получила условно, а теперь мне угрожают. Скажите, вы ваши пирожки из кого делаете?
– Барана туда кладу, – отвечал парень с коляской.
Дверь офиса открылась, появился квадратный охранник, почесал шею. Очередь стихла.
– Послушайте, – сказал охранник. – Послушайте, вам было сказано: письма присылайте по почте. Почта хорошо работает, все письма доходят. Зачем вы здесь время свое тратите и нам мешаете?
– А у меня письмо с вещественными доказательствами, на почте не берут, вытащите, говорят, это дерьмо из конверта, – сказала одна из плащевых женщин. – И вообще, желательно на прием попасть.
Охранник покачал головой:
– Послушайте, у нас просто принимают письма, мы никого не принимаем. Если хотите, давайте ваши письма и уходите.
– Никуда мы не уйдем, – сказали женщины. – Вон какое большое здание себе оторвали, неужели один кабинетик для приема нельзя выделить?
Создатель бомбы протиснулся к охраннику, показал служебное удостоверение и объяснил насчет письма.
– Заходите, он по коридору слева сидит, – сказал охранник.
– Мужчина, вы им скажите, что здесь беременные женщины имеются, – кричала вслед очередь. – И один ветеран войны... Пирожки, пирожки есть... И человека облучают, я уже устала розетки пластырем заклеивать, устала я...
Дверь закрылась.
– И так каждый день, – говорил охранник, причесываясь. – А надбавку мне за это никакую не платят.
Создатель бомбы пошел искать Алекса. Под ногами упруго дышал ковролан.
Сердце ныло все сильней – наверное, погода. Тук-тук... Погода...
– Да-да, – ответили из-за двери баритоном.
Откашлявшись, он вошел.
В офисе сидела смуглая девушка со злыми красивыми глазами и молодой человек. Хотя ученый видел его не первый раз и вообще много о нем уже знал, он спросил:
– Вы Алекс?
– Да, – ответил Алекс, отрываясь от стопки писем и поднимая сонное лицо. – Вы ко мне?
Недописанное письмо № 54
Уважаемая Лотерея!
Бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель. Но нищета – порок. За нищету даже не палкой выгоняют, а метлой выметают; и справедливо, потому что в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда водка! Когда господин Лебезятдинов месяц назад супругу мою собственноручно избил, а я лежал пьяненький, разве я не страдал?
Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ведь бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь пойти!..”
Марат отложил письмо и захлопнул Достоевского.
От книги пахло одеколоном, на душе кошки скребли.
Писание писем в Лотерею больше не прикалывало. Хватит, целый месяц забавлялся. Нет, невозможный запах. Невозможный.
Марат сидел за прилавком; над головой умирал пыльный тезка. Глазки закрыл, улыбочка. Симпатичный умирающий мужичок.
Марат запихнул Достоевского обратно на полку. Запах одеколона остался. Его уже никуда не запихнешь.
Запах книги – это лицо читателя. Книга должна пахнуть лицом: немного кожей, немного ушной серой, немного слезой, немного ртом, слюной и съеденным обедом, немного сигаретами.
Буквы со временем стираются. Чем старее книги, тем меньше в них букв, тем больше в них запахов. Сколько запахов спрессовано между страницами...
В детстве он разглаживал фольгу, прятал в книги. Недавно, когда переделывал в жалобу монолог Дяди Вани, из книги вылетела такая же фольга и радостно закружилась по магазину.
Он уже написал писем двадцать в эту Лотерею.
Стало казаться, что все книжки, вся мировая литература – есть непрерывная Жалобная книга. Со всех книжных полок Марату слышались вздохи, всхлипы и сморкания.
Он веселился. Переписал почти всего Ваньку Жукова. Изложил своими словами “Короля Лира”, переделав короля в “почтенного бизнесмена Илиёра”. Написал жалобу от имени мадам Грицацуевой, использовав куски из “Плача Ярославны”. Прочитал и рассмеялся – так классно получилось. Потрудился над Зощенко, Диккенсом, Уайльдом, Кафкой, Фадеевым, Солженицыным...
И устал.
Это была странная усталость. Двадцать писем, написанные специально разными почерками. Одно, “женское”, даже дал переписать Маше. Двадцать писем ушли от него, уплыли как бутылки от терпящего кораблекрушение.
Марат сидел среди обворованных книг и ждал.
Вокруг, то заваривая чай, то выливая заварку, ходила Маша. Своей женской кожей она чувствовала, что что-то происходит. Она подходила сзади к Марату и начинала гладить его плечи.
– Уйди, – говорил Марат.
Маша уходила и продавала свои серьги, и они две недели проживали эти серьги, превратившиеся в колбасу и вино. Пила в основном Маша; у Марата был больной желудок и запах изо рта, к которому Маша так привыкла, что он даже казался ей мужественным.
От красного вина Маша быстро пьянела и шла, пошатываясь, мыть посуду.
А Марат сидел в маленьких белых трусах и рассматривал свои голые ноги, которые казались ему ногами неудачника. Хотя чем отличаются ноги неудачника от нормальных ног, он не знал. Потом заходила Маша, и ее ноги ему казались тоже ногами неудачницы, и он целовал их, а на душе кошки скребли.
Он не знал, чего он ждет.
Ему возвратят эти письма, пожурив на каком-нибудь международном бланке за хулиганство?
Его письма займут в Лотерее какое-то там место? Хорошо, займут. Что дальше, милорды? Что дальше? Какое торжество справедливости? Вернут Лиру-Илиёру утраченную фирму, накажут оборзевших дочерей? Приведут в чувства травками и йогой Настасью Филипповну? Убедят Пилата с Каифой отпустить бедного Га-Ноцри и ввести мораторий на смертную казнь?
Маша подходила сзади к Марату и начинала гладить его плечи. Гладить его оттопыренные уши. Ей казалось, у него болит голова. Марат смотрел на книжные полки, ему хотелось ударить Машу и убежать. И Маша чувствовала кожей, что он хочет ударить ее и убежать, и уходила горевать в подсобку. “Ничего, – внушала она себе, пуская из ноздрей дым. – У меня еще красивая грудь. У меня еще очень красивая грудь...” Это была правда. В эту грудь хотелось спрятать исхлестанное ветрами лицо и прорыдать о своих мужских обидах. Пыльными ночами Марат это и делал – прятал и рыдал. И позволял Маше гладить его набитую книжным мусором голову, ласкать его оттопыренные уши и хотеть от него ребенка, желательно девочку.
Дела с торговлей шли все хуже – книги не хотели продаваться. Именно – не хотели. Покупатели брали их, вертели в руках и возвращали на место. Обворованные книги мстили Марату. Они царапали пальцы покупателей, наливались свинцовой тяжестью, начинали пахнуть мочой и одеколоном. Теперь Марату это было ясно. Заговор книг. Месть.
Но разве сами его письма в Лотерею не были местью книгам? С чего его вдруг так задело это объявление в газете? Он хотел поиздеваться над международными придурками. Прилетели на своей скатерти-самобранке учить всех разуму. А почитайте-ка! А мы вас за нос!
Он проиграл. Он чувствовал, что его письма потонули в океане настоящих писем, настоящих слез, слюны, пота, лимфы и крови.
Какое, собственно, дело ему было до этой Лотереи? Собственно – никакого.
Над кем он тогда издевался?
Книги дышали на него мочой и одеколоном. Приближается оплата аренды, платить нечем. На 8 марта он купил Маше самые дешевые, самые страшненькие цветы; еще торговался. Ольга Тимофеевна и пара-тройка интеллигентных кровососов заглядывают в магазин: Маратик, покупают наши книжечки? Обратно брать отказываются: а пусть еще полежат, Маратик. Пусть полежат... А там, глядишь, и архангел протрубит, и мертвые с Боткинского и Домрабада восстанут и пойдут, ровняя колонны, к Маратику приобретать заплесневелые фолианты...
Марат сжал виски. Выход... Где же из всего этого выход... Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ведь бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь пойти...
Переселение
Алекс бросил желтое колесико лимона и понес дымящуюся чашку в детскую.
На диване с ослабленным галстуком и расстегнутой горловиной лежал Владимир Юльевич.
– Может, все-таки “скорую”? – сказал Алекс, ставя чашку перед диваном.
– Спасибо, Алекс... Мне уже легче.
Вначале, как и предполагалось, Создатель бомбы вручил письмо на бланке Алексу как сотруднику МОЧИ, потом они вышли поговорить, ученый смотрел на Алекса, ныло сердце. Тут в офисе отключили свет, Алекс оказался без дела, потому что письма надо было заносить в базу данных. Нет, ничего от сердечной боли в офисе не оказалось; вам что, нехорошо? Идемте, прогуляемся до ближайшей аптеки, аптек в городе развелось, как собак... Да, действительно... Создатель смотрит на Алекса, сердце болит все сильнее.
По дороге они говорят о Лотерее, потом почему-то начинают говорить о “Парфюмере” Зюскинда… Небо дрожит и меняется над ними, из-за поворота выплывает аптека, а сердце все болит, и горячий снежок валидола кажется бесполезным. Снова в какую-то ледяную прорубь проваливается сердце, небо покрывается черными ветвями, шевелится ветер страха. Алекс протягивает к нему ладони и медленно говорит: вам плохо? вызвать “скорую”?
Мне бы лечь, улыбается ученый восковой улыбкой, мне бы прилечь и все пройдет… Где вы живете, говорит Алекс. Где вы живете? На ТТЗ?
– На ТТЗ. На ТТЗ.
Это далеко, говорит Алекс, ловит такси и везет ученого к себе.
Почему он повез его к себе? Алекс потом будет сам задавать себе этот вопрос.
Да, он уже знал, что ученый живет один, что никто не сможет о нем позаботиться. А Алекс сможет. Откопает нитроглицерин в аптечке. Отрежет маленькое солнце лимона. Зеленоватое закатное солнце в горьком чае.
– Мне действительно стало легче, – ученый приподнялся на локте. – Я, наверно, скоро пойду.
Сквозь приоткрытую дверь на балкон цвела урючина. Можно разглядеть пчел.
– Красивый у вас вид из окна, – смотрел на розовое дерево ученый. – У меня за окном только помойка.
Ему было страшно встать и поехать к этой помойке.
Алекс это почувствовал. Посмотрел на урючину, на бельевую веревку за балконом, на которой болталась забытая футболка, и сказал:
– Оставайтесь у меня. Комната будет вашей. Что? Да, хоть на неделю. Хоть на две. Меня все равно дома не бывает, это сейчас только: в офисе свет отключили…
В тот же вечер Владимир Юльевич перевез в комнату с видом на цветущее дерево часть своих вещей. И чертежи уже почти законченной Бомбы.
Письмо № 81
Уважаемая Справедливость!
Пишу вам от большой безысходности, а по-красивому писать не умею. Если встретите зазубринки, лучше тогда пусть письмо полетит голубем в мусорное ведро, не жалко. Потому что в школе меня за эти зазубринки очень ругали: слово, говорят, матерное на парте грамотно пишешь, а сочинения – так что лучше бы на свет не родился. Я головой-то кивал, а школу заканчивать не стал, идите вы. Они обалдели, а я уже в профтехучилище. Стали там из меня строителя делать, в школу я только раз пришел, отдохнуть. Бывшие мои по классу из окна высунулись, совсем они в этой школе еще детки сопливые, даже плюнуть захотелось, так, блин, жалко их стало. А я уже как взрослый хожу, девушки на меня взасос смотрят. А эти, ну, бывшие, в школе сидят как придурки. Я им в лицо сказал: плюньте на школу, идемте мужскому делу учиться.
Вот. Много я тогда глаз наоткрывал. Пишу это не из гордости, а как вступление, чтобы нарисовать свой портрет как личности. Потому что и в вашей стране, наверно, есть люди, которые себя, как попугаи, в грудь бьют: мы простые люди! Мы простые! А они такие в скобках простые, что, если у вас от получки какая копейка останется, прячьте от них подальше. У меня из-за этих простых людей судьба на мелкие осколочки разлетелась и жизнь стала долиной ужасов.
Началось с того, что я встретил Любку, которая хотя по паспорту Любовь, но вообще чистая Любка, даже неловко Любовью называть. Вот что обидно, была бы какая-нибудь там красавица с медалькой за конкурс Красоты, а то – вы бы видели, страшный сон в юбке. Думаю, когда мы познакомились, она мне зелье в водку накапала, мне потом люди говорили, что такое бывает, значит, у меня такое и было. Потому что я ее очень крепко полюбил и даже, дурак, ей об этом сказал и спросил, что она об этом думает. А она смеется и тащит меня со своей семьей знакомиться. Я покупаю торт, а она, оказывается, сирота, бабка у нее умирающая лежит, и брат Любкин выходит ко мне, здоровается и торт из рук вырывает. Не обращай, говорит, на бабку внимания, все равно скоро умрет, айда чай пить. Такой он шустрый, сразу на “ты”, “братан”, все такое. “Мы простые люди”, “я Любку в твои надежные руки”. Ладно, в руки так в руки, стали жить вместе. Бабка, как обещали, так через пару недель умерла; я и на похороны, и на автобус для нее потратился, ничего не говорю. Живем, в общем, нормально, хотя брат со своей простотой уже надоел, а чтоб его выгнать, не знаешь, с чего начать. Тут бригада моя выезжать стала, то в Казахстан, то Россию,
я – с ними, и денег кучу привожу, а они всё куда-то деваются.
Смотрю, что-то ее брат подозрительно хорошо одеваться стал. А сам не работает. Хотя я хотел его строительством заинтересовать, мужик, думаю, значит, в нем строитель сидеть должен. Он: не, мы простые люди. А я его в угол зажал: что одеваешься тогда и одеколоном пахнешь, раз простой такой? Что, говорю, надушился, как розовый куст, – в морду захотел?
Вообще, обратите внимание, что я это ему сказал спокойным голосом, даже шутливо. Просто смотрю, что деньги исчезают, и надо выяснить куда. Тут Любка начинает делать вид, что за брата заступается, вещи в меня разные кидает, кричит, что я в этот дом копейки еще не принес. Ну, здравствуйте! Может, еще скажет, что и ее бабка сама себя на кладбище отвезла и закопала, а они тут с братом питаются и духами обливаются опять не за мои деньги. Другие, говорю, бабы сожителям пинжак с золотистыми пуговицами с якорьками покупают, а ты от меня вон какие щеки отъела, на лице уже не помещаются, а хотя бы драные носки мне из благодарности купила.
Я опять-таки это говорил не матерно, без драки. А брат ее, забыл он уже, как мне улыбался, шипит на меня и духами своими в лицо воняет. И Любка с ним заодно шипит.
Тогда я, не отрицаю, руки немного расслабил и, может, нарисовал ей и брату на рожах чего-то лишнее. Они видят: им меня не перешипеть – и убежали. На другой день из подъезда выхожу, а мне соседки со скамейки вдруг всю правду раскрыли, да еще с такими подробностями, что сердце как будто бритвой пополам. Оказывается, Любка моя издавна гулящая, а ее в скобках брат – не брат, а ее “сутенер”, а по-народному это называется матерно, поэтому не пишу, как. И вот она в мои поездки с ним голая танцевала, потому что первый этаж, и все видно как в кино.
Зашел я домой, стою, слезы текут. А через час милиция пришла, оказывается, у этого ее в скобках брата инвалидность была, а я, по неосторожному обращению с его головой, ему этой инвалидности прибавил. А у него что, на лбу написано, что он инвалид, здоровый такой, я его даже к строительству подключить хотел, а теперь мне что, за это – срок?!
А Любка, как в тюрьму попал, так вообще из головы не выходит. Может, белая птица ей отнесет рассказ на свободу, о том как я жизни здесь трачу лучшие годы.
Поэтому, если можно, вытащите меня отсюда, а Любку внушением через гипноз отучите позориться, хоть бы занавески задергивала, первый этаж все-таки, а когда к ней вернусь, внушите приласкать, и что никому я ничего не ломал, и суда не было. Вам с современной технологией это ничего не стоит, а я тут без ласки загниваю!!!
На приеме
Знахарка оказалась интеллигентной женщиной средних лет. Свою интеллигентность она скрывала: коверкала русские слова и чесала щеку.
Вера сидела в ее глиняном доме; мерзли руки. В соседней комнате на ковриках лежали другие, уже полеченные, пациенты. В предбаннике жужжала очередь. Было холодно, пахло специями.
Знахарка помяла пальцами воздух рядом с Верой и кивнула:
– Сглаз.
Из соседней комнаты закричали:
– Святая Бибихон, у меня уже сорок минут прошло!
– Вставайте, вставайте, – крикнула им знахарка. – В следующий вторник в это же время...
– А от чего сглаз? – спросила Вера, чувствуя, как ладони превращаются в лед.
– Дьявол к тебе пришел, значит. Женщина у тебя есть, зла тебе желает.
“Свекровь!” – радостно подумала Вера.
– А м-м... – начала Вера.
– Можешь меня “Бибихон” называть. В народе меня “Святая Бибихон” зовут, потому что я с бедных мало денег беру. Только у тебя сглаз маленький, непрофессиональный. Не то, что у твоего мужчины. Он ведь бизнесмен, правда? А дела идут неважно.
Вера мерзла и восхищалась: “Все знает, все”.
– Надо с него сглаз снять, и к тебе любовь усилить, – говорила Бибихон.
– Усильте! – сказала Вера и попыталась представить, как будет выглядеть Славяновед с усиленной любовью. Перестанет исчезать по вечерам? Обновит ей летний гардероб? Начнет бриться той бритвой, которую она ему подарила, и... и разрешит забрать ребенка от свекрови? Ладно, пусть хотя бы гардероб обновит, а то старье сплошное...
Началось лечение.
Бибихон читала какую-то молитву; ее ладони смуглыми птицами носились перед лицом Веры.
Потом что-то вдруг стало мешать, она открыла рот.
Бибихон быстро вытащила оттуда что-то темное и гордо показала Вере.
Это была кость. Кажется, баранья.
Веру замутило.
...Потом она лежала в соседней комнате на коврике, знакомилась с другими больными, беседовавшими на разные политические темы.
– А у одного мужчины Бибихон изо рта котенка вытащила, – говорил кто-то в желтых вязаных носках.
Снежная тьма
Как обычно, в середине цветения урюка пошел снег.
Создатель бомбы открыл глаза и увидел белое дерево. Вместо вчерашних пчел над ним летали снежинки. Покачивалась присыпанная снегом футболка Алекса.
Алекс уже ушел к своим письмам. Ученый увидел его скомканные домашние джинсы и улыбнулся. Теплый призрак семейной жизни. Запретной для него жизни. Как это нереальное дерево, цветущее снегом.