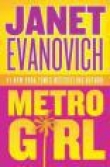Текст книги "Лотерея "Справедливость""
Автор книги: Сухбат Афлатуни
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Варварство правопорядка, стихийные нападения на возможность самопроизвольной речи означают ликвидацию стремления к осуществлению своего образа жизни. Вообще враждебность сторон в данном процессе есть недопустимое явление. А может, кое-кто считает враждебность исходящей из жадности, ехидства и скупости правления относительно личности явлением прагматичным и субъективным. Но зачем тогда приняты законы и устав ООН?
Уважаемые правосудия! Прошу Вас учесть, что по данному делу состоялось более 10 судебных процессов в Узбекистане с 1989 по 1994 г., при этом не учтено “Доказательство” по теории математической логики, так же отвратительно применение законов. И далее дело разбросано по недействительным инстанциям нарочно вопреки законным требованиям убегавшись от рассмотрения.
При этом чрезмерно стремление к высоким чинам. На мои обращения идет вопреки служебным обязанностям выразившись тупость, отвратительность, ехидство, атаки и т.д. Исходя из этого в каждом шагу меня преследуют психические взрывоподобные подставные ситуации, при том опосредованные через средств массовой информации.
Уважаемые ПРАВОСУДИЯ! Я, уверившись вашего интеллекта и юридического состава и учтившись перед вами уложенных заявлений с определенными пунктуальными требованиями, требую немедленного внесения Справедливости – реабилитации и определенного Вознаграждения с тем выдачи документа, удостоверяющего моей личности и копию соглашений для свободного развития. Обеспечить “Торжество истины” и тем освободить от психической нагрузки меня и развязать рук и ног.
Прошу также устранить явления стихийно-спекулятивного и камуфляжного характера и охотников за информацией в мой адрес, потому что это вовсе не жизнь, а доведение до полного истощения и растаптывание все культурные, интеллектуальные и родственные отношения и чувства и т.д.
В городе уже зацвело
Батыр поднял сонную голову с баранки:
– Домой?
– Голова кружится...
Шофер понимающе кивнул.
Всхлипнул разбуженный мотор. Алекс откинулся на заднее сиденье и стал представлять себе горячий душ, в который кинется прямо с порога. Прямо с порога. Смоет с себя весь этот день...
Машина скользила по вечерним улицам. Где-то над головой проносились фонари. Весна.
Несколько цветущих деревьев выбежало на край проезжей части, голосуя худыми ветвями.
Весна, начало которой Алекс прозевал. В которой для Алекса не было места.
Весна прибегала к уверткам.
Его снова замутило. Углекислый воздух машины; мрачный цветущий город.
Батыр включил радио. Женский голос закричал:
– Сейчас мы в белом танце кружимся! Я знаю, мы с тобой подружимся! А ночью мы с тобой останемся! А утром навсегда расстанемся! А, а!
– Вот и умница, – отвечал ей сквозь серые волны тошноты Алекс, – так и надо: кружимся-подружимся, трахнемся-расстанемся. Все за одну ночь, милая. Оперативная вязка. Вальс с пачкой презервативов в кармане...
Почему же у него так все сложно? Почему весна летит куда-то за окном без него и сыплет свои лепестки на голову других, вот этих самых “кружимся-подружимся”? Почему в его постели все еще зима и ничье тепло не растопит колючие сугробы простыней?
Алекс открыл окошко. Вместо весны ворвался мутный асфальтово-бензиновый ветер. Алекс зажмурился.
К счастью, они уже сворачивали к нему в переулок.
Батыр слушал песню и улыбался.
Содрав с себя пропахший куревом костюм, Алекс бросился в ванную. Рубашка, холодная змея галстука... Майка... Вода бросилась на него, горячая, с родным запахом ржавчины и хлорки. Алекс дышал, ловил губами горькие капли.
Отпустило...
И песня, которой он заразился в машине, тоже как-то размякла и сползала с тела липкой, назойливой этикеткой.
Тихо пели водопроводные трубы, гобои, флейты.
“Вихрем закру-ужит белый та-анец... Всех нас подру-ужит белый та-анец”, – напевал Алекс, намыливая живот.
Нет, это уже была другая песня. Совсем другая песня. Почему он ее вспомнил?
Он услышал ее когда-то давно...
На растрескавшейся танцплощадке горного Дома отдыха. Площадка была пустой, только два-три скворца клевали солнечные пятна. Время для танцев еще не настало, оно наступит вечером, вместе с прохладой, кислым запахом кибрайского пива, движениями тел, изголодавшихся по танцам... Пока же Алекс слушал только шумящую из репродуктора песню. Песню о загадочном “белом танце”.
Почему “белом”? Наверное, его танцуют в белой одежде. Услышав объявление “белый танец”, взрослые бегут и переодеваются в кустах во все белое. Белые пиджаки, белые чешки, белые гольфы.
Он отдыхал с родителями. Папочка, еще не впавший в свой огородный маразм. Нормальный папа, ничем не хуже остальных пап великой страны. Смотрит телевизор, приходит с работы, постоянно чинит какой-то утюг. Да, папа, мама и Алекс, тогда еще – бессловесный заложник своего детства. Они отдыхают, взявшись за руки, в Доме отдыха. Из трубы Дома отдыха ползет черный дым. Из земли торчат зеленые палки травинок. Сбоку светит солнце с двумя красными глазками и корявой улыбкой.
Наулыбавшись, солнце прячется; синие каляки покрывают небо. Над Домом отдыха расцветают желтые звезды, летят самолет и ракета. Вот культорганизатор Зураб Константинович объявляет в свой микрофон “Белый танец”, и Алекс начинает мучиться, каким карандашом он это нарисует, потому что белого карандаша у него нет, хотя у Димы, например, есть, но он не даст.
Но никто не бежит переодеваться в белые пиджаки и белые платья...
“Какой послушный ребенок”, – говорит какой-то голос в темноте его маме, а мама кивает и смотрит на танцплощадку. Там под яркими, если послюнявить карандаши, фонариками папу приглашает на танец тетя, про которую мама говорит, что у нее не все дома. Алекс видит, как они танцуют – особенно красиво танцует тетя, у которой не все дома.
...Горячие струи бегут по телу, дрожит осторожная пена на груди.
Да, Алекс был послушный ребенок и позволял взрослым вытворять с собой все что хотят. Громко и бестолково проверять его домашнее задание. Отвозить в почетную ссылку к бабушкам. Отдавать его на плавание, чтобы он захлебнулся и все смеялись.
Наконец, взять и в десять лет сделать ему обрезание.
Да-да, то самое.
Скажите, ну зачем ребенку – обрезание?
Он не понимал. Подумаешь, папа – наполовину таджик. Но ведь папа давно свою таджикскую половину оставил где-то в Джизаке. Только один раз Алекса с собой туда, к этой половине, брал, и Алексу там было страшно. Его целовали какими-то непривычно пахнущими поцелуями; долго, целый день, гладили по голове и щипали за щеку.
Но кроме этой половины, все у отца Алекса было русское, советское: лицо, фамилия, язык, газеты, мама... Наконец, он, Алекс, – он тоже у него, у папы, русский: волосы у Алекса, когда совсем маленький был, совершенно были русскими, сейчас только немножко потемнели.
“Послушай, – говорил отец, – обрезание не только таджики делают... Все делают”. – “А у мамы оно есть?” – интересовался Алекс. Отец хватался за голову. “У меня оно есть, у меня! – кричал отец, – и у дяди Толика...” Дядя Толик, младший брат отца, сидел на диване и улыбался. “Покажете?” – спрашивал Алекс. Папа и дядя Толик смотрели друг на друга. “Покажи ему”,– говорил папа дяде Толику. “Сам показывай”, – смеялся дядя Толик и уходил курить.
Вот, между прочим, кто был похож на таджика, так это дядя Толик. И волосы у него черные и длинные, и вещи носил только фирменные. Джинсы наденет и пританцовывает: “Слезами горькими мать моя зальется – еще не скоро я вернусь домой...”
Обрезание Алексу все-таки сделали. Пообещав за это велосипед.
А что толку? Все равно несколько месяцев Алекс не мог на нем ездить, и велик дали на время кому-то из родственников, которые его захапали и поссорились с отцом, чтобы не возвращать. Короче, ничего Алекс за свою жертву не получил.
Такая вот несправедливость. Хоть письмо в Лотерею пиши.
Алекс скривился. Письма... Письма в Лотерею.
Темная холодная мысль о письмах.
Каждое утро Соат выкладывала перед ним новую стопку и насмешливо спрашивала:
– Кофе?
– Да.
– С коньяком?
– Да!
– Чё такой психованный стал?
Письма
Писали все: женщины и мужчины, матери и отцы, девушки и не девушки, русский и узбек, эллин и иудей, свободный и раб, патриций и плебей, мастер и подмастерье, начальник и дурак... Писали сумасшедшие, прикладывающие справки о своем психическом здоровье; нормальные люди писали, что они на грани безумия...
Писали заключенные и рисовали в письмах розу, кинжал и девушку. Писали пенсионеры, чьи письма можно было опознать по математическим вычислениям, кончавшимся фразой: “сами видите, что на такую пенсию прожить нельзя”. Писали предприниматели и требовали утопить налоговых инспекторов, желательно на главной площади и под веселую музыку. Писали одинокие женщины и то же самое просили сделать с их бывшими мужьями, любовниками и эстрадными кумирами.
Вначале Алекс, несмотря на перенесенное в детстве тяжелое отравление цинизмом, на письма реагировал. Внимательно читал. Возмущался. Посмеивался. Качал головой.
Соат смотрела на него из-за монитора.
– Послушай, – поднимался Алекс. – Старуху свои же дети из квартиры выставили. Сейчас тебе прочту...
– Алекс, – говорила Соат уставшим голосом, – я же не читаю тебе вслух отчет по освоенным средствам. У каждого своя работа.
И раздраженно шлепала пальцами по клавиатуре.
Когда Алекс очередной раз начинал смеяться над каким-нибудь нелепым посланием, Соат закатывала глаза и шла курить.
Один раз Алекс не выдержал и ринулся с одним кровоточащим письмом в кабинет Билла.
И замер в дверях.
– Дорогой Алекс, – смотрел на него Билл, – я догадываюсь, зачем вы пришли. Садитесь. Скажите, вы хорошо помните условия вашего контракта?
Алексу стало зябко.
– Если вас шокирует такая постановка вопроса, – продолжал Билл своим виниловым голосом, – можно сформулировать иначе: как вы думаете, для чего вас взяли на работу? Правильно. Мы взяли вас, чтобы самим не тратить времени и сил на разгребание этих нечистот. Мы специально обговорили с МОЧИ эту позицию и соответствующую зарплату. Очень неплохую зарплату, кстати.
Алекс кивнул:
– Билл, я все понимаю. Но в проектном документе, если не ошибаюсь, есть одна бюджетная строка – “На непосредственное вмешательство”. То есть, если я правильно понял, в тех случаях, когда вопрос жизни и смерти, МОЧИ может вмешаться. Адвоката хотя бы нанять...
Билл слушал не перебивая.
Медленно покачивались под бровями две серые рыбы.
– Я рад, Алекс, что вы так внимательно изучили проектный документ. Но понимаете, Алекс, для того, чтобы понять проектный документ, недостаточно его просто прочесть. Нужно знать, как он составлялся. А составлялся он приблизительно так. МОЧИ получила бабки... ну, например, от другой международной организации, которая сама не успевает их потратить, а потратить нужно, иначе урежут бюджет. МОЧИ как всякая международная контора будет тратить деньги так: разделит на три части. Одну часть положит себе в карман. Вторую положит в карман какой-нибудь другой организации, одной или двум. Для чего? Для того, чтобы, когда у этих организаций тоже появятся деньги под какой-нибудь проект, они не забыли привлечь в качестве партнера МОЧИ, иными словами...
– Вернуть МОЧИ ту самую треть, – сказал Алекс, разглядывая стол.
– Совершенно верно. Хотя не обязательно МОЧИ. Может, просто чиновнику, который работал в МОЧИ, а потом перешел в другую международную организацию... Итак, остается треть тех самых бабок. Как ее потратить, чтобы большая часть все равно вернулась в нужные руки? Правило первое: раздуть географию проекта. Пусть охватывает сразу две-три страны. Лучше – пять. Каждая страна – своя валюта, свои правила игры, свои правила того, как нарушать эти правила... Соображаете, Алекс?
– Соображаю. Контролировать проект становится труднее.
– А пускать дым в глаза соответственно...
– Легче.
– Правило второе: двадцать процентов бюджета должно закладываться на невыполнимые статьи. Для того чтобы это сделать, в качестве эксперта нанимается... ну, скажем, гренландский профессор.
– Почему именно гренландский?
– Ну, не обязательно гренландский. Исландский, мадагаскарский, австралийский. Главное – как можно более далекий от той страны, в которой будет осуществляться проект. Представьте, Алекс. Вот сидит наш мадагаскарский гений, читает первую версию проектного документа. Читает, читает... Тут к нему с Килиманджаро слетает его экспертная муза с кольцом в носу. Профессора осеняет: “Упс! Надо, чтобы, если вдруг потребуется немедленное вмешательство для установления справедливости, заложить на это...” Что вы на меня так смотрите, Алекс? Да, у этого профессора тоже доброе сердце. Он любит людей, природу и чумазых детишек на фотографиях... Он убеждает МОЧИ выделить для этой благородной цели тысяч десять. МОЧИ соглашается...
– Так в чем же проблема? – не выдержал Алекс.
– Все в том же, – усмехнулся Билл; халдейские рыбы его глаз зажглись мокрым огнем. – Все в том же. Кто будет реализовывать эту статью? МОЧИ? Они не аккредитованы в стране, действуют через нас. Мы, “Сатурн Консалтинг”? Ничего подобного нет в нашем уставе, нас тут же лишат регистрации. Кто?
– Но ведь какой-то выход должен быть...
Билл склонил голову набок. Алексу показалось, что от него запахло морской пучиной.
– Алекс... Выход – это не дверь в страшной темной комнате. Выход – это вы сами. Тот, кто ищет его снаружи, а не в себе, всю жизнь остается пленником. Поверьте мне, как бывшему психологу. Вот вы пришли ко мне, письма принесли... Алекс, я хочу напомнить вам одну историю. Один человек, ваш, можно сказать, ровесник, оказался в похожей ситуации. Нет, он не получал никаких писем, не сидел в офисе, он ходил по своей грязной, заплеванной стране... и несправедливость кипела вокруг него, понимаете? Все эти нищие, все эти доведенные до безумия стояли вдоль дороги, как столбы; он видел, как гноятся их язвы, как гноится их сердце. Что делает наш молодой человек, Алекс, а? Записывается на прием к Первосвященнику? Посылает имейл представителю международной организации под названием “Римская империя”? Хорошо, компьютеров тогда не было, но ведь он теоретически мог стать одним из осведомителей римлян и, между делом, сообщать им иногда об этих самых язвах и несправедливостях... Почитайте письма Плиния Младшего, он был наместником в восточных провинциях и очень даже интересовался, не обижен ли простой народ. Надеюсь, вы помните, какой выход в итоге нашел ваш ровесник? Не нужно напоминать, нет?
Алекс помотал головой.
Билл улыбнулся:
– Я, естественно, не приглашаю вас распинаться на площади Мустакиллик. Крест ведь не самое главное, главное – что этот парень нашел выход внутри себя, принял на себя все эти нечистоты. Я ведь вас не случайно о зарплате спросил, она у вас более чем хорошая. Почему бы вам не истратить хоть какую-то часть на это самое “непосредственное вмешательство”? Или пустите эту старуху, которую дети выгнали, хотя бы на неделю к себе пожить... Если эти письма вас так перевернули, а?
Вечером после этого разговора Алекс первый раз напился. Тяжелый темный дождь стоял над Ташкентом. Где-то под дождем, обмотав головы полиэтиленовыми пакетами, брели авторы писем. Останавливались, вытирали мокрым рукавом мокрое лицо. Снова брели куда-то...
...Последние капли слетели с душа. Алекс погрузился в полотенце.
Нет, он уже привык к этим письмам, к этим восклицательным знакам, дрожанию почерка. Загрубел. Оброс корой. Устает только от этого чтения, и пустых бутылок в квартире развелось – нет времени выбросить. Еще бы Соат как-нибудь из себя вырезать... Как опухоль. Чтобы не думать о ней, когда засыпаешь. И когда просыпаешься. И в офисе. И по дороге домой. И сейчас.
Накинув дорогой, недавно купленный халат, Алекс вышел из ванной и замер.
Кто-то звонил к нему в дверь.
Письмо № 68
Пишет Вам старая поклонница Театра. Вы, конечно, удивитесь, причем здесь театр и какая-то поклонница, и захотите объяснений, и я вам их сейчас дам.
Однажды зимой на одной из улиц города, увидев слепого мужчину, который переходил проезжую часть, покрытую льдом, я решила помочь. Когда мы перешли дорогу, он со вздохом поблагодарил меня. С чувством гордости я думала о том, что у этого слепого мужчины был большой шанс упасть, но мне посчастливилось предот-вратить несчастье.
Размышляя еще о чем-то, я повернулась в сторону тротуара, по которому шел мой подопечный. Каково же было мое разочарование, когда я увидела, что он все же упал на гололед, но повреждений никаких не получил.
Этот случай меня наводит на размышления о добре. Часто ли мы делаем добро? Часто ли мы готовы внимательно слушать страстный крик о помощи?
Вы, наверное, думаете, что я сейчас начну расписывать разными красками свои проблемы и намекать, чтобы вы для меня что-то сделали. Но я уже сказала, что я поклонница Театра, и когда хорошо Театру, то и мне неплохо. Я с молодости ходила на все премьеры и актеров (зачеркнуто).
Поэтому присылаю вам вырезку из газеты, посмотрите, может, вы им финансово поможете. Я уже посылала эту вырезку в ООН, от них молчание, ну так и дай бог им здоровья.
А мне ничего уже не надо, ну, разве что продуктами.
"На правах рекламы. СВЕТ ДЛЯ ЗАБЛУДИВШИХСЯ ВО ТЬМЕ.
О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви, что творилось, что творится на твоей земле, как поется в песне одной из известных рок-групп, расскажет зрителю пьеса "Дорога к справедливости".
Пьеса, премьера которой состоится на сцене Государственного Академического Большого театра имени Алишера Навои, должна стать одним из самых ярких событий. Причин тому несколько. Во-первых, "Дорога к справедливости" – это первая, но сразу удачная попытка драматургии популяризировать национальную идею, противостоять современным угрозам стабильности и миру.
Главный герой, молодой человек, освободившийся от оков равнодушия, отправляется на поиски счастья для себя и своего народа. Современные и в то же время вечные пороки человечества – наркомания, религиозный фанатизм, стяжательство, скудость душ – все эти различные ипостаси Зла, воплощенные автором в образе Черной Пери, встают на пути главного героя. Противостоять им помогают ему благородство, любовь, патриотизм, чувство ответственности за судьбу народа и Родины, все, что ассоциируется у нас с Добром, предстает перед зрителем в образе Белой Пери..."
Славяновед – во всем великолепии
На пороге стоял молодой некрасивый мужчина. Кожаная куртка поверх футболки, улыбка.
– Здрасте. Вы Алекс? Я – друг Веры.
– Что-то с Верой?..
– С кем? С Верой? А, ничего. Дома сидит. Спит, наверное. Я войду?
Алекс уже успел протрезветь; спиртная аура вокруг ночного гостя заставила поморщиться:
– Что вам нужно?
– Вы Алекс? – еще раз повторил Славяновед. – Меня Слава зовут.
Ладонь у Славы-Славяноведа была теплая и властная.
Вошел в коридор, профессионально огляделся:
– Двушка? Две комнатки раздельные, кухня шесть метров? Знаем... Нет, я не по поводу квартиры, – спохватился, заметив взгляд Алекса.
– А по поводу чего?
– По поводу?.. – Славяновед глянул на часы. – Ух... поздно я. Одиннадцать. Приношу извинения. У меня к вам дело, Алекс.
Разулся. Носок на две ноги имелся только один.
– Торопился, – объяснил Славяновед.
Ступня у него была маленькая, почти детская.
Зашли в комнату. Славяновед зашнырял глазами по интерьеру. Спохватился:
– А я не с пустыми руками.
Ушел в коридор. Вернулся:
– Ас-сара-дара... чук-кара!
В руках бултыхалось полбутылки коньяка “Узбекистон”.
– Хотел еще затариться, так все магазины – на в-вот такой замок...
Изобразил руками что-то круглое и страшное, похожее на арбуз.
– Знаете что, Слава, – сказал Алекс, – вы, если хотите, пейте, я не буду.
– Не-е! – возмутился Славяновед. – Я же к вам не отдыхать приехал, о деле разговаривать. Что, я буду здесь лыка не вязать, а вы трезвыми глазами надо мной издеваться?
– Может, тогда отложим этот разговор на завтра? – мрачно предложил Алекс.
Славяновед достал из кармана два мятых пластмассовых стаканчика и разлил в них коньяк.
– Алекс, – торжественно сказал Славяновед и поболтал стаканчиком. – Ну, за знакомство? Вот, послушай... Умножися в нашей русской земли иконнаго письма неподобнаго изуграфы. Пишут Спасов образ Еммануила, лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстыя, и весь, яко немчин, брюхат и толст учинен; ишо сабли той при бедре не написано. А Христа на кресте раздутова: толстёхунек, миленький, стоит, и ноги-те у него, что стульцы. Ох-ох, бедная Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступов и обычаев... Ну как?
– Классно, – согласился Алекс и посмотрел на Славяноведа внимательнее.
– Протопоп Аввакум, – объявил Славяновед и отхлебнул из стаканчика. – Видишь, не забыл... Толстёхунек! Диплом по нему писал. Я же филфак заканчивал, помнишь, где мужик серебряный с отбойным молотком стоял? Еще шутили – единственный мужчина на филфаке... Вообще, конечно, не единственный. Нас двое было. Еще я. Не веришь? У девчонок, кто тогда учился, спроси. Да... такие были девчонки... Что коньяк не пьешь?
– Я выпью, – Алекс все еще смотрел на него. – А ты говори, с каким делом пришел.
И сделал глоток. Ночное коньячное солнце обожгло горло.
Филфак, серебряный мужик. Маленький Славяновед, переползающий в одном носке от девушки к девушке. Протопоп Аввакум, поучающий из лепестков пламени. Вера. Верка. Безумная Верка со своим камнем. Вбежала к нему тогда, после звона стекол, плакала, прощения просила, стекла собирала. Когда он ее обнял, испугалась чего-то. Деловито отстранилась: не надо. Бросилась из комнаты. Что-то крикнула ему из коридора. Ушла. Наверное, надо было ее догнать. Ну, догнал бы. А что дальше?
Недописанное письмо № 3
Вера не спала.
Спала – кошка. Спала квартира, спал телевизор; спал, слюноточа во сне, кухонный кран. Спал телефон, точнее – засыпал.
На определителе еще горели красные цифры свекрови.
Разговор был короткий – несколько выстрелов на поражение. Свекровь звонила сообщить, что заболел ребенок. Чем? А какая тебе разница, сказала свекровь. Помолчали. В трубке у свекрови почему-то играла музыка. Горло у него болит и температура, сказала свекровь. Я приеду, сказала Вера. Зачем, спросила свекровь. Снова помолчали. Снова музыка. Может, надо чего привезти, сказала Вера. Чего, сказала свекровь. Лимоны, сказала Вера. Помолчали, послушали музыку. Денег лучше привези, сказала свекровь, я сама чего надо твоему ребенку куплю. Сколько денег, сказала Вера. Нисколько, сказала свекровь и повесила трубку.
Вера прошлась по спящей квартире. Комната, коридор, кухня. Кухняков, Кухнидзе. Вытрясла из чайника полпиалушки чая. Пить не стала, выплеснула в раковину. Интересно, свекровь была одна или опять со своим лысым?
А ее Славяновед вдруг стал исчезать по вечерам. Возвращался пьяный, шумно залезал в постель, ворочался. Иногда как будто вспоминал о ней и о чем-то спрашивал. Вера делала вид, что спит.
Стала подслушивать его телефонные разговоры.
Узнала: на Славяноведа навесили какие-то долги, он уже продал одну из своих квартир. Но долги, кажется, еще остались.
В тот вечер, когда она это узнала, она лежала в постели, дожидалась Славяноведа. Слышала его шаги в подъезде. Слышала, как открывает входную дверь. Как заходит в туалет. Как под грохот воды идет, пошатываясь, к кровати. Слышала, как падают на пол брюки, как Славяновед залезает под одеяло и ложится на спину, потому что где-то прочитал, бедный, что победители всегда спят на спине. Слышала, как она, Вера, бросается на него, как он удивленно вскрикивает, как она наваливается, впивается в его губы... Как он сопротивляется, как она побеждает...
Она ненавидела себя за ту ночь.
Она писала письмо.
Все это глупость, конечно. Но два листка уже написаны. Квартира спит, с люстры капают желтые молекулы света.
...потому что справедливости в моей жизни было немного. В школе гнобили, что троечница, ногти длинные и из неблагополучной семьи. Как будто это я свою семью неблагополучной сделала.
А тройки и ногти – это был протест. Не хотелось отличницей быть, даже хорошисткой, и чтобы меня фальшивым голосом хвалили. Голову могла неделями не мыть. Учительницы зверели, глядя на мои ногти и волосы. Меня, еще маленькую, женской ненавистью ненавидели. В десятом классе все были уверены, что я гуляю. Да, я гуляла – выходила из дома и гуляла одна по городу. Два-три часа могла гулять, пока ноги от уродской обуви не опухнут. Иногда подходила к нищим, просила у них немного на мороженое. Удивлялись, но давали. Добрые в городе были нищие.
Потом в институт поступила без блата. И никакого счастья мне этот институт не принес. Напрасно каждый день голову мыла и первую сессию нормально сдала. Опять стали про меня всякие слухи ходить, сколько я за час беру. Я, конечно, красилась, как вампирка. Хотелось какой-то яркости в жизни, а то все серое: улицы, институт, мальчики на курсе. Подойдет такой серенький мальчик и начинает нудно на какой-нибудь фильм звать, или на дискотеку, или – еще хуже – на день рождения с предками в соседней комнате. Послушай, говорю, подерись с Петровым. Зачем? – бледнеет серое создание. Начинаю выдумывать: понимаешь, Петров меня вчера за грудь схватил. Иди ты, – потеет мой серый зайчик и ускакивает в кустики.
Или со второго этажа попрошу спрыгнуть. Ненавидели меня на курсе.
А потом один все-таки спрыгнул. Со второго этажа. И неудачно – стал моим мужем...
Даже дурно сделалось от его столь гордых слов
– ...в общем, эти ребята, они очень этой Лотереей интересуются. Слышишь?
Алекс кивнул. Славяновед смотрел куда-то в потолок и говорил:
– На шефа твоего, как его там...
– Билла?
– Нет, местного.
– Акбара?
– Ага. На него они выходить не хотят, это для них – другая мафия. Не с их улицы. А этот, второй... Да, Билл. Вообще мужик непонятный. Как он тебе, кстати?
“Я не приглашаю вас распинаться на площади Мустакиллик”, – вспомнил Алекс и дернул плечом:
– Непонятный.
– ...и мне ребята то же самое сказали. Не похож на бизнесмена, правда? Если ты в бизнесе – должен быть простым, понятным. Кого, например, в бизнесе колышет, что я филфак заканчивал и Аввакума помню? В бизнесе все равны. Вот и будь равным. Если ты, конечно, не Билл Гейтс. Какая у твоего Билла фамилия, кстати, не Гейтс? И вообще, ребята говорят, что им... короче, интересуются...
– Слушай, Слава, а твои “ребята” – сами-то они кто?
Лицо ночного гостя обросло морщинами:
– Кто?.. Никто! Это я – “кто”... Ты – “кто”. А они – это “всё”. Всё, везде, всегда. Мертвая хватка. Даже не хочу вспоминать, сколько они из меня за эти полмесяца высосали... Короче, Алекс. Ты сидишь на отборе писем, так? Понятно, что окончательное решение примут другие, но это уже не наша забота, так? Ребятам нужно, чтобы через это предварительное сито прошло несколько нужных писем.
– Слушай, а зачем им это нужно, если они такие всемогущие? Что они, здесь эти вопросы решить не могут?
– Откуда я знаю? Я сам их игры не понимаю. Что-то они от этой Лотереи хотят.
– Справедливости, – зевнул Алекс.
– Ага, – засмеялся Славяновед. – Справедливости, блин!
Ушел. Пьяный, в кожаной куртке, с ладонями, полными наглого мужского тепла.
Алекс добавил пустую бутылку в коллекцию стеклотары под подоконником. Завтра все вынесет, все.
Час ночи, время закрывать глаза. В комнате, покачиваясь, стоял запах коньяка. Запах человека в одном носке. Запах его улыбки. Запах его нагловатых глаз.
Алекс распахнул окно, ночь хлынула в комнату.
Алекс вышел на балкон.
Весна трудилась вовсю. Пылал фонарь, рядом дрожало цветущее дерево, урючина. Торжественно мяукали кошки.
Алекс сказал Славяноведу, что подумает.
Интересно, как Славяновед спит с Веркой? Хотя что тут интересного... А передние зубы у него вставные, Алекс заметил.
Дерево цветет прямо на Алекса. А он стоит на балконе, в домашних джинсах, интересный такой. Завтра он попытается еще раз поговорить с Соат.
“Соат, я не прошу твоей любви. Просто... не прогоняй”.
Нет, не то.
Цветущая урючина плывет по двору, перевозя спящих птиц из одного дня в другой..
“Соат, я обещаю, что не позволю себе... Нет, не верь, я ничего не обещаю. Едва мы останемся вдвоем, я нарушу все обещания, я повалю тебя на это пыльное заплеванное небо, я стану твоим Прометеем, я подарю тебе ого-онь!”
Марсианский фонарь. Плавающие тени на асфальте.
С конца двора идет Соат.
Под шелест урючины и клавиатуры компьютера она поет:
“Нам нужен че-ло-ве-е-ек, который будет чи-и-итать все эти пи-и-и-и-и-сьма. Оценивать! Оценивать! по спе-ци-альной шкале”.
“Я стану твоим Прометеем, я подарю тебе огонь...” – размахивает с балкона руками Алекс.
“Посмотрите на статую Командора, – напевает Славяновед, вылезая из такси. – Она – кивает!”
“О боже!”, – вскрикивает водитель и уезжает.
Цветущее дерево не выдерживает и тоже вступает в хор, жестикулируя ветвями:
“О Соат, посмотри на этого безумца в тапочках на балконе. Он вышел не только подышать воздухом, но и чтобы сказать тебе слова нежности. И я, как цветущее дерево с тысячью маленьких органов любви, хочу передать тебе эти слова”.
Соат слушает дерево, наклоняет голову и говорит:
“Цветущее дерево готово всю ночь болтать о любви. А в моем сердце я вижу это дерево осенью. Там, где сейчас розовеют маленькие органы любви, я вижу увядшие фиговые листки, которые ничего не прикрывают, кроме пустоты осеннего неба. Пора спать, Алекс. Сколько можно плакать над розовым похотливым деревом и этим фонарем? Завтра к девяти на работу. Я положу перед тобой новую пачку писем, и ты снова посмотришь на меня своими медовыми волчьими глазами. Меня начнет мутить от этого взгляда. Я сварю тебе кофе забвения. Спать, Алекс. Спать”.
Снова Создатель бомбы
Город спал; потрескивали фонари на пустых проспектах.
Члены Великого братства спящих посылали друг другу свои сны.
Сон записывается в виде письма, прочитывается вначале самим спящим. Иногда, во избежание ошибок, дается на прочтение кому-нибудь из членов семьи, кто пограмотнее. Тот правит во сне ошибки. Вычеркивает лишние любовные сцены, сеет зерна многоточий... Переписанный набело сон кладется в специальный конверт.
Из перьев, шевелящихся по ночам в подушке, составляется почтовый голубь. Он берет письмо и вылетает в окно.
Что дальше происходит с письмом – никому не известно.
...мне снилась собака, бегущая по бетону и песку. 173-17-00.
...мне снилось двенадцать тарелок, восемь вилок и ни одной ложки. 29-11...
...мне снился прилавок, на котором лежали огурцы...
Ему снился Ленинград, холодный и солнечный.
Его потерянный город. Безлиственные улицы, на которых росли только дома. Дома росли друг из друга, переплетаясь корнями, подвалами, вплющиваясь друг в друга кронами. Улица Достоевского, запах гниющей капусты с Кузнецкого рынка; алоэ на подоконнике – его домашний Кощей.