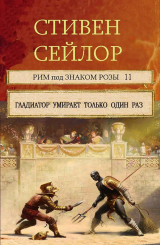
Текст книги "Гладиатор умирает только один раз. (Сборник рассказов) (ЛП)"
Автор книги: Стивен Сейлор
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
– Что касается пекаря и его семьи, то им была выплачена более чем достаточная компенсация за их хлопоты.
– Семья этого человека была в этом магазине на протяжении нескольких поколений! Не могу поверить, что он ушел по собственной воле.
Она сжала челюсти.
– Правда, Бебиус поначалу не был готов сотрудничать. Потребовалось определенное давление, чтобы заставить его это сделать.
– Давление? – Черная метка цензора могла доставить Бебиусу большие неприятности. Как только ему это объяснили, Бебиус понял, что лучше будет, если он со своей семьей вообще покинут Рим и откроют магазин в другом месте. Я уверена, что его миндальные пирожные будут так же популярны в Испании, как и здесь, в Риме. Увы, Поппи будет их не хватать, – она говорила все это без тени иронии.
– А как насчет меня?
– Тебя, Гордиан?
– Я знаю больше, чем кто-либо.
– Да, это правда. Откровенно говоря, я думала, что мы должны что-то с тобой сделать, и мой пасынок тоже. Но Поппи сказал, что ты поклялся своими предками хранить тайну и дал ему слово, как римлянин римлянину Подобные вещи имеют большое значение для Поппи. Он настоял на том, чтобы мы оставили тебя в покое. И он оказался прав: ты промолчал. Он ожидает, что ты будешь молчать и дальше. Я уверена, что ты его не подведешь.
Она сверкнула безмятежной улыбкой без малейшего намека на раскаяние. Мне показалось, что Палла сама была похожа на кусок отравленного пирожного.
– Итак, видишь ли, – сказала она, – все случилось к лучшему, для всех, кого это касается.
Юридически и политически скандалу в семействе Попликолы с отравленным пирожным был положен конец. Суд общественного мнения, однако, будет продолжать мусолить обстоятельства дела еще долгие годы.
Были и те, кто настаивал на том, что расследование Сената было сфальсифицировано самим Попликолой; что важные свидетели были запуганы, выгнаны и даже убиты; что цензор был морально банкротом, непригоден для своей должности, и что разговоры о его счастливой семье были показухой.
Другие защищали Попликолу, говоря, что все разговоры против него исходили от нескольких морально развращенных, ожесточенных бывших сенаторов. Были даже те, кто утверждал, что этот эпизод является доказательством мудрости и глубокого осмысливания Попликолы. Услышав такие шокирующие обвинения против своего сына и жены, многие мужчины бросились бы мстить им, взяв их наказание в свои руки; но Попликола применил почти сверхчеловеческую сдержанность, инициировал официальное расследование и, в конце концов, добился оправдания своих близких. За свое терпение и хладнокровную настойчивость они посчитали Попликолу образцом римской прозорливости, а его верной женой Паллой восхищались, как женщиной, которая высоко держала голову, даже когда подвергалась самой жестокой клевете. Что касается его сына, политическая карьера Луция Геллия продвигалась более или менее без скандала. Он стал более активным, чем когда-либо, в судах и на заседаниях сената и открыто выразил стремление когда-нибудь стать цензором, следуя по стопам своего отца. Лишь изредка его недоказанное преступление возвращались, чтобы напомнить ему о нем, как в том случае, когда он в противовес Цицерону в одной из злобных дискуссий угрожал оспорить мнение великого оратора, на что Цицерон ответил:
– Это прозвучало так, Луций Геллий, как будто ты собираешься угостить меня кусочком твоего миндального пирожного!
9-й рассказ Вишня Лукулла
– Как только дело сделано, оно уже готово. Свершившийся факт приобретает вид неизбежности, независимо от того, насколько сомнительным он мог казаться сначала. Ты не согласен, Гордиан? – Цицерон насмешливо улыбнулся.
– Я не понимаю, что ты имеешь в виду, – ответил я.
Прекрасным весенним утром мы гуляли по Форуму. Впереди нас на горизонте за Капитолийским холмом лежали пушистые белые облака, похожие на огромный нимб, венчающий Храм Юпитера, но во всех остальных направлениях небо было безупречно синим. В мягком, теплом воздухе слышалось пение птиц с тисовых деревьев, росших на склоне холма Палатин, круто поднимавшегося слева от нас. Мы продолжали идти медленным шагом, но остановились, когда группа весталок вышла из круглого храма своей богини и пересекла наш путь, высоко подняв подбородки и надменные лица. Одна из них соизволила взглянуть на Цицерона, и я видел, как он слабо ей кивнул. Я узнал его невестку Фабию; однажды, много лет назад, я спас ее от ужасной участи, которая ожидает любую весталку, которая осмеливается нарушить свой обет целомудрия. Фабия, казалось, не заметила меня или намеренно избегала встречаться со мной взглядом. Так иногда бывает с теми, кто обращается к Гордиану Искателю в трудные времена, а когда беда позади и я им больше не нужен, я исчезаю в их глазах, как дым от кадильницы рассеянный струей воздуха, и не оставивший следов аромата.
Цицерон, уставший гулять, показал, что хочет немного посидеть на каменной скамье у ступенек Храма Кастора и Поллукса. Он указал на место рядом с собой, но я сказал ему, что хочу немного постоять.
– Ты что-то говорил о неизбежности? – напомнил я ему.
Цицерон задумчиво промычал.
– Как это сформулировал драматург Энний?: «Теперь дело сделано». Я лучше бы сказал, «Так сложилась судьба и не могло быть иначе?»
– Энний, насколько я помню, говорил об убийстве Рема Ромулом, а о чем ты говоришь, тебя забери фурия, Цицерон?
Он пожал плечами и прищурил глаза, словно ища в уме пример, но я подозревал, что мысль, которую он хотел высказать, уже полностью сформировалась в его сознании, и он просто не торопился, чтобы высказать ее, желая показать, чтобы его слова казались спонтанными, а не заученными. Цицерон был юристом, и так говорят юристы; они никогда не переходят сразу к тому моменту, когда имеют возможность пройти окольными путями. Давить на него было бессмысленно. Я вздохнул и все-таки решил присесть.
– Что ж, Гордиан, подумай: всего десять лет назад, скажем, во время консульства моего хорошего друга Лукулла, кто мог с уверенностью предвидеть будущее Римской республики? На западе мятежный легат Серторий заманивал недовольных в сенате в Испанию, с целью создания противоборствовавшей республики; Серторий и его последователи заявили, что они представляют истинный Рим, и высказали намерения когда-нибудь вернуться, чтобы объявить город своим. Между тем, на востоке, война против царя Митридата приняла худший оборот; это начинало выглядеть так, как будто Рим откусил больше, чем он мог прожевать, когда вторгся во владения Митридата в Малой Азии, и мы, вероятно, до сих пор задыхаемся от своей ошибки.
– А затем, чтобы усугубить ситуацию, наши враги решили объединить свли силы против нас! Серторий послал свою правую руку, Марка Вария, чтобы тот возглавил армию Митридата, и таким образом Рим оказался зажат между двумя римскими же полководцами с двух сторон. Тревоги добавляло и то, что у Сертория был только один глаз – как и у Вария! Один потерял правый глаз в битве, другой – левый; я никак не могу вспомнить, кто потерял какой. Несмотря на Аристотеля и его презрение к совпадениям, любой историк скажет тебе, что Фортуна любит странную синхронизацию и любопытные параллели – и какой любопытный поворот событий был бы, если бы Рим был побежден двумя своими собственными генералами, парочкой полководцев, у которых на двоих была только одна пара глаз. Должен признаться, Гордиан, страшно нервничая и пребывая в тревоге, я уже представлял, что Серторий и Митридат вместе восторжествуют и разделят мир между собой. История тогда пошла бы иным путем, и сегодня Рим был бы совершенно другим.
– Но этого не случилось, – сказал я.
– Серторий с его стремлением доминировать во всем, наконец-то, стал настолько невыносимым для своих последователей, что они его убили. Одноглазый приспешник Сертория – Варий, в конце концов, оказался не таким способным полководцем; в морском сражении у острова Лемнос Лукулл взял его в плен и уничтожил его армию. Митридат был побежден на всех фронтах и лишен своих самых ценных территорий, которые теперь платят дань Риму. Что сделано, то сделано, и, кажется, такой результат всегда был неизбежен. Триумф Рима был гарантирован с самого начала по милости богов, и иначе и быть не могло.
– Значит, ты веришь в судьбу?
– Рим верит в свою судьбу, Гордиан, ибо на каждом этапе истории его судьба это подтверждала.
– Возможно, – с сомнением сказал я. В характере моей работы было тыкать, подталкивать и заглядывать под поверхность вещей, так сказать, переворачивать коврики и исследовать занесенный под них мусор; и, судя по моему опыту, ни один человек (и, в более широком смысле, ни один народ) не обладал таким понятием, как определенная судьба. Каждый человек и народ шли по жизни урывками, часто отклоняясь в неверном направлении, а затем возвращаясь назад, обычно совершая множество катастрофических ошибок и отчаянно пытаясь скрыть их, прежде чем перейти к следующей ошибке. Если боги и принимали какое-либо участие в этом процессе, то обычно для своего развлечения за счет несчастных смертных, а не для того, чтобы осветить дорогу к заранее определенному пути величия. Только историки и политики, с острым корыстным интересом и неопределенными взглядами на историю, могли смотреть на ход событий и видеть в них божественный замысел.
Если Цицерон придерживался другой точки зрения, я не удивлялся. В тот момент он стремительно и уверенно приближался к апогею своей политической карьеры. Его работа в качестве адвоката в судах завоевала ему дружбу самых влиятельных семей Рима. Его продвижение по карьерной лестнице было отмечено успешной избирательной кампанией. В грядущей гонке на выборах консула он считался явным фаворитом. Когда я впервые встретил его много лет назад, он был молод, неопытен и гораздо более циничен в отношении мировых обычаев; с тех пор успех приручил его и дал ему розовый, самодовольный ореол тех, кто начинает думать, что их успех неизбежен, наряду с успехом города и империи, которым они служили.
– И все же, – заметил я, – если бы все пошло по-другому, Серторий мог бы стать правителем Запада со столицей в Испании, а Митридат все еще оставался бы бесспорным царем Востока, тогда Рим уменьшился бы в размерах до простой заводи, из-за которой эти двое стали бы ссориться.
Цицерон вздрогнул при этой мысли.
– Хорошо, что Серторий был убит, а Митридат не нанес поражение Лукуллу.
Я откашлялся. Одно дело Цицерону заниматься философскими рассуждениями о судьбе, но совсем другое – противоречить фактам недавней истории.
– Я считаю, что Помпею удалось окончательно положить конец войне с Митридатом, раз и навсегда.
– Помпея назвали победителем в войне, да! Но Лукулл воевал с Митридатом в течение многих лет по всей Малой Азии, прежде чем был отозван в Рим и вынужден уступить командование Помпею. Если Помпей так быстро справился с Митридатом, это только потому, что Лукулл размягчил для него почву, – Цицерон фыркнул. – С тех пор, как Лукулл вернулся в Рим, он заслужил триумф за свои многочисленные победы на Востоке, но его политические враги успешно сговорились лишить его этого. Что ж, их обструкционизму скоро положат конец, и в ближайшее время, в этом году Лукулл, наконец, отпразднует свой триумф; и возможно, и я приложу к этому рук, если боги поддержат мое избрание, и я стану консулом. Так что, Гордиан, пожалуйста, не нужно атаковать меня кучей аргументов о Помпее, как единственном покорителе Востока. Лукулл сломал хребет врагу, а Помпей просто вовремя подошел и убил его.
Я пожал плечами. Это был спор, о котором у меня не было твердого мнения.
Цицерон прочистил горло.
– В любом случае… ты бы хотел присоединиться к нему сегодня днем за неторопливой трапезой?
– Присоединиться к кому?
– Ну, конечно, к Лукуллу.
– А-а! – я кивнул. Так что это была истинная цель желания Цицерона увидеть меня этим утром и смыслом его рассуждений. Все это время предметом беседы был Лукулл.
– Лукулл меня пригласил?
– Ну, да. И позволь заверить тебя, Гордиан, что ни один человек в здравом уме не отказался бы от приглашения поужинать с Лукуллом. Его завоевания на Востоке сделали его очень, очень богатым, и я не знаю никого, кто больше него любит тратить свое богатство.
Я кивнул. Лукулл был хорошо известным эпикурейцем, любящим радости хорошей жизни и и не отказывающий себе в чувственных удовольствиях. Даже во время военных кампаний он отличался расточительностью своего стола. Толпа в Риме с нетерпением ждала его триумфа, который, наряду со сказочной процессией, включал в себя общественные развлечения, пиршества и раздачу подарков всем присутствующим.
– Если Лукулл желает меня увидеть, почему он не связался со мной напрямую? И чему я обязан такой чести этого приглашения? – другими словами: в какие проблемы попал Лукулл и что ему от меня нужно? Я мог не говорить об оплате: Лукулл не был скупердяем и со всеми был щедрым.
Цицерон искоса посмотрел на меня.
– Гордиан, Гордиан! Ты всегда такой подозрительный! Во-первых, Луций Лициний Лукулл не из тех злодеев, которые посылают раба для передачи приглашения своим согражданам, с которыми он не знакои. Это совсем не в его стиле! Он заводит новых друзей через тех, кто уже является его другом. Он очень строг в подобных вещах, приличия очень важны для него. Это не значит, что он чопорный, а как раз наоборот. Ты следишь за моей мыслью?
Я недоверчиво приподнял бровь.
Цицерон фыркнул.
– Хорошо, это я назвал ему твое имя и предположил, что он захочет познакомиться с тобой. И не с какой-либо гнусной целью, причина совершенна невинная. Что ты знаешь о круге друзей Лукулла?
– Практически ничего.
– Но, если я упомяну их имена, ты, несомненно, узнаешь их. Знаменитые люди, пользующиеся уважением в своих областях, лучшие из лучших. Это такие люди, как Антиох Аскалонский, греческий философ, Аркесислав, скульптор, и некоторые другие. Конечно же, Авл Архиас, поэт. Эти трое – постоянные спутники Лукулла.
– Я, конечно, слышал о них. У Лукулла что, есть привычка собирать друзей, имена которых начинаются с одной буквы?
0 Цицерон улыбнулся.
– Ты не первый, кто замечает это: иногда сам Лукулл сам называет их «Три А». Простое совпадение, ничего не значащее – как я думаю, Аристотель тоже составил бы им компанию со своими инициалами! В любом случае, как ты понимаешь, беседа за столом Лукулла может быть довольно возвышенной, с обсуждениями философии, искусства, поэзии и так далее. Даже мне иногда бывает сложно поддерживать ее, если ты можешь себе такое представить! – он громко рассмеялся над этим самоуничижением; чтобы быть вежливым, я сумел усмехнуться.
– В последнее время, – продолжил он, – Лукулла больше всего интересовали дискуссии на темы истины и восприятия – как мы узнаем то, что знаем, и как мы отличаем истину от лжи.
– Я думаю, что философы называют это эпистемологией.
– Совершенно верно! Видишь, Гордиан, тебе не чужда утонченность.
– Я не помню, чтобы на что-то претендовал.
Цицерон засмеялся, но я не присоединился к нему.
– Во всяком случае, Лукулл говорил, что ему надоело слышать одни и те же точки зрения, повторяемые снова и снова. Он уже знает, что скажут Антиох, Аркесислав и Архиас, учитывая их профкссии – философ, художник, поэт. Он знает, что скажу я – политик! Видимо, его беспокоит какая-то конкретная проблема, хотя он не спрашивал и не говорит, в чем дело, и наши усталые мысли ему ни к чему. Так что, когда я обедал с ним несколько дней назад, я сказал ему, что знаю одного человека, который вполне мог бы предложить что-то новое: Гордиана Искателя.
– Меня?
– Разве ты не одержим истиной, как и любой философ? Разве ты не видишь истинную форму вещей так же остро, как любой скульптор, и не изобличаешь ложь так же ловко, как любой драматург? И разве ты не столь же проницательный, как любой политик? И что еще важнее, разве ты не наслаждаешься незабываемо обильным обедом так же, как любой другой мужчина? Все, что наш хозяин попросит взамен, – это твоя компания и твои суждения.
Таким образом, я не видел причин отказаться. Тем не менее, мне казалось, что дело здесь не только в том о чем сказал Цицерон.
Чтобы добраться до виллы Лукулла, нужно выйти за городские стены у ворот Фонтиналис, пройти небольшое расстояние по Фламинской дороге, а затем подняться на холм Пинциан. Имение окружала каменная стена так что, войти можно было только через охраняемые железные ворота. Даже пройдя через ворота, виллы не было видно, потому что она была окружена обширным садом.
Сад представлял собой нечто особенное, поскольку Лукулл собрал сотни деревьев, цветов, виноградных лоз и кустарников со всей Малой Азии и за большие деньги перевез их в Рим вместе с настоящей армией садоводов. Некоторые растения прижились в почве Италии, а другие нет, и поэтому работа над садом все еще продолжалась, и кое-где были голые участки или растения, которые, казалось, не совсем прижились. Тем не менее непревзойденное мастерство садовников Лукулла было заметно на каждом шагу. Идти по мощеной дорожке, которая вела вверх по склону к вилле, кое-где украшенной деревянной скамейкой, статуей или плещущимся фонтаном, означало встречать одну восхитительно оформленную панораму за другой. В изобилии цвели незнакомые цветы. Листья экзотических деревьев дрожали от теплого ветра. Решетки заросли лозами, приносившими странные плоды. Время от времени сквозь пышную зелень я замечал вдалеке храмы на Капитолийском холме или мерцание вод извилистого далекого Тибра, и это зрелище заставляло меня останавливаться и любоваться.
Цицерон шел рядом со мной. Он уже много раз ходил по этой извилистой тропе, но, похоже, был счастлив не торопиться и потакать моему удивлению с широко открытыми глазами.
Наконец, мы добрались до виллы. Раб поприветствовал нас, сказал, что хозяин ждет нас в комнате Аполлона, и попросил следовать за ним.
Я услышал, как Цицерон вздохнул, а затем застонал.
– Комната Аполлона! – пробормотал он себе под нос.
– Ты знаешь это место? – спросил я, пока мое изумление возрастало, по мере того, как мы пересекали террасы, портики и галереи. Куда бы я ни посмотрел, я видел частички Малой Азии, привезенные оттуда Лукуллом, чтобы украсить свой римский дом. Греческие статуи, декоративные панели, скульптурные барельефы, резные балюстрады, ослепительная плитка, великолепные коврики, мерцающие драпировки, красочные картины из энкаустического воска, великолепно сделанные столы и стулья, даже целые мраморные колонны были отправлены по морю и вверх по Тибру, чтобы предоставить возможность большому количеству инженеров, архитекторов и декораторов выполнить поставленную Лукуллом грандиозную задачу создать из разрозненных элементов гармоничное целое. Каким-то чудом им это удалось. Роскошь и изобилие встречали взоры на каждом шагу; нигде не было видно аляповатости и показухи.
– Лукулл принимает гостей в разных комнатах, в зависимости от своего настроения, – объяснил Цицерон. – В каждой комнате стол накрывается по определенному стандарту. Самые простые блюда – а их можно было бы назвать простыми только по стандартам Лукулла – подаются в зале Геркулеса; тарелки из простого серебра, еда – традиционная римская, а вина урожая, который лишь немного выходит за рамки возможностей большинства из нас, простых сенаторов. Лукулл считает, что зал Геркулеса подходит для простого обеда, когда он принимает нескольких близких друзей – и я предположил, что именно там мы и будем обедать. Но – «Аполлон»! Там – роскошные лежаки, потрясающие серебряные тарелки и еда, достойная богов! Вино будет фалернским, можешь не сомневаться. Повар Лукулла приготовит такие деликатесы, которые только можно вообразить. Если бы только Лукулл предупредил меня, я вообще воздержался от еды в последние несколько дней. Мой бедный желудок уже ворчит от ужаса!
Насколько я знал его, Цицерон страдал от раздражения кишечника. Меньше всего он страдал, когда придерживался простой диеты, но, как и у большинство успешных политиков, его жизнь превратилась в вихрь обедов и вечеринок, и отказываться от подношений хозяина казалось грубым.
– Мой желудок больше не мой, – пожаловался он мне однажды, стеная и хватаясь за живот после особенно обильного пиршества.
Наконец мы прошли через дверной проем в великолепный холл. Вдоль одной стены двери выходили на террасу с видом на сады и на Капитолийский холм вдали. На противоположной стене висела великолепная картина, изображающая бога Аполлона и его дары человечеству – солнечный свет, искусство и музыку – с грациями и музами в его свите. В одном конце комнаты, в нише, стояла высокая статуя бога, скудно одетого и сияющего своей красотой, изваянная из мрамора, но окрашенная в такие естественные цвета, что на короткое время я был обманут, подумав, что передо мной человек из плоти и крови.
В комнате могло бы разместиться множество гостей, но в тот день собралось гораздо меньше. Группа обеденных кушеток была вытянута полукругом возле террасы, где гости могли наслаждаться теплым, пахнущим жасмином бризом.
По всей видимости, мы прибыли последними, поскольку пустыми остались только две кушетки, расположенные по обе стороны от нашего хозяина. Лукулл, полулежа в центре полукруга, взглянул на наше прибытие, но не встал. Он был одет в шафрановую тунику с изысканной красной вышивкой с поясом из серебряной цепочки; его волосы, седеющие на висках, но все еще густые для мужчины сорока шести лет, были зачесаны назад, обнажая выдающийся лоб. Несмотря на его репутацию богатого человека, цвет его лица был чистым, а талия не была больше, чем у большинства мужчин его возраста.
– Цицерон! – воскликнул он. – Как приятно тебя видеть! Ты как раз к блюду из кефали. Я заказал их сегодня утром из Кумаэ, с рыбной фермы Ораты. Повар пробует новый рецепт, что-то вроде жарки их на шампуре с оливковой начинкой, – сказал он. – Я могу сразу же умереть, отведав их, так как решил, что ничего вкуснее больше не смогу попробовать.
– Неважно, какое удовольствие ты получаешь, всегда есть другое, чтобы его превзойти, – ответил один из гостей. Черты лица этого человека были так похожи на черты нашего хозяина, что я понял, что это должен быть младший брат Лукулла, Марк Лициний. Говорили, что они были очень близки; действительно, Лукулл воздерживался баллотироваться на свой первый пост до тех пор, пока его брат Марк не стал достаточно взрослым, чтобы баллотироваться вместе с ним, так что они оба могли быть избраны курульными эдилами, в качестве партнеров. Игры, устроенные ими для населения в том году, на которых впервые в истории слоны сражались с медведями, стали легендарными. Судя по его комментарию и по одежде – греческому хитону с элегантно вышитой золотой нитью каймой – Марк был таким же эпикурейцем, как и его старший брат.
– Хочешь умереть после того, как съел кефаль! Слышали ли вы когда-нибудь что-нибудь настолько абсурдное? – это замечание, за которым последовал смех, чтобы смягчить его резкость, исходило от гостя, сидящего напротив Марка, которого я сразу узнал: Катона, одного из самых влиятельных сенаторов в Риме. Катон был кем угодно, только не эпикурейцем; он был стоиком, известным своим старомодным изложением добродетелей бережливости, сдержанности и служения государству. Его волосы были коротко острижены, и он был одет в простую белую тунику. Несмотря на их философские разногласия, они с Лукуллом стали верными политическими союзниками, верными друзьями, а после женитьбы Лукулла в прошлом году на сводной сестре Катона, Сервилии – родственниками.
Рядом с Катоном лежала сама Сервилия. Если судить по красному платью, серебряным украшениям и искусно уложенным волосам, она разделяла скорее эпикурейские вкусы своего мужа, чем стоические ценности брата. Ее нарумяненные щеки и накрашенные губы были не в моем вкусе, но она излучала некую зрелую чувственность, которую многие мужчины сочли бы привлекательной. Благодаря ее обильной фигуре трудно было быть уверенным, но мне показалось, что она только начала подавать признаки вынашивания ребенка. Сервилия была второй женой Лукулла; он развелся с первой, одной из сестер Клодии, за вопиющую неверность.
Трое других гостей были греческими товарищами Лукулла, о которых Цицерон ранее упоминал мне. Поэт Архиас был, наверное, на десять лет старше своего покровителя, маленького роста с аккуратно подстриженной белой бородкой. Философ Антиох был самым тучным человеком в комнате, с несколькими подбородками, закрывающими шею. Скульптор Аркесислав был самым молодым из нас, поразительно красивым и чрезвычайно мускулистым человеком; он выглядел вполне способным держать не только молоток и долото, но и перемещать тяжелые блоки мрамора. Я понял, что это, должно быть, Аполлон его работы стоит в нише в конце комнаты, да и лицо бога странно походило на оригинал; вполне вероятно, что он разрисовал и стену, так как я узнал то же лицо в Аполлоне. Очевидно, Аркесислав был художником огромного таланта.
Я почувствовал непривычный дискомфорт. После многих лет общения с римской элитой, часто видя ее в самой слабой или худшей форме, я редко чувствовал себя неловко в какой-либо компании, какой бы возвышенной она ни была. Но здесь, в компании блестящего ближайшего окружения Лукулла, в такой невероятно роскошной, но в то же время безупречно изысканной обстановке, я явно чувствовал себя не в своей тарелке.
Цицерон представил меня. Большинство гостей кое-что слышали обо мне; их не совсем дружелюбные кивки при упоминании моего имени хоть немного меня успокоили. Лукулл указал, Цицерону занять кушетку справа от него, а мне следовало разместиться слева
На ужин были приготовлены великолепные угорь на гриле, сочная оленина, жареная птица и широкий выбор весенних овощей с нежными соусами, которые запивали лучшим фалернским вином. По мере того, как разливалось больше вина, разговор становился более расслабленным, перемежаясь взрывами смеха. Члены круга Лукулла чувствовали себя совершенно непринужденно друг с другом, настолько, что казалось, они говорили на каком-то тайном языке, полном завуалированных упоминаний и закодированных намеков. Я чувствовал себя посторонним и мало что мог сказать; в основном я слушал и наблюдал.
Сервилия продемонстрировала новое украшение – ожерелье из жемчуга, соединенное тонкой золотой цепочкой, и хвасталась сделкой, о которой она договорилась; стоимость была примерно равна стоимости моего дома на Эсквилинском холме. Это вызвало дискуссию о деньгах и инвестициях, которая привела к общему мнению (я, конечно, воздержался), что земля вокруг Рима продавалась дороже, чем она того стоила, но загородный дом в Этрурии или Умбрии, укомплектованный рабами для управления им, все еще можно было приобрести по выгодной цене.
Марк Лициний спросил Цицерона, был ли слух, который он слышал, правдой, что главным соперником Цицерона в предстоящей кампании на пост консула, вероятно, будет радикальный патриций Катилина. Цицерон ответил цитатой греческой эпиграммы; я ее не понял, но остальные рассмеялись. Было больше разговоров о политике. Катон жаловался на своего коллегу-сенатора, не назвав его имени, который применил непонятный, но древний прием, чтобы перехитрить своих оппонентов. Вместо имени Катон назвал его слегка неприличным прозвищем – вероятно, каламбур, но для меня это ничего не значило. Я подумал, он имел в виду Юлия Цезаря.
Похоже, что Архиас находился в творческом подъеме написания эпической поэмы о походах Лукулла на Восток, надеясь завершить ее вовремя для возможного триумфа своего покровителя. По настоянию Цицерона Архиас процитировал новый отрывок. Это была сцена, свидетелем которой был сам поэт: гибель флота одноглазого римского мятежника Марка Вария у острова Лемнос. Его слова были завораживающими, вызывая образы, полные ужаса, крови и славы. В какой-то момент он процитировал приказ Лукулла своим людям относительно судьбы римского мятежника:
«Вария взять живым, а не мертвым. Никому не подымать меч на одноглазого. Кто не послушается – тому я сам вырву глаза и брошу за борт!» Мне показалось, что тень проскользнула по лицу Лукулла, когда он слушал эти слова, но потом он зааплодировал так же горячо, как и все мы, и пообещал Архиасу почетное место на своем триумфе.
За фазаном с кедровым соусом разговор принял философский характер. Антиох был сторонником так называемой Новой Академии, школы мысли, которая утверждает, что человечество обладает врожденной способностью отличать истину от лжи и реальность от фантазии.
– О существовании такой способности можно сделать вывод, если мы рассмотрим противоположный случай, когда такой способности не существует, – сказал тучный философ, вытирая соус со своего подбородка. – Восприятие происходит от ощущений, а не от разума. Я вижу чашу перед собой; я тянусь к ней и поднимаю ее. Я знаю, что чаша существует, потому что мои глаза и моя рука говорят мне об этом. Ах, но откуда я знаю, что я могу доверять своим глазам и руке в этом случае? Иногда, в конце концов, мы видим вещь, которая оказывается вовсе не такой, или, по крайней мере, не такой, как мы думали; или мы прикасаемся к предмету в темноте и думаем, что знаем, что это такое, а затем обнаруживаем, что это нечто другое, когда увидим его при свете. Таким образом, ощущение не совсем надежно; действительность может быть совсем другой. Так как же мне узнать в данном случае, что это именно та чаша, которую я держу перед собой, а не что-то другое, или иллюзия чаши?
– Потому что все мы тоже это видим! – сказал Марк, засмеявшись. – Реальность, это вопрос консенсуса.
– Чепуха! Реальность – есть реальность, – сказал Катон. – Чаша будет существовать независимо от того, видели ее Антиох или все остальные.
– В этом я согласен с тобой, Катон, – сказал философ. – Но остается вопрос: как я пойму, что чаша существует? Или, скорее, позволь мне изменить акцент в этом вопросе: как я узнаю, что чаша существует? Не только своими глазами и руками, потому что они не всегда заслуживают доверия, и не потому, что мы все согласны с тем, что она существует, несмотря на то, что сказал Марк.
– С помощью логики и разума, – предложил Цицерон, – и накопленных уроков опыта. Конечно, наши чувства иногда обманывают нас; но, когда это происходит, мы обращаем на это внимание и учимся распознавать этот конкретный опыт и отличать его от других случаев, когда мы можем доверять своим чувствам, основываясь также на прошлом опыте.
Антиох покачал головой.
– Нет, Цицерон. Совершенно независимо от логики, разума и уроков опыта в каждом человеке существует врожденная способность, для которой у нас еще нет названия и которой мы не знаем, какой орган управляет; тем не менее эта способность каждого человека определяет, что реально, а что нет. Если бы мы могли только исследовать и развить эту способность, кто знает, до какой большой степени осознания мы могли бы поднять человечество?








