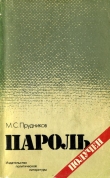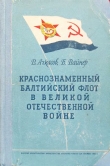Текст книги "Красные стрелы"
Автор книги: Степан Шутов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Потерять Каширу означало потерять одну из крупнейших по тому времени электростанций страны, снабжавших электроэнергией промышленность столицы. Поэтому к обороне города привлекли значительные силы: 173-ю стрелковую дивизию и нашу 9-ю танковую бригаду. Когда обнаружилась опасность прорыва танковых сил противника от Венева к Кашире, на помощь нам поспешил 2-й кавалерийский корпус.
Электростанция стоит на северо-западном берегу Оки в нескольких километрах от Каширы. Мы прибыли туда, когда население было эвакуировано, мосты заминированы и подготовлены к взрыву.
Новокаширск – поселок при электростанции – напоминал человека, у которого только что перестало биться сердце. Окна домов закрыты ставнями или наглухо заколочены, а ворота дворов распахнуты. По узеньким улочкам бродят бездомные собаки.
Вместе с комиссаром батальона Дедковым обходим роты, проверяем состояние машин после марша. Вдруг он останавливается:
– Мосты заминировали, – значит, поселок решили сдавать. Я считаю это преступлением.
После Загорулько я никак не могу привыкнуть к его преемнику. Он хороший человек, знающий танкист. Умеет организовать политическую работу, подойти к бойцу. Часто помогает мне в тактических вопросах, поддерживает мой авторитет. А я отношусь к нему с холодком. Дедков чувствует мое состояние, но виду не подает и ревности к погибшему политруку не проявляет. Напротив, он часто говорит о нем, призывает танкистов быть мужественными и любить свою Родину так, как любил ее павший смертью храбрых Загорулько.
Отвечаю комиссару резко:
– Никто не собирается сдавать Каширу. Мосты заминированы на случай, если не сдержим врага.
– Да, но этим мы морально готовим бойцов к дальнейшему отступлению. А отступать некуда – позади Москва.
– Согласен, что сдавать Москву нельзя и ее мы не сдадим; порукой этому уже то, что продвигаются фашисты все медленнее и медленнее. Скоро мы их совсем остановим. Но на отдельных участках они еще могут наступать, и к этому надо готовиться…
Неподалеку от нашего КП за невысокой оградой маленький деревянный домик. В отличие от других, его окна широко раскрыты. Изнутри доносятся звуки радио. Сильный мужской голос поет любимую песню фронтовиков. Неожиданно к нему пристраивается детский голосок:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война…
– В доме кто-то есть, – замечает Дедков. Он направляется к раскрытому окну и, поднимаясь на носки, пытается заглянуть в комнату.
– Эй, кто там, покажись!
Никто не отзывается. И детского голоса больше не слышно.
– Эй, кто в доме! – повторяет комиссар. – Мы свои, русские!
В открытом окне сначала показывается кустик льняных взлохмаченных волос, затем голубые крупные глаза и, наконец, веснушчатое лицо с коротким носом. Обладателем всего этого великолепия оказался мальчишка лет семи. Он смотрит на нас и застенчиво улыбается.
– Кто еще в доме? – спрашиваю мальчугана.
– Я один, – отвечает. – Бабушка ива… иваку-ри-ровалась.
– Как же ты от нее отстал?
– Спрятался, и все. Меня тоже ива… ива-ку-ри-ро-вать хотели.
– Почему же ты не уехал? Сюда немцы могут прийти. Как будешь один жить? Да и вообще…
Мальчик объясняет, что хочет воевать. Винтовку он не поднимет? Это неважно. У него есть другое оружие.
Мальчик исчезает, но скоро возвращается с двумя бутылками.
– Тут знаете что? – глазенки паренька задорно сверкают. – Керосин!
Мы не задавали вопросов. Ждали, чтобы он сам рассказал.
– Ванька, сосед, он большой уже, говорил, что бутылками можно фашистов жечь. Я как подкрадусь к дому, где фрицы, ка-ак брошу бутылку, потом ка-ак подожгу спичкой!..
С трудом убедили мы Федю – так звали этого маленького «вояку» – отправиться в тыл, к бабушке. Вначале он плакал, грозил жаловаться «большому» командиру и только после долгих уговоров согласился с тем, что Москву смогут отстоять без него…
Наш батальон, входящий теперь в 9-ю танковую бригаду, поддерживает стрелковый полк 193-й дивизии. Оборона полка проходит по южной окраине Новокаширска. Танки рассредоточены по всему участку, укрыты и готовы огнем встретить противника, если он прорвется к городу. Одну танковую роту я выделил в резерв на случай маневра или контратаки.
25 ноября появилась первая ласточка: на нас выскочили несколько танков противника, – по-видимому, разведка. Теперь надо ждать атаки главных сил.
Вечером стал накрапывать дождь. Ночью он усилился. К утру дороги размыло, грязь стала непролазной. Но для танка грязь не помеха.
Я нахожусь на наблюдательном пункте командира стрелкового полка майора Школьника. Отсюда хорошо видны подступы к городу. У противника все тихо, спокойно. Но нам ясно, что это – затишье перед бурей. Действительно, наблюдатель докладывает комбату:
– Товарищ майор, немцы!
Школьник направляется к амбразуре. Я – за ним.
Глазам нашим открывается грозна?! картина. Более двадцати вражеских Т-III и T-IV размеренно, как на параде, двинулись к нашим окопам. За ними темные, чуть пригнувшиеся фигурки автоматчиков.
Оборона замерла. Бойцы, разумеется, видят противника, но не стреляют – без сигнала нельзя.
Оглядываюсь на Школьника. До противника метров восемьсот, пора открывать огонь, а он по-прежнему невозмутимо смотрит в бинокль. Наконец поворачивается к командиру артиллерийской противотанковой батареи, коротко бросает:
– Давай!
Лейтенант подает команду в телефонную трубку, и минуты через две около вражеских машин снаряды начинают выворачивать землю.
Стреляют и мои танкисты. Мы видим, имеются и попадания, но большого вреда врагу не причиняют. У противника лишь строй нарушился.
Командир полка посмотрел на меня:
– Выручай, товарищ капитан. Надо остановить!
Я дал по радио приказ командиру резерва контратаковать. И опять наблюдаю за полем боя.
Пока говорил, артиллеристы успели подбить два танка противника. Немцы приблизились до полкилометра. Наш огонь стал более действенным. На моих глазах за какую-нибудь минуту вспыхнула еще пятерка машин. Под пулеметным и стрелковым огнем залегли и автоматчики.
Оставшиеся десятка полтора танков замешкались, потом стали поворачивать назад. Но уйти им не дала резервная рота. Она отрезала им путь отступления и заставила вступить в огневой бой. Фашисты несли потери, но шли в лоб, иного выхода у них не было. Все же несколько машин вырвались.
Конечно, досталось и нашим. Сгорела «тридцатьчетверка» старшины Николая Бондарчука. В танк, на котором механиком-водителем был Алмазов, тоже угодил снаряд. Сразу погибли командир и стрелок-радист. Сам Алмазов, отделавшийся испугом, выскочил из машины и начал сбивать грязью забегавшие по броне алые язычки пламени. На помощь ему поспел только что лишившийся «боевого коня» Бондарчук. Рискуя жизнью, потому что танк мог взорваться, они забросали жидкой грязью моторное отделение и победили огонь.
Прошедший бой, потеря экипажа и танка потрясли Бондарчука. На следующий день начальник штаба батальона В. М. Копчик рассказал, что Бондарчук заходил к нему и закатил истерику. На правах земляков, а старшина с начальником штаба были с Харьковщины, они не раз встречались, вспоминали знакомых, мечтали, как после войны вместе отправятся домой поездом Шепетовка – Баку. На этот раз Бондарчук заявил Копчику:
– Арестуйте меня, товарищ старший лейтенант.
Тот удивился:
– За что?
– Машину не сберег. Алмазов спас свою, а я даже не попытался. Люди там, в тылу, сколько сил отдали, чтобы изготовить танк, надеялись, что их труд не пропадет. Одним словом, Виктор Михайлович, оказался я самой последней дрянью. Стыдно мне теперь смотреть в глаза товарищам.
– Успокойся, Миколо, – как можно более ласково сказал Копчик. – По-разному горят машины. II обстоятельства бывают разные. Зря грызешь себя…
Когда начштаба кончил свой рассказ, Дедков предложил организовать беседу Алмазова и Бондарчука о том, как они спасли горящий танк. Мне идея комиссара пришлась по душе. Пусть танкисты перенимают опыт и учатся прямо на поле боя.
К Кашире подошел 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерала П.А. Белова. Теперь только и разговоров о скором разгроме наседающей на нас 17-й гитлеровской танковой дивизии.
Как-то мне позвонил командир бригады:
– Товарищ Шутов, приезжай, есть новости.
Передаю трубку телефонисту. Тот широко улыбается.
– В чем дело, Козырев? Чему смеетесь?
– Ясно, товарищ капитан, зачем вас вызывают. Наступление должно быть, не иначе.
Сержант Козырев – москвич. До войны работал на строительстве метрополитена. На фронт пошел добровольно, оставив дома жену и сынишку. Мы все их хорошо знаем, особенно я. Не лично, а по письмам.
Козырев получает их чаще других. Дает нам читать, и меня, у которого вообще переписки нет, его письма согревают. Для меня жена и сын Козырева стали вроде родными, я беспокоюсь о них, жду очередных писем.
– Что-то из дому вам давно ничего нет? – спрашиваю у телефониста.
– Сам удивляюсь, – опускает он голову. – Не случилось ли чего?
Я знаю, как Козырев любит семью. Чтобы утешить его, говорю:
– Ничего. Вот прогоним немцев от Каширы, отпущу вас на денек в Москву повидаться с женой и сыном. Только с условием, что привет от нас передадите.
Козырев сразу посветлел:
– Большое спасибо, товарищ капитан… Обязательно передам…
Совещание у комбрига короткое. Посвящено оно действительно предстоящему наступлению. Бригаду придают 2-му гвардейскому кавкорпусу, которому предстоит ударить на юг в направлении Венева.
Шестого декабря войска Калининского, Западного и нашего фронтов перешли в контрнаступление. Уже восьмого 2-й гвардейский корпус освободил Мордвес.
Нам приказано прорваться в тыл вражеской группировки, на ее коммуникации.
…Без двадцати шесть утра. Сильный ветер раскачивает кроны деревьев. Снежные хлопья гулко падают с веток на замерзшую землю.
Слышны голоса:
– Морозец, будь здоров! Градусов на тридцать с гаком.
– На печи бы сейчас сидеть да блины есть.
– Блины? Хорошо! Помнишь Пушкина: «У них на масленице жирной водились русские блины…»
Любителю блинов не дают закончить:
– Тихо, капитан идет!
Отдаю последние распоряжения и направляюсь к своей машине. Но ко мне бежит дежурный по штабу и еще издали кричит:
– Товарищ капитан, на проводе Москва! Вас вызывает генерал Федоренко.
– Федоренко?! Командующий бронетанковыми войсками Красной Армии?
– Он самый!
Не иду, а бегу к аппарату.
– Капитан Шутов? – спрашивает далекий голос. – Здравствуйте. Сдавайте батальон и срочно явитесь в Управление.
– Товарищ генерал-полковник, сейчас батальону предстоит сложная операция. Разрешите прибыть к вам после нее.
В голосе на другом конце провода слышатся металлические нотки:
– Я был о вас лучшего мнения, товарищ Шутов…
До Москвы всего езды несколько десятков километров. В обычное время на это нужно час-полтора. Но сейчас машина ползет как черепаха. Дороги забиты войсками, техникой. Все движется в одном направлении – к фронту. Только однажды мы перегнали попутчиков – колонну военнопленных. Вид у гитлеровских молодчиков жалкий: ноги обернуты тряпьем, головы закутаны полотенцами, платками, одеялами, на озябших телах тонкие цвета плесени шинели. Еще накануне, возможно даже сегодня утром, они мечтали о скором вступлении в Москву. А теперь идут скрюченные, съежившиеся, с втянутыми в поднятые воротники головами.
Гляжу на них и думаю: нет, не такой они представляли себе дорогу в Москву! Вон тот, который натянул поверх шинели клетчатую дамскую накидку, наверное, собирался первым ворваться в Москву и за это получить Железный крест из рук самого фюрера, а этот, что едва тянет обмороженные ноги, вероятно, мечтал открыть в центре города пивную…
Мы обогнали пленных, и, когда шоссе впереди сказалось совершенно свободным, машина вдруг остановилась.
– Что случилось? – удивился я.
– Простите. Одну минуту.
Шофер вышел из кабины, снял шапку и подошел к занесенной снегом одинокой могиле у обочины дороги. Поправил покосившийся столбик, на котором была прибита дощечка с надписью. Постоял немного и вернулся назад.
– Он был моим другом, – будто оправдываясь, сказал шофер. – Месяц назад погиб. Командира спасал… – После небольшой паузы продолжал: – Весь наш десятый класс на фронт добровольно пошел. Погибших я в блокноте отмечаю. После войны, если останусь жив, родителей их разыщу, расскажу, как и что. Пусть гордятся…
Сидим в приемной генерала Федоренко. Вызова ожидают еще пятнадцать-двадцать генералов, полковников, подполковников. Ни одного майора, и только я один – капитан. Все – фронтовики, а разговоры о делах мирных, о Москве. Никто как следует разглядеть ее не успел. Однако достаточно было проехать но улицам, увидеть железные рогатки, мешки с песком, закрытые досками памятники, витрины магазинов, чтобы убедиться в мужестве и стойкости ее жителей…
Из кабинета командующего вышел полковник. Попросил подождать еще.
– Генерал докладывает Верховному Главнокомандующему, – объяснил он.
Я задумался. Вспомнил первую встречу с Федоренко. Это было в конце 1939 года. Шла война с Финляндией, и я подал рапорт с просьбой отправить на фронт. Вызвал меня Федоренко – тогда заместитель командующего округом.
Чтобы я чувствовал себя свободнее, он сел рядом. Положил руку мне на колено и заявил, что мой рапорт ему не нравится. Потом взял его и начал читать: «Партийная совесть не позволяет мне почивать на лаврах в то время, когда мои друзья танкисты ломают линию Маннергейма…» – прервав чтение, спросил: – Ну как, вам понятна тенденциозность заявления?
Я пожал плечами:
– Никак нет.
Федоренко посмотрел на меня, с напускной строгостью сказал:
– Разве не ясно, что вы бросаете вызов всем, кто сейчас не на фронте? Выходит, у вас есть партийная совесть, а другие бессовестные?..
– Плохо написано, – признался я, – необдуманно. Я просто хотел сказать, что желаю поехать на фронт.
– Вот это другое дело. – Заместитель командующего засмеялся и «по секрету» признался, что сам тоже написал рапорт, но подать его не решился.
Меня он согласился отпустить; только попал я тогда, как помнит читатель, не на фронт, а в Среднюю Азию…
Раздумья прервал адъютант, снова вышедший от Федоренко. На этот раз он пригласил нас в кабинет командующего.
Яков Николаевич бодрой походкой вышел из-за стола, с каждым поздоровался. Наблюдая за ним, я отметил, что за два года он здорово изменился. Постарел, осунулся. Кожа его приятного, открытого лица приобрела желтоватый оттенок, вокруг вечно живых глаз образовалась сетка глубоких морщин. Пожимая мне руку, генерал улыбнулся:
– Здравствуйте, майор Шутов. Что ж это вы не по форме одеты?
– Простите, товарищ генерал. Я вас не понимаю. Пока я капитан.
– Майор, – возразил он. – Вам присвоено это звание. Вероятно, не успели сообщить.
Обращаясь ко всем, Федоренко заявил:
– Товарищи, сегодня Верховный Главнокомандующий принимать вас не будет. Так что до завтра вы свободны. Отдыхайте. А утром прошу ко мне…
В гардеробной меня догнал капитан:
– Товарищ майор, не одевайтесь. Вас вызывает командующий.
Возвращаюсь, мучаясь в догадках. Снова вхожу в кабинет.
Генерал достает из папки конверт и, показывая его, говорит:
– Совсем забыл. Один танкист, земляк ваш, из госпиталя пишет, что прочитал в газете о награждении вас орденом, и после выздоровления просит направить его к вам. Я лично не возражаю… – Протягивает мне письмо – Вот, пожалуйста. Решайте и завтра дадите ответ.
В коридоре разворачиваю конверт, читаю: «Младший лейтенант Юрий Юрьевич Метельский», и строчки начинают плыть перед глазами. Все-таки Юра молодец! Мечтал быть танкистом и стал им!
Письмо написано дипломатично:
«Надеюсь, товарищ генерал, Вы правильно меня поймете: я не ищу протекции у капитана Шутова. Просто хочется служить под началом человека, который вместе с моим отцом воевал против врагов нашей Родины еще в годы гражданской войны».
По адресу видно, что военный госпиталь, в котором находится Юра, расположен в Москве. Решаю побывать у него.
18
Мороз разукрасил стекла машины тонкими, полупрозрачными узорами. Пальцем выскабливаю «глазок» и через него осматриваю проносящиеся мимо улицы. Столица выглядит строго, я бы даже сказал, угрюмо.
Военные. На каждом шагу военные. А вот тягачи, яростно грохоча, тянут пушки. Строем идет группа рабочих с винтовками. Спешит куда-то старая женщина с красным крестом на рукаве. И только равнодушно спокойны длинные очереди у магазинов.
Шофер оказался словоохотливым. Спрашивает:
– Раньше бывать в Москве доводилось, товарищ майор? Не узнаете? Ничего, скоро она сбросит свой военный наряд. Станет еще лучше!
С благодарностью гляжу на него. Шофер вслух высказал мою мысль, мое желание, мою мечту.
– Ему только подняться не дать.
– Кому? – спрашиваю.
– Гитлеру, конечно. Сейчас он на карачках ползет, а его надо лишить и этого удовольствия… Ну вот и прибыли, товарищ майор, – вдруг заявляет он, резко тормозя.
Госпиталь разместился в новом четырехэтажном школьном здании. Открываю дверь. Меня останавливает невысокая энергичная сестра:
– Вы к кому, товарищ?
– К младшему лейтенанту Метельскому.
– Сейчас нельзя. Приходите послезавтра, а еще лучше – субботу.
– Я с фронта. Через час опять уезжаю, – пытаясь ее разжалобить, сгущаю краски. – Специально племянника повидать приехал…
Глаза у девушки округлились:
– Вы его дядя?!
– Точно. Брат матери.
– А сестру свою вы сейчас встретили?
– Нет.
– Ну как же, она тоже заходила. Перед вами минуты за две-три ушла. Говорила, куда-то надолго уезжает…
Жаль. Значит, Любаша была здесь, и мы с ней разминулись! Приехал бы чуть раньше… Может, та женщина, капитан, которая приветствовала меня, когда я открывал дверцу машины, и была Любаша? Она как раз вышла из госпиталя…
– Она в форме? – спрашиваю девушку.
– Конечно! Пехотный капитан.
– Значит, я ее видел и не узнал. Какая досада!
Девушка посмотрела на меня с состраданием и вздохнула. Покровительственным тоном сказала:
– Ладно, идемте. Я вас проведу черным ходом. Только, пожалуйста, не подведите меня. Если главврач вас застанет у Юры, скажите, что зашли сами…
Пока мы поднимались по лестнице, она взяла под защиту свое начальство. Не такие уж черствые, бездушные они, как некоторые думают. Но ведь иначе нельзя. Визиты родственников чаще всего расстраивают больных.
– Главврач нипочем не пустил бы вас, будь вы хоть маршалом. Особенно к младшему лейтенанту Метельскому.
– Неужели он так плох?
– Нет, что вы!
– Так в чем же дело?
– Расстроился он сильно за мать. Говорю ему: «Юра, будь мужчиной», а он обиделся, заявил: «Ничего ты, Катя, не понимаешь».
– Ай-яй-яй, как же так можно! – в шутку посочувствовал я.
Девушка с признательностью посмотрела на меня.
Постепенно я понял, что она знала о Юре все. И откуда он родом, и кем был его отец, и где работала до войны Любаша, и даже о рапорте на имя генерала Федоренко.
– Вы, конечно, тоже знаете капитана Шутова, к которому Юра просится? – спросила она вдруг.
– Знаю. Как не знать – земляк наш.
– А он что, ничего человек?
Я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться:
– Как сказать? Вообще-то, характер у неге неважный. Иногда бывает ну просто зверь-зверем…
– Правда? – Катя побледнела, стала просить меня, чтобы я уговорил Юру не идти к Шутову. Тут же она чистосердечно призналась, что ей это небезразлично.
Мы остановились в длинном коридоре.
– Подождите минутку, – попросила Катя и скрылась за дверью одной из палат. Тут же появилась снова с халатом в руках: —Надевайте.
Младший лейтенант Метельский, приподнявшись на локте, смотрел с ожиданием на открывающуюся дверь.
– Степан Федорович! – воскликнул он в смятении. – Это вы? А Катюша удивила, говорит, к тебе дядя. Что, думаю, за родственник у меня обнаружился? Никак вас не ожидал увидеть.
Он подал мне левую руку. Голова и правая рука его были перебинтованы.
Катя принесла стул, поставила вблизи кровати:
– Не больше десяти минут, товарищ… «дядя», – сказала обиженным тоном и вышла.
– Хорошая девушка, – кивнул я на дверь. – Обидчивая только.
Юра переглянулся с товарищем, лежавшим напротив, и, смутившись, опустил глаза.
Я посмотрел на него. Совсем взрослый парень. Крепкий, мускулистый. Лицо только худое да щеки впалые. Поверх одеяла лежала бледная, почти прозрачная рука.
– Мама приходила, Степан Федорович, – задергались уголки его рта.
– Знаю, мне Катя говорила. Очень жалею, что не удалось увидеться. Она в армии?
– Была. – Понизив голос, он заключил – А теперь домой возвращается.
Я дал ему понять, что догадываюсь о причине ее возвращения на оккупированную территорию. В сводках Совинформбюро все чаще и чаще упоминалось о действиях белорусских партизан.
Это-то Юру и беспокоило. Он хорошо понимал, с каким риском связана деятельность партизана. Я пытался его утешить. Говорил, что должен гордиться: ведь его мать будет помогать Красной Армии.
Чтобы переменить тему разговора, спрашиваю:
– Давно ранен?
– Да уже порядочно. В танковую атаку ходили. Удачно все было. Много фашистов подбили, а потом и наш танк загорелся…
Скрипнула дверь.
– Десять минут прошло, – сообщила Катя.
Я показал пять пальцев:
– Еще пять минут можно, а?
– Ладно. Вы только насчет Шутова не забудьте сказать.
– Насчет кого? – повернулся к ней Юра.
– Товарищ майор говорит, что твой Шутов – зверь. Понял?
Мы с Юрой переглянулись и расхохотались.
19
Лежу на верхней полке темного, плохо отапливаемого вагона. На оконном стекле изморось в палец толщиной.
Против меня на полке маленьким рубином мерцает папироса соседа. Я уже все знаю о нем. Он рабочий, мастер. Старый, с дореволюционным стажем, член партии. В Москву ездил по специальному заданию, теперь возвращается на свой завод. На тот самый, где я, как уполномоченный Ставки, буду следить за выполнением плана выпуска боевых машин. Кажется, мы уже успели обо всем поговорить, но старик не дает мне скучать и на все лады расхваливает свой город.
Поезд, глотая километры, увозит меня все дальше и дальше от фронта. В вагоне почти сплошь военные, и, надо думать, все они, как и я, испытывают мучительную неловкость. Вспоминаю недавний неприятный разговор. На остановке я вышел на перрон. Две женщины, которых встретил, посмотрели на меня холодным, осуждающим взглядом. Одна нарочно громко, чтобы я слышал, сказала:
– Такая здоровенная дубина, а не воюет! Ищет теплое местечко.
Хотелось остановиться, объяснить им, что я всего три дня как с передовой. Но не решился: они могут не поверить. Только и сделал, что побыстрее убрался с платформы.
– Вы не спите, товарищ майор? – опять спросил сосед.
– Нет, Василий Васильевич.
– Наверное, всякие думы мучат? Ведь правда, я угадал?
– Угадали.
Василий Васильевич начинает убеждать меня, что нужно всегда быть оптимистом. Ведь вот до революции, когда он сидел в одиночной камере, то думал лишь о хорошем. Рисовал себе такие светлые картины, будто, скажем, рабочий стал хозяином завода или дети тружеников учатся в университетах.
– Советский человек, тем более командир, не имеет права унывать, – заключил старик поучительным тоном.
«Старая революционная закваска», – подумал я и вспомнил Синкевича. Тот тоже всегда был бодр. Потом на память пришли Миронов, Метельский, его сын Юра. У младшего лейтенанта еще раны не затянулись, а он уже рвется в бой, пишет рапорт. А Катюша? Она его, видно, любит…
Под эти мысли я незаметно уснул. Разбудил меня сильный толчок. Поезд резко остановился: налетела вражеская авиация. Не в силах прорваться к Москве, немцы начали бомбить дороги к промышленным центрам, снабжавшим фронт.
Одна бомба упала на пути впереди состава. Пассажиры бросились помогать железнодорожникам. Уже часа через два мы снова двигались на восток.
– Видели того мальчишку, что воронку засыпал? – спросил у меня Василий Васильевич, когда мы снова улеглись на свои полки.
– Это которому лет четырнадцать? Славный малыш. Он все время нас подгонял: «Живее! Живее, товарищи военные!»
Старый рабочий улыбнулся:
– Не правда ли, хороший малец? У меня таких полный цех. Отцы и братья на фронте, а они оружие куют!..
К исходу второго дня добрались до завода. Василий Васильевич представил меня директору:
– Майор Шутов. Прямо с фронта.
Директор познакомил меня с графиком выполнения правительственного заказа. В заключение разговора посоветовал установить непосредственный контакт с рабочими.
– Выступите перед ними, расскажите о фронтовых делах, о том, как зарекомендовали себя машины, которые они тут собирают.
Пошел третий месяц, как я на заводе. Здесь встретился с героями тыла, от которых во многом зависела победа над врагом. Перед моими глазами и сейчас стоят эти мужественные люди.
Вот цех, где обрабатывались крупные детали танков. А работали здесь в основном худенькие, бледнолицые подростки да пожилые женщины, измученные горем и непосильным трудом. Выполняли по две-три нормы, рассчитанные на мужскую силу.
У одного станка работал пятнадцатилетний паренек Ваня Кислица. Перед тем как представить его мне, Василий Васильевич рассказал:
– Наш комсорг, гордость цеха. Обращаются к нему только по имени и отчеству: «Иван Иваныч». Часто работает по две и три смены подряд. Отец его тоже наш заводской, литейщик. Воевал и погиб. Мать Ванюшина добровольно ушла на фронт. Была тяжело ранена, и после этого о ней ничего не слышно. Теперь Иван Иванович с бабушкой. Веселый был парнишка, да ушел в себя.
Знакомлюсь с Ваней. Он протягивает худенькую, по уже натруженную руку.
– С фронта? – спрашивает.
– Из-под Москвы, Иван Иваныч.
Ваня косится на мастера:
– Васильич, это вы объявили, что я Иваныч? И про отца, про маму рассказали?
– Рассказал, – отозвался Василий Васильевич.
– Что ж тут такого? – заступился я за мастера.
– Не хочу, чтобы меня жалели, – ответил Ваня и ребром руки откинул с вспотевшего лба прядь волос. – Все равно от этого легче не станет.
Мне сразу приглянулся этот не но годам серьезный паренек. А со временем я убедился, что его уважает в цехе не только молодежь.
По долгу службы приходилось бывать на комсомольских собраниях. Иван Иванович проводил их тут же, у станков. Обычно присутствовали на собраниях все рабочие.
После информации начальника цеха о выполнении плана за неделю Кислица вызывал по имени комсомольцев, а те коротко рапортовали.
– Миша!
– Двести тринадцать.
– Хорошо, подтянулся малость, – подбадривал его комсорг. – Однако надо еще добавить… Женя!
– Двести сорок два.
– Молодец!.. Саша!
Подросток отрицательно качает головой, прячет глаза, словно его уличили в каком-то неблаговидном поступке.
– Он наш цех подводит, – бросает девушка. – Всего сто шестьдесят процентов! Позор!
Секретарь комсомольской организации продолжает:
– Тезка!
– Двести пятьдесят один.
– Люба!
Девушка краснеет, кокетливо улыбается.
– К тремстам подходит, – отвечает кто-то за нее. – Юра!
– Триста шесть.
По лицу Ивана Ивановича пробегает радостное волнение:
– Чудесно! Так держать, Юра!..
Протоколов на собраниях не велось. Взысканий никому не записывалось. Для тех, кто не выполнял обязательства, было самым тяжелым наказанием осуждение коллектива…
20
В городе из добровольцев формировалась танковая бригада. Меня, как имеющего боевой опыт, привлекли к подготовке личного состава.
На вооружение бригады прибыло несколько английских «матильд» с целой армией техников и инструкторов.
Английские танки, рассчитанные в основном на ведение колониальных войн в жарких странах, к действиям в суровых условиях русской зимы оказались мало пригодными. И вообще в любое время наш) «тридцатьчетверка» была проще в эксплуатации, удобнее, выносливее и менее капризной.
С неохотой пересаживались танкисты с отечественных машин на английские. Особенно беспокоила их так называемая «трубка Черчилля». Так у нас в шутку называли проходивший под днищем танка патрубок для отвода испаряющейся воды. В Африке, возможно, он был необходим. У нас же зимой случались неприятности. Вода в патрубках замерзала и разрывала их.
Можно было просто отрезать их или заглушить. Но делать это самовольно, без совета с «хозяевами» танков, мы посчитали нетактичным. Словом, в дипломатичном порядке поставили этот вопрос перед английскими инструкторами.
– Да, конечно. Тут надо кое-что изменить, – согласились они. – Все будет в порядке.
«Союзники» долго копались в моторах, чертили какие-то схемы и… пришли к выводу, что следует запросить мнение конструкторов завода, выпускающего «матильды». Послали запрос. А ответа нет и нет…
У нас лопнуло терпение, и мы решили действовать. Чтобы придать видимость коллегиальности, созвали техническую конференцию с участием наших танкистов и английских специалистов.
Мнения разделились. Англичане энергично требовали ждать ответа конструкторов. Наши настаивали убрать «трубку Черчилля».
В конце концов «союзников» убедили, что бригаду со дня на день могут направить в бой. Они вынуждены были уступить.
После деловой части состоялся завтрак с гостями. Я бы не стал говорить о нем, если бы случайно не выяснилась интересная деталь.
Английский сержант-инструктор, перебрав водки, подсел к танкисту Ермакову, выступавшему на конференции с содержательной речью, и принялся трясти его руку.
– Я есть механик. Рабочий. – Он покосился на своего начальника. – Я согласен с вами: трубку надо снять.
– Почему же вы не сказали этого своему майору?
Англичанин иронически улыбнулся:
– Говорил, много раз, а он слушать не хочет. Грозит отправить меня в Англию и отдать под суд. Все они мерзавцы. К танкам не имеют никакого отношения. Шпионить приехали. Ненавижу продажных людей.
Об этом разговоре на следующий день мне рассказал сержант Ермаков. И мне многое стало ясно в поведении «союзников».