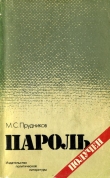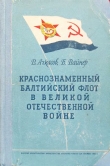Текст книги "Красные стрелы"
Автор книги: Степан Шутов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Солдат бежит. Взбирается на навозную кучу, хочет прыгнуть с нее, но его задерживает окрик:
– Стой!
Солдат щелкает каблуками. Приставляет приклад к ноге и стоит как пригвожденный.
– Двадцать, нет – тридцать раз присесть с винтовкой на вытянутых руках! Начали, раз… два… три…
Презрение, говорят, проникает даже сквозь панцирь черепахи. В солдате закипает ярость. Я жду, когда он набросится на своего истязателя. У него дрожат руки, подергиваются щеки, на лбу выступают капельки холодного пота. Но приказ он выполняет.
– Четырнадцать… пятнадцать… шестнадцать… – небрежно с легкой скукой считает прапорщик. – Семнадцать… Выше руки, выше!
Митя сжимает кулаки. Любаша до крови покусывает губу.
– Двадцать восемь… двадцать девять… тридцать… Ко мне!
Солдат стоит перед прапорщиком, с трудом держась на ногах.
– Так кто, по-твоему, Ленин?
– Вождь, господин прапорщик, – отвечает солдат тихим, смиренным голосом. – Наш, крестьянский вождь.
– Мол-чать! Опять за свое?! Запомни: Ленин – немецкий шпион. – И снова командует: – Кру-гом! Бегом на навозную кучу, марш!
Солдат повинуется.
– Стоять до обеда! – бросает прапорщик и уходит.
Когда он скрывается за домами, Митя оглядывается. Видит, никого нет, предлагает:
– С него и начнем.
– Слушай, товарищ, сходи с кучи, – обращается к солдату Любаша.
– Ты сам откуда? – спрашиваю его.
– Из Сибири.
Митя подходит к солдату. Сует в руку несколько листовок:
– Спрячь. Потом почитаешь.
– Неграмотный я. Про что тут написано?
– Про мир. Товарищам покажи – почитают.
– А про землю нет? Правда, что Ленин приказ дал бедным крестьянам землю раздать?
– Правда. У нас уже разделили землю помещика.
– Что же это будет? Пока я в окопах прохлаждаюсь, в Сибири всю землю раздадут…
Вечером малыши рассказывали, как солдаты закололи прапорщика, того, с веснушками. Мы доложили об этом Синкевичу.
– Очень хорошо, – обрадовался тот. – Скоро вся армия пойдет за большевиками. – Повернувшись к Мите, Михаил Иванович вдруг спросил – А ты, молодец, что буйну голову повесил?
В последнее время я тоже заметил, что мой друг загрустил. Сейчас он сидел задумчивый, уставившись в землю немигающим взглядом. Услышав обращенный к нему вопрос, вздрогнул, поднял на Синкевича глаза:
– Дюже тяжко, Михайло Иваныч. Пийду-ка я, пожалуй, до хаты, на Вкраину. Всюду Советска власть, а в Киеве ее нема. И мать жалко, одна она там…
– Что мать жалко – согласен, – ответил Синкевич. – Но сейчас идти в Киев не резон, пропадешь ни за понюшку табаку. Подожди, пока освободим твою Украину. А сейчас иди лучше к нам. Мы как раз отряд Красной гвардии комплектуем.
6
Штаб Городковского красногвардейского отряда. В перекошенной и почерневшей от времени избе за дубовым выщербленным столом сидит командир. Молодой, почти наш ровесник. Черты лица девичьи, голос тоненький:
– Вы к кому?
– Нас прислал товарищ Синкевич.
– Ясно. Записаться хотите?
– Конечно.
– А оружие ваше где?
Митя смотрит на меня, я на него. Стоим хлопаем глазами. Никак не думали, что в армию только со своим оружием берут.
– До свидания, – говорит командир. – Занят во как, – он проводит рукой по горлу. – Раздобудете винтовки – приходите, потолкуем.
Раздобыли. В тот же день. Их не слоя: но было достать у дезертиров.
Снова являемся в штаб. Теперь командир без лишних разговоров приказывает зачислить нас красногвардейцами.
Через неделю меня и моих товарищей перевели в Осиповичский отряд, который действовал против польского корпуса. Корпус этот сформирован был при Временном правительстве из военнопленных поляков – солдат немецкой армии. В нем насчитывалось более 25 тысяч легионеров. Командовал корпусом генерал Довбор-Мусницкий.
Вскоре же нам пришлось участвовать в жарком бою. Отряд действовал совместно с двумя регулярными полками. Несколько раз атаковали, и все неудачно. Потом обошли врага, и он начал отступать. Польские солдаты, против воли втянутые в контрреволюционную авантюру, целыми группами сдавались в плен.
Все шло хорошо, пока нас не обстреляла неприятельская артиллерия. Тут соседние полки дрогнули и побежали. Только наши добровольцы проявили стойкость и отбивали атаки белополяков, пока не подошел Городковский красногвардейский отряд.
Мы с Митей держались вместе. Во время вражеского артобстрела он вдруг упал. Сердце у меня дрогнуло. Подбежал к нему, вижу – гимнастерка его в крови. Он с трудом открыл глаза.
– Степа, – слабо улыбнувшись, прошептал. – Прошу тебя… В Киеве мамо… – И голова его бессильно упала.
В нескольких боях революционные войска нанесли корпусу Довбор-Мусницкого тяжелое поражение. Только бегство на территорию, занятую немцами, спасло его от полного разгрома.
С ликвидацией последнего очага контрреволюции в Белоруссии для нашего отряда наступили мирные будни. А страна продолжала тяжелые бои. Все мы, молодые добровольцы, считали, что наше место на передовой.
Как раз в это время к нам прибыл один из руководителей большевистской организации Минска. Выступая с речью, сообщил, что Ленин подписал декрет о создании массовой регулярной Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
– Сознательность сознательностью, – заявил он, – но без крепкой дисциплины нельзя…
Я решил пойти в новую армию добровольцем. Написал об этом письмо Любаше. Множество раз исправлял его, переписывал, вставляя схваченные на лету чужие слова, мысли. Хотелось написать необычно «умно и красиво». А получилось совсем не то:
«Красная гвардия, должен тебе сообщить, товарищ Любаша, обессмертила себя своими подвигами в веках. Теперь Владимир Ильич Ленин говорит, что революции нужны регулярная Красная Армия и Красный Флот. Я решил добровольно записаться в эту новую армию и отомстить за смерть Мити Градюшко. Кланяйся всем нашим.
Красногвардеец Степан Шутов».
Почта работала из рук вон плохо. Письмо прибыло во Дворец одновременно со мной. А я до этого уже успел схватить брюшной тиф и проваляться две недели в отрядном госпитале. Только выздоровел, меня стали домой отправлять.
Неужели рухнула надежда попасть в Красную Армию? Я пытался протестовать. Зашел к командиру, стал жаловаться на врача, вгорячах назвав его контрой. Командир отряда только улыбался. Когда я исчерпал запас своего красноречия, он попросил:
– Ну-ка пройдись от стола к двери и обратно.
Я понимал, что меня испытывают, и старался не подкачать. Но ноги подвели.
– Вот что, Степан, сейчас отправляйся домой, – по-дружески сказал командир. – А подкрепишься – возвращайся. С радостью примем в полк.
Я не уходил.
– Хочешь еще что сказать?
– Не знаете, как дела под Киевом?
– У тебя разве родственники там?
– Мать.
– Тогда вдвойне радуйся. На днях Киев очищен от петлюровцев.
– Неужели! – воскликнул я, не в силах скрыть волнения. – Спасибо за добрую весть…
Покидая часть, захватил с собой и Митин вещевой мешок. В дороге, сев на него, услышал сухой хруст. Заглянул внутрь – оказывается, раздавил фанерную коробку. А в ней лежали две фотографии: Любаши и женщины средних лет с улыбающимися глазами – Марии Филипповны, матери Мити Градюшко.
7
И вот я снова дома. Смотрю на десяток убогих избушек, на каменную усадьбу, несколько хозяйственных помещений, составляющих селение, и думаю: какой насмешник окрестил его громким, звучным именем Дворец?
Новая жизнь докатилась и сюда. Люди часто собираются на митинги, собрания. Те, кого я знал раньше как «темных», необразованных, стали активными, боевыми. Дети учатся. Пожилые мужчины и женщины тоже зубрят алфавит.
Шесть парней было отправлено из Дворца на русско-германскую войну. Вернулся только Юрий Метельский. Теперь он обучает подростков стрельбе.
Каждый из односельчан считал своим долгом навестить меня. Я еще не здоров, больше лежу. Когда заходят очередные гости, ищу глазами Любашу. Но ее все нет.
Позже мать объяснила:
– Стесняется, вот и не идет.
– Как стесняется? Почему?
– Да так. Радкевич снюхался с кулаком Маричем. Вместе в лес подались, бандитами стали. Кто за Советскую власть, тех убивают. Марич у них главный, Радкевич и старший сын его, Ленька, вроде помощники… А остальные братья Любаши в Красной гвардии. Михаил под Бобруйском погиб, Александр ранен.
«Как все перемешалось, – подумал я. – Отец против сыновей идет».
Мать продолжала сыпать соль на мою рану:
– Петро запретил Любаше бывать в Городище у большевиков. Грозился задушить, если ослушается.
Я стиснул зубы, встал, взял палку и направился к двери.
– Куда? – испугалась мать. – Лежи, слаб ты еще.
Я ничего не ответил. Хлопнул дверью.
Мороз стоял сильный. Гулко трещал лед на реке, потрескивали деревья. На западе опускалось к горизонту красное, холодное солнце. На березовой арке у входа в усадьбу лениво шевелилось на ветру покрытое толстым слоем инея Красное знамя. Мне было известно, что принесла его из Бобруйска Любаша.
Анисья Степановна открыла дверь и, испуганная, застыла на пороге.
– Любаша дома?
Она отрицательно покачала головой.
– Где же?
– Не знаю.
Мы стояли в сенях. Из хаты послышались сдержанный говор, тихий звон посуды, бульканье.
– У вас гости?
Анисья Степановна нервно передернула плечами, быстро замотала головой.
«Петро пришел. И не один», – мелькнула у меня мысль. Действительно, послышался пьяный голос Радкевича:
– Анют-а-а, чего застряла?
Анисья Степановна приложила палец к губам:
– Уходи, Степа, скорее. Они убьют тебя…
Мне стало не по себе. Сердце неприятно защемило. Надо бы бежать, но постеснялся.
– Уходи…
Договорить она не успела. Открылась дверь, и на пороге показался Радкевич. Его помутневшие глаза округлились:
– Здравствуй, Степан. Заходи, комиссар, гостем будешь.
– Отвяжись от него, треклятый, – обругала Петра жена. – А ты, Степа, иди домой. Любаша в Бобруйск уехала.
– Постай, браток! – обеими руками вцепился в меня пьяный Радкевич. – Или испугался?
Ложный стыд… Как часто он подводит, особенно не искушенных жизнью юнцов! Движением плеча я оттолкнул Петра и вызывающе бросил ему в лицо:
– Не боюсь я вас. Могу зайти.
В избе за столом сидели еще два полупьяных врага – Марич и Ленька. Я чувствовал, что Радкевич из-за моей спины подает собутыльникам немые знаки. Те в ответ понимающе кивали.
– Почему шапку не снимаешь, коль в избу зашел? – грубо спросил Ленька, оценивая меня долгим пренебрежительным взглядом.
– Жидам продался, потому и не снимает, – заметил Марич, скривив губы.
На скамейке рядом с Маричем лежал обрез. Вот бы завладеть им!
– Ленька, налей ему большую, – буркнул Радкевич.
Ленька протянул мне кружку с самогоном.
«Что будет, то будет, – решил я, – но трусить не стану» – и грубо отстранил руку пьяницы.
– Отказываешься?! – чуть не задохнувшись от злости, спросил Марич. Он поднялся, выпятил грудь. – Отказываешься, сволочь? – переспросил он еще строже. – А ну-ка скажи.
– Отказываюсь, – ответил я твердо, стараясь показать, что не боюсь их. Это мне показалось недостаточным, и, задрав голову, я бросил: – С бандитами пить не буду!
Первый удар получил от Леньки. Размахнулся, чтобы ответить, но не успел: Марич стукнул меня обрезом по голове. Я упал и уже словно сквозь сон слышал, что происходило вокруг.
– Пристрелить его, что ли?
Анисья Степановна вскрикнула.
– Тсс, стерва! – заорал на нее Марич.
– Уходи, пьяная рожа! Я тебя ненавижу, ненавижу! – закричала женщина в истерике. Затем бросилась к мужу: – Петро, чего молчишь? В твоем доме человека убивают, ребенка еще, сироту…
– Хватит, Анюта, – оборвал ее Петро. – Не убьют! Но надо проучить, чтобы не лез. – Он подошел ко мне, нагнулся. – Слышишь, вставай!
Я не шевельнулся. Мне было хорошо, будто погрузился в теплую мягкую перину.
– Запомни, – услышал я грозный, предостерегающий голос Марича. – Расскажешь, где был, – каюк! Хату сожжем, семью перестреляем…
Сильные руки подняли меня. В нос ударил запах махорки и самогонного перегара. Скрипнула дверь. Залаяла собака. Потом снег оказался в ушах, во рту, в ноздрях. Стало необыкновенно тихо… Открыл глаза: надо мной темное небо, ни одной звездочки. «Потеплеет», – обрадовался я.
Хочется спать, а меня тормошат. Пришел фельдшер. Я его знаю, это друг Синкевича. Они вместе отбывали ссылку.
– Как поживает Михаил Иванович? – спрашиваю.
Фельдшер смотрит в сторону, кому-то улыбается.
Подходит Синкевич. Он, как никогда, серьезен, озабочен.
– Кто это тебя так разделал? – спрашивает.
– Марич, Радкевич, Ленька…
– Я так и думал, – говорит он фельдшеру и снова обращается ко мне: – Скорее выздоравливай, Степа, важные дела ждут.
8
Ночью бандиты подожгли нашу хату. В борьбу с огнем вступили все соседи. Командовал людьми Юрий Метельский. В потрепанной, видавшей виды солдатской шинели, без головного убора, в серых с темными заплатами валенках, он указывает, какой именно очаг нужно в первую очередь ликвидировать. Распоряжения его четки, ровны, спокойны.
Юрий Метельский был на несколько лет старше меня, дружил с моим братом Сергеем, тем, которого называли грозой морей. В двенадцать лет он потерял отца, в шестнадцать – мать. На его попечении остались братишка и две сестренки. Работал он много, но по ночам ухитрялся еще читать запрещенные книжки, которые кто-то, может быть Синкевич, ему доставал.
У нас Юрий бывал редко, разве только в праздники, – у него просто не было свободного времени. Но когда приходил, то казалось, в доме становилось светлее и теплее. И сам он был веселый, жизнерадостный. Не сломили парня ни нужда, ни тяжкий труд.
Моя мать хвалила его:
– Юра, гляжу я на тебя и думаю: больше всех ты мучаешься, а нос не вешаешь. Молодец, и только.
– А зачем плакать, разве слезами горю поможешь? Я верю, придет солнце и к нашим оконцам. Не будет жилинских, журавских и прочих эксплуататоров.
– Думою камня с пути не своротишь.
– Тот камень не думою, а руками, грудью столкнем с дороги…
Когда началась война, Юрия призвали в армию. А через два года его судил трибунал за антивоенную пропаганду. Юрий знал, что его ожидает смерть, но вел себя на процессе очень смело.
– Солдат Метельский, – спросил председатель суда, – что вы можете сказать в свое оправдание?
– Мне оправдываться нечего. Только за лето, да будет вам известно, господин председатель, наша армия потеряла шестьсот тысяч убитыми и ранеными. Пусть оправдываются те, кто повинны в этом.
Судья снял пенсне, протер платком, и, снова водрузив на место, пристально посмотрел на стоявшего перед ним солдата.
– Так-с, – протянул он, покачав головой. – Вы для армии опасный человек.
Приговор был короток:
«За большевистскую агитацию среди солдат в военное время, за призывы к неповиновению Метельского Юрия Матвеевича расстрелять. Но, принимая во внимание боевые заслуги подсудимого, смертную казнь заменить направлением в штрафной батальон».
…Осень шестнадцатого года. На скамейке минского городского парка под стройной елью сидят двое. Рядом с Метельским – круглолицый молодой человек с темно-карими глазами.
– Скоро произойдет революция, – тихо говорит собеседник Метельского, пощипывая свою реденькую бородку. – Война, начатая правительством, будет закончена народами. Лишь в этом случае наступит справедливый, демократический мир. Лозунг большевиков: «Долой империалистическую войну! Да здравствует война гражданская!» Вы меня поняли?
– Очень хорошо понял, товарищ Михайлов, – отвечает Юрий.
Прощаются. Расходятся в разные стороны. Метельский вдруг останавливается и провожает коренастого подтянутого военного, с которым только что беседовал, долгим, внимательным взглядом.
– Будет революция, – шепчут его губы.
Я не собираюсь интриговать читателя, поэтому сразу скажу, что под именем Михайлова был не кто иной, как Михаил Васильевич Фрунзе. Он служил в штабе Десятой армии и по заданию партии большевиков сколачивал нелегальную военную революционную организацию.
Замечательный это был человек. Я позволю себе еще рассказать о нем, причем уже не со слов Метельского. Мне самому выпало счастье видеть его и разговаривать с ним, но об этом позже.
А сейчас о Метельском. Уже через год он становится одним из вожаков 623-го полка. Того самого, который совместно с красногвардейцами закрепился в Орше, парализовал действия Кубанской казачьей дивизии и не пропустил на Петроград и Москву ни одного контрреволюционного эшелона.
После изгнания из Белоруссии корпуса Довбор-Мусницкого Юрий возвращается домой…
Наконец огонь побежден. У нашего дома сгорели только крыша и одна стена. Народ постепенно расходится.
Я еще слаб, ничем помочь не могу. Чтобы не путаться под ногами, прислонился к забору соседнего дома.
Слышу шаги. Подходит Метельский. Я пожимаю ему руку:
– Спасибо.
– Не за что, – отвечает он. – Если бандитов не переловим, завтра мою хату тушить будешь. Надо в центр ехать, посоветоваться там, как быть.
Вскоре Метельский сколотил молодежный отряд для борьбы с бандитами. В него вошли юноши и девушки Дворца, деревни Заполья, местечка Городище. Но враг в Синем Бору был сильнее нас, лучше вооружен, Три раза пытались мы наступать, и все безуспешно.
Тогда Юрий решил применить хитрость. Часть отряда оставил на опушке леса. А с остальными бойцами переправился на противоположный берег реки, чтобы ударить по банде с тыла, откуда она меньше всего ждала нападения.
Мне с двумя парнями приказал наблюдать за домом Радкевича и распорядился:
– Если кто из семьи Петра в лес направится, не задерживайте, но следуйте за ним.
Стали наблюдать. Проходит час, другой. В хате Радкевича будто вымерло все. Но вдруг дверь открывается и на пороге появляется Любаша! С корзинкой. Заметила нас, на меня взглянула так, будто впервые видит, и, обогнув соседнюю избу, направилась по дороге в лес.
Что же это такое? Неужели Любаша заодно с бандитами? Можно было допустить, что она перестала помогать большевикам. Такое еще понятно: Синкевич мог просто не доверять дочери бандита. Но помогать врагам Советской власти, это уж слишком! И корзина. В ней, очевидно, продукты. Не помня себя, я поднял винтовку.
– Ты с ума сошел! – удержал меня парень из Заполья.
– Убью!
– Приказ забыл?
Начинаю рассуждать: если убью Любашу, то нарушу приказ командира, этого, знаю, делать нельзя. Но гнев ищет выхода. А если… если дать ей пощечину? Бросаюсь вдогонку. Любаша ускоряет шаги.
– Стой, – кричу, прикладывая винтовку к плечу. – Стой, стрелять буду!
Девушка останавливается. Ждет, пока подойду.
– Чего тебе? – спрашивает с легкой иронией.
Ворочаю челюстями, скриплю зубами, а язык не слушается. Синие глаза Любаши начинают излучать знакомый мне теплый мягкий свет.
– Стреляй, если у тебя право на это есть. Только, по-моему, приказа задерживать меня не было.
Сбитый с толку, я не знаю, что предпринять, гляжу на нее выжидающе.
– Дурачок, – показывает она кончик языка и уходит.
Мне вдруг все стало ясно. Любаша вошла в доверие банды и помогает нам.
Группой, оставшейся на этом берегу, командовал фельдшер, тот самый друг Синкевича, который лечил меня. Предупрежденный нами, он подал знак, и все вслед за Любашей бесшумно углубились в лес. Пересекли небольшую поляну с низким кустарником, обошли высохший пруд. Любаша остановилась. Поставила корзину и, заложив четыре пальца в рот, лихо несколько раз свистнула. Ей ответил свист из лесу.
– Ложись! – тихо скомандовал фельдшер.
Мы залегли недалеко от Любаши и видели ее хорошо. Она кого-то ждала. Спустя минут пять показался человек. Он фамильярно ущипнул девушку за щеку и поинтересовался новостями.
– Новости плохие, – ответила она. – Из Дворца сюда движутся войска с пушками…
– С пушками? – вытянулось лицо бандита. – Ты точно знаешь, что у них пушки?
– Сама видела. Шесть штук. Мама послала меня предупредить вас.
– Тогда скорее идем! – сказал бандит и, повернувшись, побежал назад, видимо, к своему лагерю.
Фельдшер снова подал команду, и мы ускоренным шагом двинулись за ним.
Вышли к открытой поляне. Видим, бандиты туда-сюда мечутся, как табун диких лошадей, застигнутых в степи грозой. Сбились в кучу.
– Огонь!
Дружно стреляем. С противоположной стороны поляны в бой вступает группа Метельского. Бандиты отстреливаются вяло.
Любаша вдруг появляется на коне в гуще мечущихся врагов. Серик – лошадь Марича – взвивается под девушкой на дыбы, круто поворачивается на задних ногах.
– Быстрей, быстрей, – кричит она бандитам. – Подходит полк красногвардейцев, – и размахивает наганом.
У меня сперло дыхание: они же убьют ее!
Марич устанавливает пулемет. Ему помогает Радкевич. Целюсь в них, но сразу не попадаю. Пулемет дает две короткие очереди, потом захлебывается. Марич комично подымает вверх руки и, перед тем как уткнуться лицом в траву, почему-то отбегает в сторону.
К пулемету подскакивает Любаша.
– Не трогать! – выкрикивает она, наставив дуло на обернувшегося к ней отца.
Одно мгновение девушка борется с собой. Одно мгновение. Я вижу презрение в ее устремленных на Радкевича синих глазах. Звучит выстрел – и Петро падает.
…Банда разгромлена. Лес покидаем с песнями. Впереди колонны идут Метельский и Любаша. Издали наблюдаю за ними. Задаю себе вопрос: мог бы я совершить такой самоотверженный поступок, как Любаша? Хватило бы у меня самообладания и воли, если бы потребовалось убить предателя-отца?
Метельский подзывает к себе фельдшера. Тот достает из санитарной сумки пузырек, подает Любаше. Она нюхает.
Когда моя шеренга проходит мимо них, Юрий кивает мне. Выхожу из строя.
– Степа, – говорит Метельский, – отведи Любашу домой. Ей плохо.
У девушки измученное лицо, болезненный вид. Она дрожит мелкой дрожью, так что зубы выбивают беспрерывную дробь.
– Домой? – переспрашиваю.
– Ну да, домой. К себе домой, – объясняет Метельский. – Вечером я отвезу ее в Бобруйск. Здесь ей оставаться опасно.
Колонна уходит. Мы остаемся вдвоем. Я вскидываю винтовку на плечо и беру Любашу под руку.
– Пошли, – говорю как можно ласковее. Для утешения ничего подходящего подобрать не могу, кроме довольно неудачной стереотипной фразы: – Не расстраивайся, всякое в жизни бывает.
Девушка освобождает свою руку, останавливается, глядит на меня в упор:
– Что бывает?
– Всякое…
По ее дрожащим губам пробегает улыбка:
– Чудак!
Понимаю, она смеется надо мной. Ну и пусть! Только бы отвлеклась от мыслей о случившемся в лесу.
Шагаем молча. Вдруг Любаша спрашивает:
– Думаешь, каюсь, что убила отца? Нисколько. Только мать жаль. Она не поймет. А мне, Степа, очень обидно было: с кем он связался? С кулаком Маричем! Против кого пошел? Против таких же, как сам, батраков, против революции. Кого защищал? Помещика Жилинского!..
Я невольно замечаю, что Любаша стала говорить, как Метельский: ставит вопросы и сама отвечает на них.
– Степа, а ты будешь приезжать ко мне в Бобруйск?
– Конечно.
– Метельский тоже обещал. А правда, Степа, он хороший человек? – И, не ожидая моего ответа, продолжает: – Умный, настоящий большевик. Про него Синкевич говорит: «Гордость нашей партии»…
Вечером я проводил Любашу с Метельскпм до Заполья. На обратном пути решил проведать Михася Горошка, с которым в свое время работал у Марича. Тогда мы с Митей Градюшко недолюбливали его. Он был старше нас всего лет на пять-шесть, но разговаривал тоном наставника. И жизненное кредо его: «Без хитрости и обмана не проживешь» – нам претило. Твердо придерживаясь этого правила, он избежал мобилизации на германский фронт и во время войны обзавелся небольшим хозяйством. Хотелось узнать, как он теперь живет, не стал ли сознательнее.
Еще в сенях почувствовал, что в доме веселье, оттуда слышались голоса, смех, звон посуды. Открываю дверь и подаюсь назад – комната полна народу. Оказывается, здесь свадьба. Михась женится. Он увидел меня, подскочил. Сразу окружили гости, усадили за стол. Чарку наливают. Отказываюсь. Как неприятно: вокруг кровь льется, а тут пьянствуют!
– Не обижай невесту, – просит подвыпивший жених и чуть не плачет.
Гости поддерживают его:
– Милый, быть на свадьбе да не выпить – грешно…
– Пей, чтобы курочки велись, чтобы пирожки пеклись.
От одного запаха водки у меня кружится голова.
– За жениха и невесту!..
Невеста мне нравится. Интересная. Она берет меня за локоть, заглядывает в глаза и обращается на «вы»:
– Выпейте, вы уже взрослый!
За это я готов был ее расцеловать. Взрослый! Конечно, мне без малого семнадцать!..
Беру из ее рук стакан, выливаю в рот содержимое. С непривычки обжигает горло, печет в груди. Но мне хочется выглядеть старше. Подносят второй стакан, выпиваю и его.
Конечно, быстро захмелел. Невеста пригласила танцевать. Отказался:
– При оружии нельзя.
– Так бросьте винтовку.
Бросить винтовку?! Ишь чего захотела. Меня взорвало. Этим людям все одно: есть революция, нет революции. Стукнул кулаком по столу:
– Граждане, вы… сволочи! И я тоже!.. Люди за Советскую власть жизни свои отдают, а мы тут гуляем… Позор!
– Заберите у дурака оружие! – советует кто-то жениху.
– Разой-дись! – срываю винтовку с плеча, – разойдись, стрелять буду!
Поднялся визг, гвалт. Все шарахнулись кто куда. Я победным шагом, пошатываясь, направился к выходу.
От Заполья до Дворца километра два. Первую часть пути до бугра, где Птичь делает крутой поворот, я шел довольно медленно. И голова отяжелела, и одеревеневшие ноги плохо слушались. Но только поднялся на бугор, хмель с меня сразу сошел: со стороны имения услышал истерические женские крики, одиночные хлопки выстрелов. Я кинулся туда сломя голову.
Прибежал и увидел жуткую картину. Враги жестоко отомстили Метельскому за разгром банды. Дом его догорает. Но этого кулачью казалось мало. Они открыли стрельбу, не позволяя родным Юрия вырваться из горящего дома. Милиционерам удалось отогнать бандитов, но злодейство уже было совершено. В пламени пожарища сгорели брат и сестра Метельского.
Юрий вернулся через день. Я и поныне вижу его убитое горем лицо, слышу его слова:
– Ты считаешь себя виновным, Степа? Может быть, в некоторой степени ты действительно виноват. Но главную ответственность я должен взять на себя… Партия большевиков с первого дня революции призывает нас к бдительности. Враг, говорит она, хитер, коварен. Сам он никогда не сдается и будет мстить до последнего вздоха. Запомни это, Степа!
9
Проснулся я почему-то позже обычного. Дома никого не было, а с улицы доносились взволнованные голоса. Что бы это могло значить?
Быстро оделся, вышел. У соседней избы, смотрю, собралось все население Дворца – и стар и млад. Шум, гам стоит немыслимый. Несколько человек говорят одновременно, отчаянно жестикулируя, перебивая друг друга. По отдельным словам, которые удалось разобрать, понимаю: случилось что-то страшное!
На стене избы замечаю белый листок. Направляюсь к нему и еще издали читаю слова, набранные крупным шрифтом: «Социалистическое отечество в опасности!».
Вот, оказывается, в чем дело! Германское правительство не желает мира, немецкие генералы собираются задушить нашу революцию и снова посадить нам на шею разных жилинских да Журавских. Думают, раз царская армия больше не существует, а советская еще не создана, значит, нас можно взять голыми руками. Дудки! Не выйдет! Мы уже сами научились оружие в руках держать!
Пока я читаю листовку и размышляю, в толпе понемногу наступает тишина. Тут же слышится, как всегда, спокойный, тягучий голос дядюшки Егора:
– Граждане-товарищи! Тут вот Юра… товарищ Метельский, правду говорил, что все мы супротив злодеев пойдем. И я тоже. А почему? Потому что не за царя, а за свою народную власть. Раньше царь Николай от народа правду скрывал? Скрывал. А Ленин от нас секретов не секретничает. Он прямо, по-военному, говорит, что к чему. Вот и выходит, граждане-товарищи, должны мы сказать товарищу Ленину: «Дорогой наш советский начальник, командуй нами, а мы за тобой в огонь и воду пойдем!»
Дядюшка Егор перевел дыхание, оглядел односельчан и продолжал:
– Я, граждане-товарищи, сам почитай что с Лениным разговаривал. Прихожу, значит, к тому ходоку, что из-под Слуцка. Спрашиваю…
– Хватит, Егор, сколько можно! – широко зевает подкулачник Бантыш.
Дядюшка Егор смотрит на него осуждающим взглядом, качает головой:
– Тот, кто про Ленина слушать не хочет, тот самая настоящая контра, и больше ничего. Да, – поворачивается он опять к сходу, – так вот, прихожу я к нему, к ходоку, и задаю такой вопрос: «Скажи мне, человек, ты на самом деле Ленина видел или брешешь, брешешь да не поперхнешься?» Он крестится: «Видал, говорит, ей-богу, даже разговаривал с ним. Ленин, говорит, сильно простой. Про семью выспрашивал, про детей, корову имею ли». – «А может, я это снова ему, то был не Ленин?» Ходок обратно крестится: «Провалиться мне на месте. Беспременно он!» Граждане-товарищи! Кто за Ленина, прошу голосовать. – Перед лесом поднятых рук дядюшка Егор довольно улыбается: – Вот какое оно дело.
Было это 22 февраля восемнадцатого года…
Вскоре немецкие части вступили на территорию Белоруссии.
В Городище сформировался партизанский отряд. Командиром его стал Юрий Метельский.
Мы двинулись навстречу врагу.
На одном из участков фронта действовал немецкий бронепоезд. Нам поручили уничтожить его.
В тыл противника по разным дорогам Метельский решил направить несколько мелких групп. Он построил отряд и предложил выйти вперед тем, кто работал на железной дороге. Вышли пять пожилых железнодорожников и шестой – партизан Машера.
– Разве вы, товарищ Машера, на дороге служили? – Метельский пристально посмотрел на бывшего солдата.
Тот потупил глаза:
– Не служил, товарищ командир.
– Зачем же из строя вышли?
– Хочу бронепоезд взорвать.
– Это похвально, – заметил Метельский. – Однако командира обманывать не следует. Операция, товарищ Машера, предстоит рискованная.
– Потому и прошусь. Я уже имел дело с бронепоездом.
– Когда?
Вместо ответа Машера присел, скинул правый сапог, быстрым движением сорвал портянку: на ноге было всего два пальца.
– Самострел, товарищ командир. В шестнадцатом году меня против немецкого бронепоезда посылали…
– Так вы что, струсили?
Машера энергично замотал головой:
– Ничего подобного. Не струсил. Но за царя умирать не хотел. Другое дело сейчас…
Я попал в ту группу, что и Машера. Командовал нами пожилой железнодорожник с вздутой от зубной боли щекой. В течение всего пути он ни слова не произнес. Приказы отдавал взглядом.
– Болит? – каждый раз участливо спрашивал Машера. – У меня проволока есть, давайте выдерну.
Железнодорожник не отзывался.
– Зря мучается, – глубоко вздыхал Машера. Вид у него был такой, словно его самого беспокоила зубная боль. Я невольно подумал: «Добряк. Мягкосердечный человек. Такой и врага не убьет, пожалеет». Спрашиваю:
– Машера, ты на фронте стрелял?
– Как это на фронте быть и не стрелять? Все время на позиции торчал. Больше года.
– Сколько же ты немцев убил?
Наверняка он не знал. Может, много, а может, и ни одного. Не до того было, чтобы по пальцам считать: все время пришлось, как раку, назад пятиться.