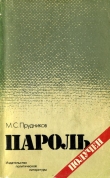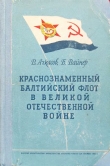Текст книги "Красные стрелы"
Автор книги: Степан Шутов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
– Ну и что же вам пишут? Почитайте, пожалуйста, если можно.
Якир опускается на траву рядом с бойцами. Подогнув ногу и обхватив колено руками, внимательно слушает.
– К нам в Чернобыль приехал на побывку дружок мой, на флоте сейчас служит, – начал рассказывать танкист, разворачивая письмо. – Во время отпуска с ним приключилась беда, попал в аварию. В больницу его взяли в тяжелом состоянии. Доктор посмотрел, говорит: нужна кровь для переливания. – Лимарченко разгладил на колене смятое письмо. – Так вот что отец по этому поводу пишет: «Узнали у нас на селе, что кровь матросу нужна, и все пошли в больницу. Не знаем, может, много ее нужно. Я тоже пошел, и сестра твоя Леся. Приходим, а у больницы полно людей. Доктор вышел на крыльцо, говорит: „Спасибо, товарищи, но ничего больше не требуется, кровь матросу дала наша медсестра“».
– Действительно интересное письмо, – согласился Якир. – Здесь, как видите, другая форма проявления любви народа. Мы, воины, на заботу трудящихся должны ответить отличной боевой готовностью. На западе сгущаются тучи войны. И наша задача – крепить бдительность, быть готовыми обеспечить мирный труд советских людей. – Командующий встал: – Посмотрим, готовы ли вы к этому…
В небо взвилась ракета. Танки роты пошли в «бой». Из моей машины И. Э. Якир наблюдал, как танкисты умеют водить, стрелять, взаимодействовать между собой, преодолевать препятствия. Он и сам садился на место механика-водителя, исполнял обязанности командира танка.
Прощаясь с нами, командующий сказал:
– Я доволен. Благодарю за хорошую службу, товарищи.
Могли ли мы в те минуты думать, что вскоре этот простой, душевный человек, один из крупных полководцев Красной Армии, будет объявлен изменником Родины? Лишь много лет спустя справедливость восторжествовала и мы узнали правду: Иона Эммануилович Якир оказался жертвой культа личности.
7
В конце тридцать девятого года белофинны спровоцировали войну. Я подал рапорт с просьбой направить меня на фронт. Получив вызов в Москву, тотчас же поехал прощаться с Марией Филлиповной.
Мы с ней сидим за столом, разговариваем, шутим. Я пока молчу об отъезде. Но на лице ее вдруг появляется рассеянное выражение.
– На фронт уезжаешь, Степа? – спрашивает.
– Почему вы так думаете?
Она грустно улыбается:
– На то я мать. Мать все видит.
Пришлось признаться.
– Отправляют или сам, добровольно идешь?
– Добровольно.
Крепилась женщина, крепилась, виду не подавала, что волнуется, но, когда стали прощаться, заплакала:
– Увидимся ли еще?
– Увидимся. Непременно, – утешаю ее.
Мария Филипповна и ребята провожали меня до трамвайной остановки.
– Обязательно пиши, – попросила она. – Чаще пиши.
– Каждый день буду писать, – ответил я торопливо, уже с подножки трамвая.
– И береги себя! Береги-и-и!..
Тяжело отдуваясь и выпуская белые клубы пара, локомотив медленно втягивал вагоны под стеклянную крышу вокзала. Я, не в силах дождаться остановки, выскочил на ходу. Спешил, надеясь в тот же день попасть в отправляющийся на фронт эшелон.
На привокзальной площади сел в такси:
– Браток, нажми, пожалуйста. Срочное дело.
Шофер понимающе кивнул головой и рванул с места.
Через полчаса, запыхавшись, вытирая платком вспотевший лоб, я уже стоял перед начальником, вызвавшим меня в Москву.
– Товарищ капитан, поедете в Среднеазиатский военный округ. Вы назначены командиром батальона в отдельную танковую бригаду, – сообщил он сухо, по-деловому. – Бригада стоит в городе Мары…
– Как же так? Разве вы не получали моего рапорта?
– Получил. Но вам, однако, придется выбыть к новому месту назначения. Так нужно. Понятно?
Понятно! Мне понятно, что напрасно я прыгал на ходу из вагона, напрасно шофер такси бешено гнал машину!
Не спеша направляюсь в кассу за билетом. Поезд отходит ночью. Куда деть свободное время?
Мары… Что это за город? Какой Колумб открыл его? Надо порыться в энциклопедии. Может, там есть справка о нем.
В библиотеке Дома Красной Армии беру тридцать седьмой том энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Он сообщает, что Мары «довольно благоустроенный город». В нем более шести тысяч жителей. Несколько церквей, молитвенных домов. Один врач, два фельдшера и акушерка. Ничего себе благоустроенный город, да еще после Киева!
– Дайте, пожалуйста, Большую Советскую, – прошу библиотекаршу, но тут же отказываюсь: – Хотя не надо. На месте выясню. Том издан несколько лет назад, а наши города меняют свой облик чуть ли не каждый час…
Против ожидания, Мары оказался красивым. Здесь узловая железнодорожная станция. Аэропорт. Завод. Электростанция. Четыре школы. Техникум. Парк культуры и отдыха. Две библиотеки. Больница, детские сады, ясли. Два кинотеатра…
Уже скоро я привык и полюбил городок, его жителей. И объяснить это не сложно: куда бы ни забросила тебя судьба, в каком бы краю Родины ты ни оказался, – всюду ты дома, всюду ты среди своих.
В Мары мне сразу бросилось в глаза гостеприимство жителей, чувство признательности, любви к русским. Бойцы и командиры части отвечали им тем же. У нас часто проходили встречи бойцов с молодежью, совместные концерты самодеятельности. Нам нравились задушевные песни туркменов.
Словом, все хорошо, кроме одного. Я не мог свыкнуться с местным климатом и с трудом переносил жару.
Летом в песках, на барханах занятия для меня превращались в настоящую пытку. Да и всем приходилось трудно. Часто жара достигала 50–60 градусов. Броня танков нагревалась так, что к ней нельзя было прикоснуться.
Но и это еще полбеды. Самым страшным испытанием были ветры. Необыкновенные, порывистые. Они поднимали тучи раскаленного песка, катили их по степи, швыряли из стороны в сторону. Во время такого ветра казалось, будто земля уплывает из-под ног и ты проваливаешься в бездонную пропасть. Горячая песчаная пыль запорашивала глаза, забивала уши, набиралась в нос и рот. Ветер обычно свирепствовал недолго, зато успевал натворить много. Танки, например, после песчаных бурь оказывались засыпанными, и их потом откапывали.
Но в Краской Армии действовал принцип «Трудно в учении, легко в бою».
Часто у нас проводились и ночные занятия. Тогда было прохладнее. Но темнота вызывала другое неудобство – появлялась опасность нападения скорпионов, фаланг.
Помню, как-то вечером в моей палатке шло совещание командиров. Все было спокойно. Вдруг вскакивает командир роты старший лейтенант Овчаренко и кричит:
– Ой, лишеньки! Ой, укусила! Правый бок отнимается.
Все бросились к пострадавшему. Один из командиров заметил фалангу.
Мне уже приходилось видеть, как поступали жители в таких случаях. Поэтому, недолго думая, в месте укуса я сделал бритвой два разреза крестом и выдавил кровь. Потом прижег рану спиртом.
Позже «встречи» со скорпионами стали довольно частыми, и многие поневоле сделались «хирургами».
Однажды к нам в лагерь пришел старый туркмен. Сказал, что хочет видеть командира. Я вышел на плац, где он стоял в окружении танкистов.
– Товарищ командир, – туркмен приложил обе руки к сердцу и отвесил поклон. – Я кольхос, болшая кольхос – понимай?
– Понимаю.
Туркмен сообщил, что его прислали односельчане. В песках водятся ядовитые, очень опасные змеи, и колхозники сочли нужным предупредить нас.
– Смотри, – он вытянул из-под халата убитую змею. – Надо покажи фсем, фсем, – обвел он вокруг себя рукой.
– Спасибо, – крепко жму руку старику. – Передайте колхозникам нашу горячую благодарность.
Туркмен обещает передать мои слова, но не уходит. С минуту молчит. Затем, испытующе взглянув на меня, быстро машет руками и принимается жужжать.
– Самолет, что ли?
– Нет. Ожидай ветер, – говорит старик. – Больно шибко…
– Знаем, – отвечаю ему. – Нам сообщили сводку погоды. Мы не боимся ветра. Танкисты учатся воевать в любых, самых трудных условиях.
– Корош, – соглашается туркмен. И, приложив руку к сердцу, откланивается.
8
Не было ни гроша – и вдруг алтын! Около месяца не получал писем, а тут неожиданно приносят целых три. Все приятные.
Директор совхоза из Дворца приглашает «хоть на денек» навестить сестру и заодно посмотреть его хозяйство. Пишет, что урожай ожидается хороший, удой молока рекордный и приплод высокий. Хозяйство соревнуется за республиканское переходящее Красное знамя.
Мария Филипповна зовет к себе. Просит: «Обязательно приезжай».
Из Молдавии пришла весточка от Саши Киквидзе. Его танковый батальон стоит у самого Днестра. Река ему нравится, но Кура все-таки лучше и больше. На целых сто четыре километра длиннее! «Голубоглазый эскулап», так он называет свою жену-врача, подарила ему маленькую грузинку.
Киквидзе заканчивает письмо тоже приглашением: «Отпуск бери и со всей семьей валяй к нам».
Зашел к врачу. Показываю ему письма:
– Как думаешь, – спрашиваю, – чье предложение принять?
– Чепуха! – машет он рукой. – Лучше на курорт езжай. В Сочи или Ялту. Полтора года ты у нас, а еще ни разу как следует не отдыхал!..
– За своим здоровьем лучше следи, – отшутился я. – Рабочий день давно кончился, домой пора, нечего тут штаны протирать. И не забудь: завтра воскресенье, после обеда жду на партию в шахматы…
Время позднее, а уходить из части не хотелось. По пути к дому я много раз останавливался.
На нашем стадионе заядлые футболисты гоняли мяч. Возле умывальника кто-то усердно занимался туалетом, наглаживал гимнастерки, пришивал воротнички. На эстраде собрались хористы и под аккомпанемент баяна разучивали новую песню. На лужайке, под деревом, группа танкистов смеялась над свежим номером «Крокодила».
Свернул на дорожку, ведущую к воротам. Впереди, понурив голову, руки за спину, прогуливался плечистый танкист. Я попытался со спины угадать, кто это. Иванов? Нет. Тот меньше ростом и уже в плечах. Может быть, Костомаров? Но Сергей не любит одиночества. Неужели он собирается «улизнуть» без увольнительной? Я тут же отогнал это нелепое обвинение. Наш батальон передовой и по успеваемости в учебе и по дисциплине. У нас вообще не было ни одного случая нарушения установленного порядка, тем более самовольной отлучки.
А пока я размышлял, танкист повернулся и все так же – взор в землю – пошел мне навстречу. Алмазов! Как же я не узнал одного из лучших механиков-водителей?
– Что-нибудь случилось?
Танкист вздрогнул от неожиданности, поднял глаза, сразу подтянулся:
– Ничего не случилось, товарищ капитан. Просто задумался.
– О чем же? Может, посвятите меня, если это не секрет, если здесь не замешана девушка.
Танкист слабо улыбнулся, отрицательно покачал головой:
– Какие у меня секреты, товарищ капитан! Просто после сегодняшних занятий по тактике не все в голове уложилось.
– А что такое? Ну-ка давайте присядем, – указал я на ближайшую скамейку.
Алмазов опустился рядом со мной и задумался, собираясь с мыслями. Потом поднял голову:
– Вот вы сегодня, товарищ капитан, рассказывали нам насчет форсирования реки. Когда я слушал вас, все было ясно, и пример привели понятный, ничего не скажешь. А уже после занятия я подумал: не всегда же будут благоприятные условия. Ну, а если, допустим, не окажется ни табельных переправочных средств, ни подручных? Что тогда? Значит, наступление сорвется?
Я слушаю и радуюсь. Приятно сознавать, что бойцы наши воспринимают изучаемый материал неформально, а творчески. Такие станут отличными специалистами.
Пока я беседую с Алмазовым, рассказываю о возможных неожиданностях в бою и инициативе танкиста, то и дело слышно:
– Разрешите присутствовать.
К нам подсаживаются новые и новые бойцы, в беседу включаются новые голоса. Оглянулся: собралось уже человек тридцать…
Домой я пришел далеко за полночь. Устал, но был счастлив.
Хотя и воскресенье, я встал рано. Побрился, надел форму и вышел посмотреть, как начался выходной в части.
День был солнечный. В небе ни облачка. Жара уже давала себя знать.
Соседи мои были чем-то встревожены. Особенно это заметно было по жене секретаря партбюро Кошелева. Всегда аккуратная, следившая за собой, сейчас она стояла в старом халатике, заспанная, непричесанная.
– Мария Никитична, добрый день, – поздоровался я. – Кошелев не собирается в часть?
– Его уже вызвали, – она подошла ко мне и тихо, полушепотом добавила – Война, говорят, началась…
Я поспешил в батальон.
Дневальный докладывает:
– Все в порядке. За ночь никаких происшествий не случилось. – И тоже по секрету: – Слухи ходят про войну, товарищ капитан. Но я думаю: провокация это! Сами знаете, всякие тут шаманы…
Со всех ног несусь в штаб. Дежурный срывающимся от волнения голосом сообщает горькую правду:
– Фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на нашу Родину. На рассвете гитлеровские самолеты бомбили Минск, Киев, Севастополь.
Уши слышат, сердце не верит. Неужели война? Какие только меры не предпринимали наша партия, правительство, чтобы избежать кровопролитной войны! А она все-таки вспыхнула…
Минск бомбили!.. Родной мой город. И Киев! Как-то там Мария Филипповна? Сколько горя принесет ей война! В Киеве и моя семья. Жена, дети. Галя все собиралась переехать ко мне, но из-за болезни матери так и не смогла выбраться…
Горькие мысли прерывает Кошелев. Он подходит и говорит с деланным спокойствием:
– Надо созвать митинг, – голос, однако, выдает волнение секретаря.
– Правильно, – поддерживаю его. – Всех собирай. И семьи…
Радио передает заявление правительства. В нем звучит твердая уверенность в победе.
У репродукторов весь батальон. Я смотрю на бойцов. Постепенно их лица светлеют. Они понимают: предстоит трудная борьба, враг силен, но победим мы.
Митинг был коротким. На трибуну один за другим поднимались рядовые, командиры. Вот выступает жена ротного Аня Овчаренко. Глаза ее воспалены от слез.
– Товарищи! Мы, женщины, просим, чтобы и нас, способных держать оружие, призвали в армию. – Она протягивает секретарю партбюро Кошелеву тетрадный лист: – Тут список пожелавших добровольно идти на фронт. Мы заявляем Гитлеру: «Настал твой черный день. Ты посеял ветер – пожнешь бурю!»
Эту молодую, внешне довольно интересную женщину многие у нас недолюбливали. Она всегда держалась особняком. Отказывалась от общественной работы, не посещала собраний жен командного состава, устраивала мужу скандалы из-за того, что тот «пропадает на службе больше положенного». Охотнее всего она говорила о модах, о танцах, о старых бульварных романах. Овчаренко, способный командир, честный коммунист, не раз жаловался:
– Люблю я жену, но тяжело с ней. Она по уши мещанка. И исправлению не поддается.
А вот теперь Аня просит отправить ее на фронт, произносит толковую речь! Удивлены ли мы? Нет. Угроза, нависшая над Родиной, пробудила в ней чувство патриотизма и ответственности…
9
Поступил приказ подготовиться в путь. Взять с собой разрешается самое необходимое.
В батальоне, конечно, все возбуждены. Танкисты радуются: едем на фронт!..
Накануне выступления произошел инцидент. Ко мне в кабинет врывается механик-водитель Ермолаев. В… трусах и майке. Сам раскрасневшийся, глаза горят.
– Товарищ капитан, – просит умоляющим голосом, – возьмите меня с собой. Не оставляйте здесь.
– Ничего не пойму, – отвечаю. – Что у вас за вид? И почему вы думаете, что вас оставят?
– Я из санчасти, – поясняет Ермолаев. – Доктор меня не берет.
Попросил врача к себе. Тот удивляется, увидев у меня своего пациента:
– Как вы здесь оказались, кто вам позволил удрать из лазарета? – И, повернувшись ко мне, говорит: – Температура у него. С эшелоном ему ехать нельзя.
– Да здоров я, вполне здоров, – горячо доказывает Ермолаев. – Разрешите сесть в танк, сразу докажу.
– Нет, товарищ Ермолаев, придется остаться, – строго говорю ему. – Выздоровеете, тогда и догоните нас.
– Как же догоню? Где я вас найду? Лучше я с вами поеду.
Кстати заходит Овчаренко. Ермолаев из его роты. Объясняю, в чем дело. Доктор пытается повлиять, видя, что я начинаю колебаться. Но Овчаренко назидательно говорит:
– И думать нечего. На войну едем, не на гулянки. Там не будет времени всякий раз температуру мерить. Там, товарищ доктор, даже убить могут.
Врач промолчал, только поморщился.
Я подумал, что разговор принял нежелательное направление. Нехорошо, что командиры в присутствии подчиненного пикируются.
– Ладно, – говорю Ермолаеву. – Сейчас идите в лазарет. Врач решит. Если можно будет, он позволит вам ехать с эшелоном.
Когда дверь за ним закрылась, доктор посмотрел на меня:
– Я все понял, товарищ капитан. Ермолаев поедет с батальоном…
Во время погрузки я увидел Ермолаева, работающего вместе со всеми. Подошел к нему:
– Как себя чувствуете? Температура держится?
– Никак нет, – ответил он бодро. – Температура в лазарете осталась.
Погрузка заканчивается. Подъезжает последняя машина с сухарями, концентратами. С горы мешков и фанерных ящиков спрыгивает молодой, высокого роста политрук с глубоким, недавно зарубцевавшимся шрамом на виске. На груди поблескивает орден Красной Звезды.
– Политрук Загорулько, – представляется он. – Назначен вашим заместителем по политчасти.
Пожимаю ему руку. Произношу то, что обычно говорят в таких случаях: «Рад», «Будем работать вместе», «Хорошо, что вас прислали» и прочее в том же духе. А про себя рассуждаю: «Не подеремся ли с ним? Найдем ли общий язык?»
Гляжу на него в упор. Простое, открытое лицо, которое не может не понравиться. Глаза мутно-зеленые с золотой россыпью. Но внешний вид иногда бывает обманчив.
– Вы, вижу, обстрелянный?
– Немного, – скромно отвечает Загорулько.
Рассказывает, что участвовал в финской войне командиром танка. Награжден за выполнение боевого задания. Бывал в переделках, горел, тяжело раненный, в машине. Долго лечился. Из госпиталя пошел на курсы политсостава…
Уже при первой встрече я заметил, что замполит немногословен. Потом этот вывод подтвердился. Политрук не любил громких фраз, с подчиненными разговаривал просто, как с товарищами. Говорил негромко, но как-то так убежденно, что сразу умел завладеть вниманием слушателей. Бывало, спор идет, танкисты шумят, друг друга перебивают, а послышится спокойный голос Загорулько – сразу все затихают. Это умение заместителя покорить слушателей, заставить слушать себя, признаюсь, вызывало у меня некоторую зависть, желание подражать ему.
Как-то, еще когда ехали на запад, я застал Загорулько в окружении танкистов. Тоже присел послушать, о чем речь идет. А беседа по тому времени оказалась довольно острой.
Говорил танкист Воскобойников, но при моем приближении вдруг смутился и замолчал.
– Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь, – поддержал бойца замполит. – У вас не должно быть неясных вопросов. Выкладывайте все, что волнует.
– Непонятно мне, товарищ политрук, – приободрился Воскобойников. – Нам все говорили: Красная Армия непобедима, в случае войны будем бить врага на его территории. А что получается? Фашист на нашу землю пришел. Теперь говорят: Гитлер напал на нас внезапно. Ну хорошо, внезапно, это верно, на то он и фашист. Но почему мы все отступаем и отступаем? Сколько можно?
Смотрю на бойцов. Глаза всех устремлены на политрука. Чувствуется, каждого задел за живое вопрос Воскобойникова. Наш уполномоченный особого отдела называет такие разговоры «пораженческими» – слово-то какое придумал! – и требует расстреливать тех, кто их ведет. Если он узнает о теперешней беседе, пожалуй, и Загорулько обвинит в подстрекательстве. Может, заодно и меня. А мне действительно многое из того, что происходит на фронте, непонятно. Мне тоже не безразлично, когда наши остановят врага.
Жду, что скажет Загорулько. А тот молчит. Задумался. Смотрит через головы танкистов в раскрытую дверь вагона, словно через пространство хочет разглядеть, что происходит там, на Западе, где идут тяжелые, кровопролитные бои.
Стоит неловкая тишина. Слышны шаги за вагоном. Издали доносится шипение паровоза, звон буферов.
Политрук наконец встряхивает головой, приглаживает сбившиеся набок волосы:
– Да, товарищ Воскобойников, вы вправе сейчас обвинять нас, ваших непосредственных начальников, и тех, кто выше, кто, например, первым пустил по свету фразу о чужой территории. Сердце болит не только у вас, но и у меня, надеюсь, у Филимонова, Алмазова, Грицюка, Алиханяна, у всех бойцов и командиров батальона.
Я поражаюсь: скольких танкистов знает уже мой заместитель!
– Вы правы, – продолжает между тем Загорулько, – когда ищете причины наших неудач не только во внезапности нападения фашистов. Да и сама внезапность, почему она оказалась возможной? Значит, проглядел что-то тот, кто обязан был заметить подготовку Германии к нападению на нас. Ведь если, например, военная часть на поле боя будет неожиданно атакована, как это следует понимать? А так: командир либо не сумел разведку организовать, либо неправильно оценил обстановку. Так и здесь. Кое-кто у нас оказался загипнотизированным подписью фашистов под договором о ненападении Германии на СССР.
Откровенно говоря, слова Загорулько вызвали у меня противоречивые чувства. Прозрачный намек на ошибки командования Красной Армии воспринимались как святотатство. До сих пор я привык верить в непогрешимость военного руководства. Внушил себе, что раз оборону страны возглавляет Сталин, значит, ошибок быть не может: он все знает, все видит, все предусмотрит. Даже если подчиненный проглядит что, Сталин непременно это обнаружит и поправит. В то же время смелые слова замполита и понятный мне пример из тактики посеяли некоторые семена сомнения.
Раздумывая, я все время прислушивался к разговору в вагоне.
– Товарищ политрук, а правду говорят, что перед войной Гитлер подтянул к нашим границам двести дивизий? Неужели в Москве об этом не знали? – спрашивает Ермолаев.
– Как не знать, обязательно знали. Только думали, будто немцы оттягивают войска с Западного фронта на отдых. В общем, Гитлер перехитрил нас.
Опять неловкое молчание.
Загорулько оглядел всех, улыбнулся:
– Все же носы вешать незачем. Правда, враг имеет сейчас преимущество и успех. А вспомните, как в гражданскую войну и во время интервенции четырнадцать государств на нас шло. В том числе и Англия, Америка. Тогда Красная Армия, молодая еще, тоже вначале отступала, а потом собралась с силой и разгромила врага. Теперь Красная Армия лучше вооружена и организована. Так что фашисты тоже будут биты…
Слова политрука доходят. Я вижу, как лица бойцов светлеют. Старшина Дорянский затянулся папиросой, пустил дым кольцами, глядя на них, задумчиво сказал:
– Русского расшевелить нужно, а там только держись! Ничего, братцы, мы фашистам еще покажем! Они Минск мой бомбили. Так что у меня с Гитлером личные счеты…
Когда мы с Загорулько переходим в свой вагон, в тамбуре он останавливает меня:
– Как вы думаете: должен доктор говорить больному правду о грозящей ему опасности или лучше скрыть это?
– Смотря какому больному.
– Вот именно: смотря какому больному! Наш боец сильный духом. Вот почему я считаю, что бойцу надо говорить только правду. Это позволит ему лучше морально и физически подготовиться к борьбе.
10
На одной из стоянок к нашему вагону подошли два пожилых узбека, просят:
– Пожалуйста, возьмите нас с собой.
Спрашиваю:
– Куда вас взять и зачем?
– Мы знаем, что вы на фронт едете, – говорит один из них. – У нас сыновья тоже воюют. На войне чем больше людей, тем лучше. – И опять просит: – Пожалуйста, возьмите. Заслуги у нас есть, вот медали за строительство Ферганского канала.
Долго пришлось доказывать, что вопрос о направлении их в армию решает местный военкомат. Если в них будет нужда, вызовут.
– Вы лучше побольше хлопка давайте, – говорит Загорулько. – Этим поможете фронтовикам бить фашистов…
В тот же вечер, когда мы стояли на небольшой станции между Ташкентом и Бухарой, прямо к эшелону подкатил грузовик. Из кабины выскочил шустрый человек.
– Подарочек вам, товарищи, от колхоза имени Буденного! Два десятка баранов привез.
– Спасибо, – отвечаю ему, – но нам ничего не надо. И вообще, по какому праву вы разбазариваете общественное стадо?
Собеседник обиделся. Бросил на меня возмущенный взгляд:
– Вы меня, наверное, не за того приняли. Я – председатель колхоза. А на передачу Красной Армии баранов есть специальное постановление правления. Пожалуйста, – протягивает мне бумагу с печатью.
Читаю:
«Постановление правления колхоза имени Буденного.
Выделить для отправляющихся на фронт частей нашей любимой Красной Армии (не в счет государственного плана) безвозмездно сто голов баранов».
– Понятно? – кинул на меня торжествующий взгляд председатель. – То-то. Надо сначала узнать, а потом обвинять. Ну берите быстрее.
– Зачем нам ваши бараны? Нас хорошо кормят. Так что спасибо, не возьмем.
Туркмены перехитрили нас. Пока мы толковали с председателем, его люди погрузили на одну из платформ два десятка жирных баранов с кормом на дорогу. После над старшиной Десятниковым, разрешившим погрузить баранов на свою платформу, танкисты подтрунивали:
– Теперь у тебя, Десятников, машина на четыреста лошадиных сил плюс двадцать бараньих…
Когда стали приближаться к Москве, мы почувствовали дыхание фронта.
На одной из станций паровозы набирали воду. Была объявлена часовая остановка. Рядом стал прибывший с запада поезд с детьми. Из разговоров с молодой учительницей, сопровождавшей малышей, мы узнали, что едут они из Львова.
– За нашим эшелоном до самого Тернополя гнался фашистский самолет, – рассказывала она. – Бомбил, обстреливал и в конце концов поджег три вагона. Погибло много ребят.
Танкисты, слушавшие ее, негодовали.
Постепенно у эшелона с детьми собралась большая толпа. Пришло много местных жителей. И вдруг радостный голос:
– Лена!
Старший сержант Игнатов, наш боец, разглядел в массе людей свою жену.
Чего не случится во время войны! Оказывается, Игнатова жила в приграничной зоне. В начале войны эвакуировалась и задержалась как раз на этой станции. Теперь она работала стрелочницей, и ее дежурство совпало с временем стоянки нашего эшелона. Не виделись супруги давно, было у них о чем поговорить, но оба растерялись от радости и стояли друг против друга, словно немые. Первым пришел в себя старший сержант.
– Лена, – говорит он и кивает на окно вагона, из которого глядят двое малышей, – возьми их к себе. Пусть растут будто наши дети…
– Хорошо, – быстро отвечает женщина. – Я возьму их ради тебя. Возвращайся, Гриша, с победой.
Примеру Игнатовой последовали другие женщины поселка. Я видел, как многие с материнской любовью брали на руки детишек и уносили домой.
А где мои ребята? Может, и они находятся сейчас в таком же эшелоне? Я отвернулся, чтобы подчиненные не заметили моей слабости…
– По вагонам! – звучит команда.
И снова мчимся на запад. Куда? Точно никто из нас не знает.
В Брянске все пути забиты эшелонами. На платформах – танки, пушки, понтонные лодки, железные пролеты сборных мостов. Много составов, груженных заводским оборудованием. Наш поезд загоняют в самый дальний тупик.
Овчаренко по этому поводу острит:
– Хотят познакомить с «мессершмиттами».
Направляюсь к военному коменданту станции. Зал, где он сидит, набит военными. Узнаю, что многие торчат здесь вторые сутки.
Комендант – грузный, рыжеволосый майор с ястребиным носом на плоском лице. Он разговаривает по телефону и одновременно усталым, охрипшим голосом отвечает наседающим на него людям.
Одному полковнику посчастливилось. Называет свою часть и тотчас получает маршрут.
– До свидания, товарищи! – кричит он, убегая.
Подходит моя очередь. Докладываю.
– Очень хорошо, – отвечает комендант, рассматривая меня воспаленными от бессонницы глазами. – Ваш эшелон готов к отправке? Прекрасно! Возьмем на карандаш, запишем, сообщим.
– Записывайте, сообщайте – это ваше дело. А мне, товарищ майор, дальше двигаться надо.
– Надо, – согласился он. – Воем надо. Я сам с удовольствием поехал бы с вами, да нельзя! И вам пока придется обождать.
– Почему?
Звонит телефон. Комендант с кем-то ругается. Слушает и снова ругается:
– Под суд отдам, слышите? Под суд! – швыряет трубку на рычаг и тем же рассерженным голосом отвечает на мой вопрос: – Потому, что война не игра в шахматы, понимать надо!
– Я не шахматист, товарищ комендант. Мне на фронт надо!
– Ничего не будет, – уже успокоившись, говорит майор. – Вот сейчас запишу, доложу о вас и буду ждать указаний. Прикажут отправить, ни на минуту не задержу.
Его спокойствие начинает меня раздражать.
– Хорошо, звоните. Сообщите, что прибыли танки. Танки! Понимаете – танки!
– Следующий, – дает он понять, что разговор окончен, но продолжает выговаривать мне: —Ну и народ эти танкисты! Упрямые. Это не так уж плохо, однако надо меру знать. – Снова поворачивается ко мне: – Идите отдыхать, товарищ капитан, вместо себя пришлите связного.
– Связной со мной. Лейтенант Козлов.
– Прекрасно! – подает мне комендант руку, а другой берет телефонную трубку. – Алло! Слушаю. Есть. Слушаю. Будет выполнено. – Руку мою не отпускает до тех пор, пока не кончается разговор по телефону. – Берегите, капитан, нервы. Они пригодятся для более серьезной атаки, чем на коменданта станции.
Оставляю лейтенанта Козлова связным, а сам возвращаюсь к эшелону. Огибаю один состав, другой и наталкиваюсь на майора Михайлова. Это мой друг, командир батальона нашей же бригады. Его поезд прибыл вслед за нашим. Обнимаемся, целуемся, словно не виделись целый век, а в действительности расстались всего девять дней назад.
11
Четвертые сутки стоим в тупике. Бойцы недовольны. Брюзжат: «Другие прибыли позже нас и уже поехали, а мы все стоим».
Трижды в день хожу к коменданту. Уже не спорю. Надоело. Да и майор начинает мне нравиться. За эти дни он еще больше осунулся. Глаза у него совсем красные, голос охрип и напоминает шипение гусака. Но майор выдержан, спокойно переносит бесконечные шумливые наскоки начальников эшелонов. Даже находит силы шутить.
– А, Шутов! – встречает он меня каждый раз. – Здравия желаю! Выспался? Завидую. Мне, знаешь, все некогда. Начальство говорит: «Выспишься, когда будешь комендантом Берлина». Не верю: комендантом Берлина меня не назначат.
Украдкой наблюдаю за ним и думаю: «Сколько оптимизма в человеке. Что в Берлине будет советский комендант, он уверен. Сомневается только, назначат ли его на эту должность…»
Хорошо, что немецкая авиация не навещает Брянска. Правда, разведчик как-то появлялся вблизи станции, но не успел развернуться – зенитчики его сбили.
– То, что фашисты не бомбят эту важную узловую станцию, говорит о многом, – с удовольствием отмечает Загорулько. – План «блицкриг» начинает давать осечки.
Не согласиться с этим нельзя. Авиация Гитлера понемногу начинает выдыхаться. Правда, танковые армады еще пробивают наши заслоны, отбрасывают их и идут все дальше и дальше на восток.
В сводках Совинформбюро появилось новое направление – смоленское. «На смоленском направлении наши части отбили новую атаку противника», – сообщило радио. Туманно! Где это – западнее Смоленска или восточнее?