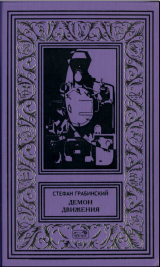
Текст книги "Демон движения"
Автор книги: Стефан Грабинский
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Не менее жалким представлялся интерьер. Дом, состоящий из трех комнат, был полон щелей и дыр, сквозь которые свободно проникал ветер, проваливался в полуразвалившийся очаг, закручивал в нем остатки пепла и гремел в дымоходе.
Однако самой странной из всех оказалась угловая комната, где я находился чаще всего.
– 40 -
Лишайники, проросшие на одной из стен после отслаивания штукатурки, образовали загадочную фигуру.
Поначалу я не мог понять ее должным образом; поэтому не спеша перерисовал ее на бумаге, и тогда мне представилась довольно интересная картина или, вернее, ее фрагмент.
У нижней части стены чуть выше пола отпечатались контуры детских ног; одна, согнутая в колене, упиралась концом в другую, жестко прижатую к земле. Туловище, откинувшееся назад, более-менее различалось до уровня груди – остальное отсутствовало.
Маленькие хрупкие руки вздымались вверх, в жесте бессильной самозащиты.
От всей фигуры, которая могла представлять тело маленького мальчика, безотчетно тянуло мертвечиной.
Чуть выше над ней, в направлении несуществующей головы, виднелись две руки, судорожно сжимавшие непонятно что; пространство между пальцами было пустым. Но руки эти принадлежали кому-то другому: они были гораздо более крупными и жилистыми. Кому именно – картина не показывала, потому что контуры этих рук оканчивались ниже локтя и терялись где-то на белом фоне стены.
Эта картина, как и вся комната, в солнечные дни отличалась собственной необычной освещенностью. Лучи, попадая в окна, преломлялись таким образом, что свет, расщепляясь на кровавые окружности, обливал одну из подвалин*; тогда казалось, что по ней стекают густые капли крови и растекаются лужей внизу.
Я объяснял себе это не слишком приятное явление законами оптики и особым химическим составом стекла в окнах; впрочем, само оно на вид было чистым и безукоризненно прозрачным.
Изучив само жилище, я перешел во двор или, скорее, сад, составляющий с ним одно неразлучное стилистическое целое.
Был он очень старый и запущенный. Много лет разраставшиеся заросли охватывали его снаружи плотной живой изгородью, ревниво охраняя прячущиеся внутри тай¬
____________
* Балка в основании стены.
– 41 -
ны. Среди болезненно разросшихся трав и дурмана гнили стройные, преждевременно погибшие стволы молодых деревьев. Их повалили не ветры, которым не было сюда хода, а медленное, убивающее их высасывание жизненно важных соков старыми деревьями. Они высохли, как скелеты, с листьями в чахоточной сыпи. Другие, до которых еще не добрались сосущие щупальца исполинов, умирали в их тени, заслоненные этими жестокими переростками
В одном месте из-за могучих плечей соседнего дуба высунулась молодая ольха и блаженствовала под солнцем, наслаждаясь желанной свободой; тогда он поймал ее толстой мускулистой ветвью, впился в еще мягкую сердцевину ствола и прорвал ее насквозь; клочьями свисали вывороченные наружу жилки, в резкой судороге перекрещивались волокна и внутренние слои древесины. После этого она начала усыхать...
Губы грибов-трутовиков обсели молодую поросль и с неистовой страстью поглощали их юные соки своими ядовитыми поцелуями. Какие-то мерзкие, набухшие паразиты опутывали молодые стволы и душили их, удавливая в объятиях. Высокие заросли яворов опирались своей тяжестью на едва выросшие ростки и придавливали их к земле; под тяжким напором они печально сгибались книзу или вырождались в чудовищно нелепых карликов...
В саду никогда не наступала тишина. Постоянно слышался какой-то писк, беспрерывные мучительные стенания. Птицы, отчего-то сами не свои, обиженными голосами причитали в кустах, блуждали по ветвям, прятались в дуплах. Иногда по всему саду начиналась адская погоня, в которой царил ужас битвы не на жизнь а на смерть. Это родители гоняли свою молодь; бедные, непривычные к полету птенцы бились в тщетных усилиях о стволы, ломали крылья, теряли перья и, наконец, измученные, окровавленные, падали на землю; преследователи долго били их сверху клювами, пока от растерзанных трупов не оставалось и следа.
В этом странном саду моих детей охватывал инстинктивный страх, поэтому они избегали его, ограничиваясь играми перед домом. Я, напротив, почти не выходил из него,
– 42 -
изучая его упадочные явления, с каждым разом все дальше углубляясь в его секреты. И меня неведомо как незаметно втянули в заколдованный круг, вплели в муравейник преступления и безумия. Я не смог отследить процесс тех духовных изменений, которые происходили во мне, – все произошло почти бессознательно. Только сейчас, путем непонятного для меня самого анамнеза я воссоздаю для себя самые тонкие его стадии.
Поначалу атмосфера усадьбы и ее окружения была мне так противна, что, если бы не желание узнать правду, я бы с радостью оставил ее. Однако со временем я привык ко всему этому окружению и теперь даже не мог без него обходиться: я стал его частью. Место это начало переделывать меня на свой манер, и я уступил закону, который я бы назвал «психической мимикрией»: я полностью переродился. Я позволил себе стать жестоким.
Преображение это отчетливо выразилось в той симпатии, которую я через некоторое время начал проявлять к элементу насилия и произвола, просматривавшегося в характере усадьбы и в том, что происходило вокруг нее. Я стал злым и жестоким. С восторгом хулигана я помогал птицам уничтожать их потомство, деревьям – мучить молодую поросль. Моя человеческая интеллигентность в то время ужасающим образом притупилась и перевоплотилась в жажду бессмысленного уничтожения.
Так проходили месяцы, причем мое безумие лишь усиливалось и принимало все более разнузданные формы. Однако было похоже, что вместе со мной и вся окружающая обстановка тоже прогрессировала в своем безумии, словно в ожидании близкой развязки. Мне тоже довелось испытать это предчувствие, ибо припоминаю, как под конец я целыми часами всматривался в химерический фрагмент на стене, стараясь его мысленно дополнить и ожидая, что это даст мне ключ к загадке. Ибо, в конце концов, я знал только то, что я должен что-то выяснить, – не отдавая себе отчета в том, что со мной происходило.
Одновременно с этими явлениями дико изменилось мое отношение к детям. Не могу сказать, что я перестал их лю¬
– 43 -
бить, – напротив; но эта любовь превратилась во что-то чудовищное, в наслаждение от издевательства над предметом своих чувств: я начал бить своих детей.
Пораженные, удивленные суровостью доныне нежного отца, они убегали от меня, прячась по углам. Я помню эти бедные светлые глаза, залитые слезами, с тихой жалобой в глубине. Однажды я очнулся. Это было в тот раз, когда мой маленький, мой бедный сынок простонал под ударами:
– Папа... почему ты меня бьешь?
Я затрясся от рыданий, но на следующий день повторилось то же самое...
Однажды я встал значительно более спокойным, чем прежде, словно родившись заново после долгого лихорадочного сна. Я с кристальной ясностью осознал нынешнее положение; оставаться дальше в этом безлюдном месте было опасно, и поэтому я решил на следующий день оставить его навсегда, отказавшись от дальнейших исследований. Это был последний порыв моей сознательной воли.
В тот вечер перед отъездом я сидел с детьми в комнате; все трое задумчиво смотрели в окна на закат, который ложился на поля.
Он был кровавым и скорбным. Медные полосы осеннего света лежали на полях трауром агонии, ледяной, объятой холодом ночи, бессильной...
В саду вдруг все затихло, сонно шелестели ясени, стрекотали сверчки... Мир затаил дыхание. Миг напряжения...
Лениво полуобернувшись, я перевожу взгляд на причудливую стену.
– Надо это дополнить... дополнить...
Меня охватывает нежность. Я добр и полон слез.
– Иржи! Подойди сюда, дитя!..
Они садятся мне на колени, доверчивые, прелестные... Должно быть, они почувствовали искренность в голосе... Мои руки гладят светлую головку сына, свободно обнимая шею...
– Папа!.. Не сжимай так сильно! Па-а-ап...
Захрипел...
Вторая малышка в испуге быстро бежит к двери...
– 44 -
– Убегаешь...
Бросаю труп Иржи, догоняю дочку и одним ударом разбиваю ей голову о балку...
Кровь смешалась с пурпуром солнца.
Тупо смотрю под стену, где лежит мой сын: кажется, что он прильнул к картине и дополнил ее с превосходной точностью, ни на волосок не выходя за ее линии.
А в руках, уже не стиснутых вокруг пустоты, а сокрушающих его шею, я узнал... свои собственные...
Вереница безумных мыслей пронеслась с лязгом, захрустела скелетами трупов и исчезла в вихре...
–
Проблема усадьбы была решена.
22 марта 1908 г.
В сумраках веры
МЕСТЬ ЗЕМЛИ
В хате ведьмы Магды светало. Сквозь мрачный саван ночи скрытной кошачьей походкой пробирался серебристо-серый рассвет, свободно просачивался сквозь стекла, вливался в светлицу, призраком бродил по полу, расползался по предметам обстановки, забирался в темные углы. Окна, словно затянутые бельмами глаза, начали лосниться и поблескивать под лучами. Но вот уже из-за ближнего бора начали раздаваться шумы и перекликивания, послышались странные возгласы, возбужденные радостные разговоры...
Иногда пугливыми бросками проносилась летучая мышь, ухал филин, но тут же в страхе умолкал. И снова наступала тишина, огромная, затаенная, выжидающая...
Далеко-далеко на краю неба, словно дремотный призрак, розовеющим предвестьем утра мерещилось мглистое свечение; половина синего небосклона посветлела от этого сияния, отбросив мрак на полночные земли; восход румянился все сильнее, возвышался и разворачивал ясную, купающуюся в румяном свете зарю. Вот уже вырвались из-под земли стрельчатые полосы и расплескались по небу, а вслед за ними появился золотой шар солнца; заколебался ненадолго над миром, а потом взмыл в повеселевшее небо. Несколько ярких лучей лизнули стены и бревенчатый потолок избы и раскатились по крепко убитому полу.
– 46 -
В светлице смеялся большой, белый день. Сосновая дверь комнаты скрипнула, и из мрачной глубины высунулась чернобровая красавица. Лоснящиеся, черные как вороново крыло волосы, небрежно стянутые на голове красной повязкой, мягкими изгибами скатывались по плечам к земле. Медленно двигаясь после сна, поправив смятый в беспорядке корсет вышитой рубашки, девушка придвинула к окну стоявшую у стены лавку; уселась на нее, вся залитая золотистым утренним светом. Правой рукой ухватила половину волос и начала расчесывать их гребнем. Лучи играли в буйных извивах, плавили в горячем наслаждении тяжелые пряди, ласково скользили по крепкой, упругой девичьей груди, покачивающейся с каждым новым движением. Она напевала какую-то страстную думку*, глядя на залитый жемчужной росой луг, что виднелся за окном; со свежей травы взгляд перебегал на гудящий рассветными разговорами бор, перескакивал с ветки на ветку, проникал в чернеющую таинственную глубину...
В комнате раздался сухой кашель, и через некоторое время, прихрамывая, показалась мерзкая старуха с корявой клюкой. Молодая, не поворачивая головы, напевала без умолку. Ведьма косо посмотрела на дочь и, что-то бормоча, сняла с припека пучок сухой травы, покрошила ее на мелкие кусочки, положила в глиняный горшок и поставила в печь; потом разожгла под ним небольшой огонь. Все это время она беспрестанно что-то мурлыкала, вытягивая вперед сморщенную, покрытую бородавками нижнюю челюсть.
Магда в это утро была страсть как рассержена. Не везло ей. Третьего дня Антоше, жене Кузнецовой, так сняла чары сглаза, что женщина едва не померла и расхворалась до беспамятства; а кузнец сыпал проклятьями, ругался на чем свет стоит и едва за палку не хватался. А Ягне солтысовой такого зелья дала, что с девкой этой словно порок какой приключился и три дня и три ночи по хате ее водил.
Неудивительно, что от таких лекарств людишки начали отказываться, исподлобья смотреть да насмехаться. Были
____________
* Музыкальный жанр славянской баллады.
– 47 -
и такие, что с ней и разговаривать не хотели, только уступали дорогу, как заразной собаке, и ворота запирали, когда она мимо проходила.
А ведь бывало когда-то и по-другому; уважать-то ее никто не уважал, обычная бесова кума – но доверие и душевную веру имели, которая уже сама по себе немало хворей из человечишек выгнала. Ходили к ней тоже часто, со всей деревни сползались к знахарке: кто с ногой, кто с рукой, кто с больным крестцом: другие к роженице звали, так что ни в один божий день покоя не было, и не раз и не два за полночь спать ложилась. Росло стадо скотины, и червонцы в копилке прибывали, так что и Розалку приодеть смогла, как дворянку какую, и ее саму за первую в селе хозяйку считали.
А нынче? Хорошо, если один или два раза в неделю заглянет кто во двор старой Магды и о совете спросит, да и то, словно червь слепой, выкручивается и в благодарность лишний грошик не бросит.
Но она знала, в чем причина такой лихой перемены, прозревала все полностью. Дозналась, кто ей ставил палки в колеса. Тот пропащий бродяга, чертов сын, тот проклятый бузила, что ни с неба, ни с земли, бес знает откуда в прошлом году в село пришел, и будто король какой, поселился на Яворовом острове, головы деревенским людям вскружив. Едва он появился, как тут же селяне кучками стали к этому негоднику слетаться и набиваться и чуть ли не на коленях умолять, чтобы тот помогал в доле несчастным. И исцелял! И какие только хвори не выгонял прочь, чтоб никогда потом не возвращались в тело. Болячки проходили, струпья, язвы, что в течение многих лет гноились и нарывали, гангренозная плоть, что целыми кусками гнила и разлагалась, мослы, что усыхали и отмирали, налившиеся кровью жгучие опухоли... А в деревне говорили, что он и злых бесов, которые издеваются над людьми, изгонял в преисподнюю, дьяволу на растерзание, людям бедным на потеху в сей жизни, скорбями обильной. Могучим его звали, потому что и силой непомерной он обладал, и крепостью духа небывалой. И Магда испытывала к нему та¬
– 48 -
кую ненависть, что трухлявыми зубами своими на ремни бы разорвала, а когтями своими глаза бы выцарапала – и такой страх, что всякий раз, когда вспоминались ей эти глаза, тихие и спокойные, синим блеском сиявшие, будто озерца посреди бора, нестерпимый холод пробегал по ее старым костям и сотрясал в ознобе без перерыва, так что как червь гнусный свивалась она в клубок и дрожала всеми костями своего высохшего тела. Силачом был, а она – всего лишь обычная баба, что людей по-знахарскому заговаривает и чарами туманит. Собственно, поэтому и решила стереть его в порошок, чтобы никакого следа после него не осталось, даже тени слабой. И способ нашла; полгода голову ломала и надумала: мудрой бабой была – недаром ее Магдой-Лисой прозывали.
Собирала о нем всевозможные гадости, выслушивала всякие разговоры, что глухими слухами бродили по деревне. Потому что с ним самим поговорить с глазу на глаз было нелегко. Больных он принимал только до полудня, а весь остаток дня прятался, как дикий зверь, в своей яворовой глуши и не подпускал к себе никого, даже старого Марцина-перевозчика, который жил на противоположном берегу и переправлял людей на остров. Один, всегда один. Вроде как и в святую неделю из своего укрытия в мир не выбирался и Бога не славил. Безбожник, который не заслуживал погребения! И в самом деле, откуда бы взялась у него такая сила, если не от беса? Любило его зло – оттого и адской силой одаривало.
Так, осторожно, на ухо говорили деревенские. Магда жадно слушала и все запоминала. В чертей, дьяволов и прочие мерзости людских вымыслов она не слишком верила: кто знает, может быть, там что-то диковинное в самом его сердце, кто о том знает? Может быть, там другая власть верховодит, в железных тисках сжимает душу, а сердце в сталь заковывает? Тот, кто первым сие разгладит – догадается ли, что это тьма?.. Может, его душевная вера крепка, непоколебима как скала, разрослась как дуб, страшная мощью своей, как чары – вера в то, чего не знает никто, что было и в ней, и в других, что только в сонных видениях маячит,
– 49 -
в недоснившихся снах кажет себя бледной, тускнеющей марой* – а наяву расплывается, рассеивается, исчезает...
Но не было то небесной признательностью, преклонением к стопам сладчайшего Избавителя нашего препокорного, поклоном пред ликом Бога – нет!..
У ведьмы были слишком зоркие глаза и чуткие уши, чтобы позволить себе оступиться...
А коли так, то крепкую веру можно пошатнуть, расколоть как рассохшийся дуб?.. И дубам вихри медленно ломают хребет... хотя иногда и крот подгрызет корни... Кротовая работа лучше, поскольку самая безопасная – можно вовремя убраться, а дуб, падая, способен придавить червя, пока он где-то извивается...
И черт захихикал в ней, тихонько, плотоядно...
Посмотрела на дочку – чудная девка была, крепко сбитая, как никто из деревенских. Оттого и парубки теряли головы и дрались за нее. Кокеткой была жестокой и никого не привечала: любви в ней не было никакой: будто лед искрилась радужной пеленой под солнышком, когда оно вечером клонится к закату, блестящей, соблазнительной и холодной... Загорался в ее черных ослепительных глазах огонь, так что даже искры по челу бежали, когда его видели, но такое пламя не грело, не сходило сладким жаром на душу жаждущую; лишь распаляло необычайную дьявольскую жажду, пережигало и поглощало изнутри, пока все там не сгорало, пока душа не истлевала дотла...
– Выбросила бы ты этот скребок! Шуруешь и шуруешь без конца. И без того красивой выглядишь, трудно другую такую найти... А ведь есть вроде бы у тебя один, который красе твоей не поддался?..
Розалка вопросительно обернулась...
– А Лавр Могучий? А?!.. Чародей с острова?
– Нет!
– Как же?.. Дала бы ему?..
– Нет... Да!.. Ради вас, матушка, – да!., чтоб он сдох у ног любимой, как пес, да!., осилю его и вам отдам, -
____________
* Призрак, греза.
– 50 -
этими волосами оплету и о землю ударю, в пруд завлеку, этими губами ему в губы вгрызусь и кровью захлебнусь, упырем стану!.. Отомщу за вас, матушка, только помогите... Вы мудры – у меня есть красота...
– Ты пойдешь на Святого Яна, пополудни, как пройдет первая жара... пойдешь туда... Хе-хе! с сильной хворобой – понимаешь?.. Поклонишься, а как ласку ответную получишь, не поддавайся!.. Как будто долго страдала – неспешно воле его покоряйся... а потом сам разгорячится... Тогда останешься... а потом я... Ха-ха! Набожной будь, на дорогу книжку дам... ты же грамотная... Я тоже позже загляну... помнишь? – я же твоя мать!..
Разъяренная старуха с пеной на губах сидела перед изумленной и прослезившейся Розалкой – она понизила голос до шипящего шепота и сквозь стиснутые зубы выплевывала слова, язвительные, как отрава, марающие душу будто проказой. А когда, изнеможенная завистью и ядом, умолкла, а Розалка пошла одеваться в комнату, подошла к окну, напрягая свои блеклые совиные глаза, глядя в сторону реки: водила ими несколько минут не мигая, словно что-то высматривая; через некоторое время, видать, нашла, что искала: впилась ястребиным взглядом в одно место... на лице ее долго играла издевательская, глумливая полуулыбка...
Яворовый остров дремал. Заключенный в водные объятия раздваивающейся реки, частично занесенный по краям илом, наглухо заросший по обрывистым берегам сорняками и бурьяном, ощетинился колючками терна, насторожил хищное плетение шиповника и ежевики.
Пополуденный жар июньского солнца еще дрожал раскаленными волнами, но уже неспешно ослабевал. Сменяя его, на землю мягко опустилась ленивая томная сонливость, погрузив в оцепенение далекие села, легла на поля, пастбища, окутала дремотной скукой реку и остров. Воды бормотали приглушенным журчанием, мягко набегая на берег островка; тайным шепотом нарушал тишину теплый ветер, что на тонких крыльях веял откуда-то из-за бора и проникал слабым, запыхавшимся дыханием под замершие деревья...
– 51 -
Ш-ша... ш-шш... из бора посвист несется – шепелявит осина, шелестит сивая листва... ш-шш... в трухлявом дупле светит ржавый нарыв гнилушки... ш-ша!.. ш-шш!.. – посвист ветра несется...
Зашуршали верхушки яворов, заскрипели хрипло... ветер стихал где-то в ольховой чаще...
В центре островка меж густых зарослей белела хата. Покрашенные в бледно-синий цвет стены сверкали на солнце черными лоснящимися стеклами окон. Под навесом на завалинке сидел человек, жуя крепкими зубами махорку. Яворы отбрасывали на него плотную тень, которая перемещалась по стрехе хаты всякий раз, когда сильный порыв ветра наклонял их кроны. Два тополя пронзали синеву стройными верхушками...
Пустынно тут было и одиноко, ни одной человеческой души вокруг. Все здесь разрослось как-то без меры, все выглядело переросшим... В окна заглядывали высокие, свисающие зеленые головы лебеды, вокруг остро пахло чабрецом... Чудовищные сорняки расползались дико спутанными стеблями, скручивались в плотно покрывающие землю жилистые густые сплетения, которые не расплел бы сам дьявол. В стволы яворов впивались мокрые, вечно несытые губы странных грибов, и сосали, сосали из них соки... Кладбищенская грусть скиталась по этой невероятно заросшей местности, печаль проникала в душу, затягивала странной тоской ясные, словно сияющие, просветленные глаза сидящего человека.
Задумался, забылся... Он был найденышем. Старый, наполовину одичавший смолокур нашел брошенного мальчика на краю бора, сжалился и повел в свою убогую хижину посреди столетней чащи. Им было хорошо вдвоем в одинокой смолокурне. Старик избегал людей, с которыми почти не общался, потому что чувствовал себя среди них непривычно. Лишь трижды в неделю он ездил с чумацким возом в соседний городок, да и то всегда спешил вернуться к своему Лаврику. Проходили годы, мальчонка вырос, возмужал и начал помогать смолокуру. Странным был мальчик Лаврик. Бывало, жарким летним днем пополудни, когда ста¬
– 52 -
рик, утомленный работой, засыпал где-то в тени, он садился на большой каменный выступ под дубом и вслушивался в тишину пущи. Блаженство великое и сила сходили тогда на него с этих буйных, расшумевшихся в громкой беседе стоящих вокруг деревьев, захватывали душу, входили в тело. Он вбирал все ее мощные, животворные соки, живительные силы, которые вздымают вверх деревья, множат всякого зверя, плодят людей. Пил жаждущими губами сей чудесный отвар, что брызжет благотворным запахом из целебных безмятежных трав, пьянит наслаждением. Поглощал эту медо-сытную манну, что жизнью и здоровьем одаривает, в девках, что потомства хотят, огонь распаляет, в мужьях жажду возжигает, старикам сил прибавляет. Так на него благословенная милость изливалась, силой наделяла – и он любил эту мать-природу, любил и почитал; всем ему она была: нянькой, родительницей, Богом... Язычник был. Верил в нее верой детской, такой, что не разбирается, не рассуждает, лишь с безграничной доверчивостью кладет голову на грудь возлюбленной, ибо покорная она и любящая. И вера эта была горячая и простая, сердечная преданность, поклоняющаяся одной лишь силе и прибавлявшая ему мощи. И так сливался с ней все крепче, напитывался ею, проникался. Не было травы целебной, которой он не знал, не было отравы, о которой не был предупрежден. Однажды смолокур застал его за тем, как он, обняв толстый явор, обросший космами мха, с великим почтением и любовью прижался к стволу. В другой раз пал лицом на землю перед вековым дубом и так пролежал до сумерек; а когда вернулся под вечер, весь сиял какой-то удивительной безмятежностью и спокойствием. Старик изумленно спросил:
– Что это с тобой?
– Молился, и сила снизошла на меня, – ответил Лавр и больше ничего не хотел отвечать.
С этого момента в смолокурне начались разные чудеса. Через несколько дней старик, рубя дерево в лесу, сильно порезал ногу, отчего кровь так и брызнула. Когда испуганный Лавр подбежал и дотронулся до раны, кровь перестала течь, а рана начала быстро затягиваться.
– 53 -
Через год они вдвоем выбрались на ярмарку в Собачьей Веске. На обратном пути повстречали у дороги какого-то бедолагу, все тело которого покрывали гноящиеся язвы и короста. Лавр сказал, чтобы он шел за ним до смолокурни, где несчастный остался на целую неделю. Каждый день с самого утра Лавр выводил его в лес; здесь он приказывал ему встать под каким-нибудь деревом, после чего протягивал руку и водил ею вдоль тела. После этого струпья отваливались, гноившиеся годами язвы заживали, бурно выбрасывая едкую зеленую слизь. Через неделю полностью выздоровевший нищий с благословением покинул уединенную смолокурню.
Весть об исцелении разнеслась по околице; прошло совсем немного времени, и люди из соседних сел и слобод начали собираться под глухой смолокурней. У Лавра сердце было сострадательное и кроткое, как у голубя, он хотел помочь беднякам, поэтому никому не отказывал. С утра до вечера работал без передышки.
Между тем старик умер; корявый ясень, свалившись под скобелем лесоруба, придавил его насмерть. Тогда Лавр бросил смолокурню, оставил лесную глушь и поселился на Яворовом острове, где и ему самому, и людям было удобнее. До полудня принимал больных, а когда солнце переваливало через середину небосклона, оставался один.
Год так прожил на своем отшибе. Полюбил печальный островок, проникся здешней тишиной и покоем. В серебряной утренней заре вставал с ложа и выходил перед хатой, чтобы все с тем же восхищением, с тем же молитвенным восторгом в глазах наблюдать чудо лучистого рождения. Каждый вечер прощался с пылающей зеницей солнца, спускающейся за край леса, пил жадными губами росную благодать небес.
Тем временем сорняки возле его дома разрастались все сильнее, крепли, становились выше и гуще. Он не трогал их, не выпалывал. Вот, наконец, вытянулись до стрехи, затянули стены, оплели дымоход... и совсем укрыли собой хату, захватили окрестные тропы. И Лавр потерялся среди них. Он уже не принадлежал себе: стал частицей острова, с ко¬
– 54 -
торым его словно связывали какие-то жилистые, набухшие кровью стебли, побеги, клубни, корневища. И растворился в извивах этих разбушевавшихся сплетений, потерялся в чудовищных зарослях.
Держали его могущественные узы; разорвать их означало уничтожить самого себя, сокрушить в прах, ибо слишком глубоко в душу запустили они своим побеги; вырвешь – кровью истечет сердце...
Иногда только посещали его странные желания, охватывала безбрежная тоска, стремление лететь куда-то на край света, к людям, к Солнцу, прижать к груди что-то широкое, что как птичка милая трепещет, что гибче и воздушнее, чем камыш, краснее, чем ягоды калины, окутать неприкаянную голову отшельника чем-то, что мягче льна, благоуханней мяты, насытить запекшиеся уста чем-то, что слаще меда, который с цветущей липы пресветлым соком сочится...
Дремала в сумрачных закоулках души неудовлетворенная жажда, бурлила время от времени пробуждаемая пылающим вихрем кровь, обильная силой жизни. Крепок он был, властен, сопротивлялся ее влечению...
Лавр Могучий не знал женщины...
И тогда греза сбылась. Перед ним в нескольких шагах стояла стройная дева, глядя наполовину с покорностью, наполовину с жаром, прячущимся в глубине искрящихся темных глаз.
Лавр нахмурился. Он не любил, когда его навещали не вовремя.
– Прости, Могучий, – заговорила она мягким, как звуклигавки, голосом, – простите несчастную... но я уже конца не вижу той муке, что тело молодое точит. А вы же силу имеете, во власти вашей зло низвергнуть, злую долю одолеть – и вот я пришла и у ног ваших молить готова: верните мне здоровье, возвратите силы, что пропали, ушли куда-то, излечите мое тело... Ибо бес какой-то овладел мною – о землю бросает, пену ртом пускать заставляет, по обрывам водит, так что ни уснуть, ни поесть, ни передохнуть, ни жить... Ой, доля моя, доля пропащая!
– 55 -
Он смягчился и, подняв упавшую на колени Розалку, велел быстро посмотреть ему в глаза. Поднял руки к вискам девушки и, подержав с минуту на небольшом расстоянии, начал опускать их вдоль плеч. Дойдя до локтя, снова остановился. Из сжатых губ вырвался короткий приказ:
– Трепещи!
Розалка стояла неподвижно, только в уголках полусомкнутых глаз тлел ядовитый блеск. Он, однако, был терпелив; пробежал рукой по левой кисти до конца и перешел на правую. Девушка не дрогнула. Только впилась в лицо знахаря диким, страстным взглядом и ждала, когда придет подходящее время...
Но лицо Лавра оставалось твердым и холодным, как камень. Может, только бровь поднялась выше, может, сила сосредоточилась крепче... Теперь он положил правую руку на голову, а пальцы левой скользнули поперек тела...
Розалка почувствовала легкую дрожь, но еще сопротивлялась. Она ведь не была одержима бесом; видела как эти несчастные в дикий танец пускаются, в извивах тел сплетаются, в плясовице безумной мечутся. Но она здорова – только мать приказала одержимой прикинуться...
Не ведали ни Магда, ни дочка, что такие, как Лавр, и со здоровыми удивительные вещи творят; только это куда труднее и большего времени требует. Между тем она не поддавалась. Лавр понемногу менялся все более странным образом. Обычно спокойное, безмятежное лицо постепенно принимало выражение какой-то яростной ожесточенности и упрямства. На лбу проступили грубые синие узлы вен, глаза сверкали внутренним пожаром: распалила его эта упрямая девка – хотел превозмочь ее, показать мощь свою, повалить к ногам дрожащую... Зуд, что бродил в уголках алых губ, подстегивал его колючим стрекалом...
К этому добавлялось жгучее стремление овладеть этой прекрасной чернобровкой, первой в жизни, единственной, овладеть силой, властью своей...
И так боролись друг с другом, извечной борьбой мужчины и женщины. Но он уже брал вверх; уже неверная дрожь
– 56 -
выгибала тело Розалки, уже руки начали скручиваться, глаза безумно вращались – густой холодный пот струился по черным блестящим косам...
Собрав в себе остаток воли, бросила через сдавленную, будто клещами, гортань:
– Сжалься! Я твоя!..
И тихо опустилась на мураву...
Схватил ее крепко, прижал к волосатой груди и, как дитя, понес в хату с шепотом:
– Идем, дева возлюбленная моя, идем...
Исчезли в проеме двери, затворившейся за ними... Зашепелявили дрожащие листья осины, зашумели тополя, яворы... Поседевший, усеянный губами трутовиков клен выпрямил одну из своих самых больших веток и опустил молодую зелень на соломенную крышу – положил тяжелую отцовскую руку, словно благословляя то, что должно было исполниться...
А остальные деревья вторили негромким пением...
...Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными паченами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Тогда многие из








