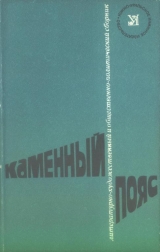
Текст книги "Каменный пояс, 1976"
Автор книги: Станислав Гагарин
Соавторы: Людмила Татьяничева,Петр Краснов,Василий Оглоблин,Александр Павлов,Сергей Каратов,Александр Лозневой,Владимир Иванов,Дмитрий Галкин,Сергей Петров,Кирилл Шишов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
– Вот ты смотри, Никанорыч, год от году ведь скудеет у меня лес. Как ни сажу молодняк, делянки ни прореживаю, а скудеет.
– Что, грибов стало меньше или землянки (так называют на Урале землянику)? – спрашивал лениво Грачев, допивая третий стакан. Чай он привозил с собой всегда отменный, смесь трех сортов прямо из столицы. А потому пил и наслаждался им вволю.
– И это тоже есть, а главное – цвет у травы не тот. Редкий. Какой-то запаршивленный.
– Чего так?
– А все дачники. Уйма ведь теперь народу – и едуть и едуть. Цветы собирают, в городе веники в ведра ставят, а лес скудеет. Ему ведь – полю там или поляне какой – свой оборот нужен. Семя, оно должно в землю упасть, а не в мусоре сгнить. Какие теперь цветы – молочай, горицвет весной. Ну еще два-три… А раньше ведь мед сплошной стоял на лугах, на полянке. Тысячелистнику вот бабе по болезни надо было найтить, так все ноги оттоптал, пока нашел… Разве это хорошо, как считаешь?
Грачев не понимал проблем, мучивших лесника, но сама мысль, что люди срывают бездумно, для забавы, лучшие цветы, губят и истощают травостой, неожиданно остро и ассоциативно взволновала его. Разве сам он не был заметным, полным сил и аромата, цветком в скопище пустых кормовых трав? И он рассмеялся, отгоняя от себя обидную мысль:
– Верно, кроме тебя, Власьяныч, этого никто и не замечает.
– Замечают, как не замечают. Давеча летом полная такая дачница заходила, все спрашивала липень-цветок. Был, говорю, у нас такой, башкирской розой его звали, а теперь и не знаю, куда он делся. Так что извиняйте, уважаемая…
– Цветы – не плановая отрасль. Тебе лес на кубы сдавать надо, а цветы что… чепуха.
– Не чепуха, Никанорыч. Я, конечно, не ученая голова, как ты, а ведь тоже всю войну протопал, а жив остался. Это тоже немало, кумекать научишься. Я так располагаю: что в природе все учтено, и эта вот малость когда-нибудь скажется.
– Тебе-то тогда что? Небось, сам в цветок прорастешь, в башкирскую твою розу…
– Не, так не получится. Я должен наперед знать, что оставляю в обходе. У меня вот сосна – она пятьсот лет растет, так что, я ее ткну где попало и крышка?.. Нет, я должен ее так посеять и до подросточка довести, чтобы ей, матушке, века стоять…
Власьяныч подливал в чай коньяк, так же щедро поставленный на стол Грачевым, и потому постепенно пьянел, опуская голову к клеенке стола, и Грачев, зевнув, потихоньку пошел спать в горницу, где возле стареньких фотографий военных лет стояла кровать-диван, самолично купленная Власьянычем по просьбе профессора в городе.
Он лег и долго разглядывал фотографии в полумгле, слушая, как жена лесника убирает посуду, плещет водой в тазике, потом сдвигает стулья. Незаметно для себя он уснул.
Снился ему странный, сумбурный сон. Он разговаривал с каким-то усталым, озабоченным чиновником из министерства, лицо которого, серое, с продольными резкими складками вдоль щек и стеклами тоненьких, в золотой оправе очков, казалось ему знакомым и в то же время отталкивающе чужим. Чиновник, перебирая бумаги на столе, монотонно-назидательно говорил ему, что нельзя разорять муравьиные кучи в лесу, что наукой доказана полезность крохотных трудолюбивых насекомых и что, наоборот, нужно учиться у них коллективному существованию. Муравей не велик, а горы копает. Грачев, по-мальчишески обижаясь, доказывал, что, верно, и у муравьев есть свои разведчики, свои воины и свои вожди, которые ищут добычу, соблюдают порядок или руководят коллективом из миллионов черных юрких тварей. Он ссылался на отсутствие должных экспериментов и белые пятна в науке муравьеведения, но чиновник так же бесстрастно перебирал бумаги и зачитывал ему какие-то инструкции по охране стадности муравейников, по порядку штрафования и оформления чеков расписок… А Грачев все никак не мог понять, как это в лесу возле каждой рыжей кучи – государства мурашей – будет стоять чиновник с пачкой квитанций в руках и готовой сиреневой печатью на бланках…
Потом пошла совсем чепуха, он, наседая, начал кричать: «Думаешь, почему кукушка в июне кукует, а в августе один хрип издает? Детей подбросила, и куковать не надо. Понял, бумажный червь!» А тот снова, морщась, как от желудочной боли, бубнил: «Кукушка – это не повод, чтобы своевольничать и нарушать постановление вышестоящих инстанций…» Он был противен Грачеву своей педантичностью и манерой щелкать суставами пальцев, откидываясь почему-то в его, грачевском, кресле. И Грачев, махнув рукой, встал, чувствуя бесполезность разговора, и, странно подпрыгнув, почему-то вылетел, расправив плечи, в форточку кабинета.
Он летел над городом, похожим сверху на гигантский, освещенный муравейник, где сновали фигурки, двигались коробочки машин и мигали огни реклам, и нельзя было уловить смысла этого беспорядочного хаотического движения, и только заводы – скопления циклопических шаров, конусов, цилиндров, над которыми стоял смрад и пламя, были понятны и восхитительны в своей целесообразности: здесь горел, как в священном храме, яркий и торжествующий огонь – огонь разума…
Утром, когда Грачев проснулся, лесник принес телефонограмму:
«Комиссия отменила снятие. Ждем на работу. С уважением, проректор Тодуа»…
X
Артем встретил на вокзале друга, похудевшего, обветренного, с невыспавшимся, серым лицом. Маленькая бледная девочка, сидевшая на его руках, увидела дядю в широкой выдровой шапке пирожком, судорожно отвернулась, спрятав личико за плечом отца, и заплакала.
– Не плачь, ласточка, – привычно поддернув ее на одной руке, сказал Терентий, и представил другу жену: – Знакомься, Оля, а это мой друг Артем Орлов, я про него рассказывал…
Оля тоже была измучена дорогой, известием о смерти отца, заставившем их за сутки покончить с долгими сборами, оставить навсегда Оренбургские степи и долго пробираться к станции на гусеничном транспортере, то и дело застревавшем в заносах. Она подала Артему холодную детскую ладошку и спросила:
– Вы не знаете, похороны уже были?
– Да, вчера хоронили Николай Ивановича, – ответил Артем, думая почему-то о другом, о том, что его товарищ уже совсем иной, взрослый и озабоченный семьей, делами, а он – вроде перекати-поле, с глупыми разрывами, дрязгами, ссорами. Он вызвался сходить, получить вместе с Терентием багаж, и они пошли по гулкому новому, с просторными стеклянными залами, витыми лестницами и пандусами зданию вокзала. Пролеты, перекрытые стремительной железобетонной оболочкой, поражали своими размерами. Казалось, весь город мог разместиться в этом зале, многоярусном, с пышной яркой зеленью пальм. Калориферы нагнетали свежий, обогретый и пахнущий хвоей воздух. Звонко кричали, бегая между рядов в залах ожидания, дети.
– Семьдесят метров пролет, – видя, как заблестели глаза у друга, прокричал Артем, указывая рукой куда-то в немыслимую высоту. – Там растяжки мы поставили для распора. Знаешь, сколько возились с расчетами на кафедре. Первая в Союзе оболочка из преднапряженных скорлуп! Не шуточки…
– Да, – восхищенно оживляясь, сказал Терентий, – я теперь технологию бетонирования до косточек знаю. Чем канаты тянули?
– Домкрат запатентовали. И твой покорный слуга третьим в свидетельстве, понял?
Артем вспомнил, как два года назад они шли с другом, беззаботные и счастливые, с экзаменов и говорили о будущем, опасаясь безликости и монотонности своей работы. И он хотел напомнить это другу, но, видя, как жадным инженерным любопытством горели глаза Терентия, как ласково-дотошно он осматривал параболический стремительный корпус, сделанный из камня и стали там, вверху, понял, что друг уже и сам весь в мечтах о будущем, что тайная могучая сила причастия к сотворению уже глубоко вошла в его душу и разум, и Артем подхватил обвязанные ремнями тяжелые чемоданы:
– Ну, двинули. Паруса на зюйд-вест, старик.
ЭПИЛОГВ Риме, напротив Колизея, мягкой итальянской осенью 1976 года стояли двое элегантных мужчин в летних чесучовых брюках и ярко-красных рубашках с эмблемами съезда журналистов на карманах. Они были так похожи удлиненными правильными европейскими лицами, схваченными на лаке прическами на пробор и загорелыми мускулистыми руками, что казались братьями.
Но это были не братья. Советский обозреватель отдела промышленности СЭВ Терентий Разбойников пришел со своим коллегой из ГДР Гюнтером Шульцем осмотреть давно влекущие его, как строителя, памятники римского зодчества.
– Знаешь, Гюнтер, а ведь вон то здание, справа от Капитолийского холма, за термами Каракаллы – это крупнейший в мире в течение двух тысячелетий Пантеон. Римляне перекрыли его сводом на цементе, секрет которого унесли с собой под гуннскими нашествиями. И две тысячи лет человечество наверстывало упущенное, вслепую отыскивая секрет такого чуда…
– Я хорошо понимаю это, Тэд, – отвечал собеседник, покусывая пластмассовую трубочку от коктейля, – мы тоже после этой войны могли потерять массу секретов. А что же, ученые не могли разгадать такую простую штуку: берешь порошок, наливаешь воды, делаешь «шурум-бурум» – и готово?
– Это кажущаяся простота, Гюнтер. Римские порошки были пеплом гиганта Везувия. Они прокалились в жерле вулкана и приобрели мистическое божественное свойство. Их считали священными – «шурум-бурум» ни с чем больше не получался…
– И как же нашли снова?
– Случай, дорогой Гюнтер, случай и подмечающий все человеческий глаз. Англичанин Джозеф Эспедин строил маяки из базальтовых глыб, и случайно обжег смесь известняка и глины в горне. Камень, полученный из размолотого потом порошка, противостоял морю лучше базальта! Но ты подумай: сначала размол, потом обжиг, потом снова размол и потом вода. Четыре вероятности тупика, и все-таки люди преодолели его…
– У вас говорят: «наука умеет много гитик»… Это, наверное, подходит сюда!
– Абсолютно точно, Гюнтер. Мы до сих пор не знаем, что точно происходит в этом чудесном растворе, превращающемся в камень, твердеющий год от года. Столько направлений здесь, столько работ, а основа одна – порошок, шурум-бурум…
И они рассмеялись, дружески похлопывая друг друга по плечам.
– Да, разве мало «гитик» у человечества, – Гюнтер посмотрел в ту сторону, где, четко выделяя силуэты древних строений, садилось солнце. – И сколько утеряно, сожжено, растоптано…
– Ничего, дружище, союз народов гарантирован и нашей с тобой дружбой. Он – не выдумка.
– Перед лицом новых гуннов? – быстро спросил Гюнтер и, вспомнив дискуссию на утреннем заседании, вспыхнул. – И чего это надо этим проклятым раскольникам? Какой дьявольский средневековый фанатизм! Неужели?..
Он вопросительно посмотрел на спокойного, с мечтательным выражением лица, советского коллегу.
– Будь спокоен, дружище. Я тебя уверяю, секрет цемента не придется открывать в третий раз… Помнишь слова: «Социализм – это прочная уверенность в будущем»? Это сказал устами одного человека весь наш народ.
И Терентий обнял за плечи Гюнтера, увлекая его к великому округлому зданию, чьи циклопические камни развалин охристым цветом темнели на ярко-зеленой ухоженной траве столицы древнего мира.
Даниил Назаров
СТИХИ
УРАЛУРОДНИК
Перевалы, озера да просеки,
Я в себя вас навечно вобрал.
От степей неоглядных до сосенки
Ты мне люб, руднолобый Урал!
Здесь такое ядреное солнышко,
Так простираны травы росой,
Что невольно, до самого донышка
Я проникся твоею красой.
Потому и звенит песня-здравница,
Как судьба, что у нас на двоих.
Не уйти от тебя,
не избавиться
От магнитных зарядов твоих.
САПОГИ
В шеренгах строгих
стеллажи.
Тишь.
Радужные блики.
Передо мною мир лежит
Огромный, разноликий.
В нем словно в зеркале – любовь,
Разлука, счастье, горе,
Седая старина и новь
Схлестнулись в яром споре.
Здесь мысли светлой закрома
И мудрости истоки.
Короче – это жизнь сама,
Впрессованная в строки.
С тугих страниц живой
родник
Раздумьями струится.
Я к роднику тому приник —
И не могу напиться.
РАДУГА НАД ОБЕЛИСКОМ
Пусть сапоги мои в отставке,
Я их как прежде берегу,
Как сувенир о крупной ставке
В боях на волжском берегу.
Они в таких атаках были,
Прошли такую огневерть!
Где, словно смерч, снаряды выли,
Вулканом клокотала смерть.
А ныне – тишь.
Стволы умолкли…
…Стучит моя опора – трость,
И сапоги стоят на полке,
Свинцом пробитые насквозь.
У них в рубцах осела глина
Родных раскованных дорог,
Пыль Беларуси, Украины
И пепел вражеских берлог.
ЗИМНЯЯ СТРОЙКА
Гроза уснула,
словно атом,
Отдав гремучий свой заряд.
И в небе сумрачно-лохматом
Повисла радуги заря.
Она еще в объятьях ливня,
Пока над рощей, за рекой
Свой распустила хвост
павлиний
Светло, багряно, широко.
И вот уже над обелиском
Вписалась в облачную тьму,
И так над ним склонилась
низко,
Как будто кланялась ему.
Подобна триумфальной арке,
Из доблестных, далеких дат,
Светила искренне и ярко,
Звала: «Войди сюда, солдат!»
И тот, из мрамора сработан,
Под лик граненого меча,
Как в Бранденбургские ворота
Вошел, бессмертием лучась.
БУДНИ
Снега, снега, гривастые бураны
Опять мой край уральский замели.
Но тянут шеи башенные краны,
Как в камышах озерных журавли.
По большакам бульдозеры что крабы,
Ползут и тают, словно миражи.
И по утрам у «саламандр» прорабы
Придирчиво сверяют чертежи.
А на площадке, полонив сугробы,
Карабкаются в небо корпуса.
И люди здесь морозостойкой пробы,
И расправляет стройка паруса.
Здесь столько свиста, дьявольского гула,
Что голос глохнет, сколько ни ори.
Морозом сводит одубело скулы,
А на бровях ледяшки-фонари.
Зато когда в прокуренной времянке
С лица сползет остудная кора,
Ты обретаешь крылья, как романтик
В глухом урмане с кладом у костра.
И вновь готов – себя метели настежь —
Панели ставить, «затравлять» болты.
Без этого стоклятого ненастья
Не ощутить сердечной теплоты.
Задумкой светлой озабочен,
Порывом жгучим одержим,
Я к верстаку спешу. И тотчас
Вношу поправку в чертежи.
Пилю, ворочаю железо
Да так, что мускулы трещат.
Порой машине в душу лезу
И прочь гоню мазутный чад.
Врачую раны, тем утешен,
Что ей продлю я жизни срок.
В пролете ветер с паром смешан,
Скулит, как запертый щенок.
А солнце ткет ковер искусно,
А губы сводит жаркий пот…
Без этих будней хлеб невкусный,
И пульс не тот, и сон не тот.
Василий Оглоблин
СТИХИ
* * *БАКЕН
Я иду по земле, растворяясь в лицах,
В улыбках,
в очах,
в голубом апреле.
Ах, как радостно пахнет землица
Теплым дымком и прелью,
Вся под ветрами, под солнцем вся,
Мне, человеку, для мук и счастья
В каждой крупице своей неся
Сладкую дрожь зачатья,
Вся в ожидании бурных гроз,
Щедрых, напойных ливней.
Иду по земле в человечий рост,
Напористый
и счастливый.
Иду.
В ручищах несу на весу
Вздутое веком пламя,
Как рану несу, как судьбу несу
Страшную ношу —
память.
Я видел, как жгли на кострах зарю,
Прошел через муки в бараках ада,
Я именем всех живых говорю:
– Нам на земле ничего не надо,
Кроме награды по ней ходить,
Кроме счастья – ее возделывать,
Кроме радости – находить,
Перекраивать,
переделывать,
Жаром пылких сердец темноту крошить,
Оставаться всегда человеком,
И спешить жить,
жить,
жить,
Успевать за собою
и веком.
БИОГРАФИЯ
Когда отвесным зноем гладит
Реки зеркальное трюмо, —
Он на глазу у этой глади
Торчит некстати, как бельмо.
Когда же стрежень так обманчив,
Когда бедой грозит в ночи, —
Горят спасением в тумане
Его неяркие лучи.
А вы слыхали, как он стонет,
Когда волну на грудь берет?..
Ведь утонуть он не утонет
И в даль уплыть —
не уплывет.
Судьбу нелегкую такую
Дано не каждому нести,
Чтоб по движению тоскуя,
Другим указывать
пути.
ПОРТРЕТ
Заполняет парнишка анкету.
Ничего в ней геройского нету.
Не был пулей фашистскою ранен,
Бухенвальдской не пробовал муки.
Увеличены, как на экране,
На бумаге огромные руки
Со следами царапин и ссадин,
Руки, столько создавшие за день.
Что ж ты медлишь?
Рассказывай, друг,
Ведь дела твои вовсе не плохи, —
В трудовой угловатости рук —
Биография нашей эпохи.
ПРИМЕТА
Его сухое, строгое лицо
Как будто мастер высекал из камня.
Шум.
Экскаватор, лязгая, в песок
Вгрызается железными клыками,
Буксуют МАЗы, пенится река,
Как искра, гаснет голос в этом гаме,
И кажется, что спаяна рука
С ковшищем многотонным рычагами.
Торчит вихор.
В накале карих глаз
Бесята кувыркаются задорно.
Такой не любит пустозвонких фраз,
Такому в жизни,
Как в степи, просторно.
В таких, не привлекательных с лица,
Без памяти влюбляются девчата…
О как во всем похож он на отца,
Угасшего от ран
В пятидесятом!
ЗАЧЕМ?
Ты на то никогда не сетуй,
И глаза не туши слезой,
Что когда-то, в начале лета,
Опалило тебя грозой.
Я в народе слыхал примету
И поверил примете той:
Если с грозами было лето —
Осень выдастся
Золотой.
Зачем ты дуги синие
Наводишь под глазами? —
Пахнет предзимним инеем —
И дуги лягут сами.
Зачем ты в косы русые
В двадцатую весну
Вплетаешь ленту грустную —
Чужую седину?
Негаданно, непрошенно
Сама придет она,
Годами припорошена
Святая седина.
Все станется, все сбудется
У звонкой, молодой,
Запомнится, забудется
И утечет водой.
Тогда, при увядании,
Себя подменишь чем?
Святая,
первозданная,
красивая,
Зачем?
Михаил Лаптев
РОВЕСНИКАМ
Стихотворение
Мы рождены в землянке —
Не в сорочке,
И наши первые учителя:
Родители – крестьяне и рабочие —
Да отчая Российская земля.
Наш юношества хлеб, хотя и горек,
На пользу шел
Встававшим к верстаку.
Ты будешь мне
До самой смерти дорог,
Рассвет,
Меня поднявший по гудку.
Еще итоги
Подводить нам рано,
Еще стучит в груди
Недавний час,
Когда десница
Башенного крана
На трудный путь
Благословила нас.
И, принимая гордо партбилеты
Из рук Отчизны —
Символы борьбы, —
Ровесники,
Вы помните об этом:
Мы – кузнецы, строители, поэты
Не только нашей собственной
Судьбы.
Петр Краснов
САШКИНО ПОЛЕ
Рассказ
Допахивали зябку. Над вконец опустевшими полями все медленнее и неохотнее разгорались студеные зори, уступая затем место невнятным и гулким осенним дням. Молчаливо и торжественно высились по дорогам стога, устилая далеко вокруг себя землю светлой, не потерявшей еще блеска соломой, и от нее исходил, приманивая стаи перелетных птиц, сытный и теплый запах хлеба и пыли. По пашне тонко, к непогоде, стлался низом синий дымок от подожженных копешек, пластался недвижимо, и эта его тонкость и очерченность еще явственнее подчеркивали прозрачность посвежевшего воздуха, зрелую и ясную простоту окружающего: ометы, дорога, купоросная зелень озимых, отчетливая зазубрина березового колка на неярком вечереющем небе.
Сзади, откуда я шел, разгорался широкий и холодный закат, Словно окалина, копились под ним плотные, слежавшиеся тучи, и ниже, на сизых плоскогорьях, я с трудом заметил идущего по дороге человека. Плоское поле уходило вдаль, сквозило, вытягивалось в дымке; и согбенная человеческая фигурка, казалось, не шла – плыла, покачиваясь, в степном токе, в свежей мгле, наедине со степью.
Я остановился, свернул на ковыльную обочину поля и присел к заброшенной копешке. Волглая солома долго не загоралась, ребячий язычок пламени слабо полз по соломинам и, не совладав с сыростью, сникал, испуская в отяжелевший воздух скрученную струйку дыма. Пришлось пожертвовать папиросной коробкой. Огонек неуверенно тронул бумажку, словно пробуя, потом хлопотливо перескочил на нее и, вставая на цыпочки, потянулся к соломе. Через минуту он уже вполз, обжился, обегал все в копне и по-хозяйски пустил вверх синий горьковатый дым, чтобы еще через миг выпрыгнуть на крышу и весело, с жадинкой, заплясать на новоселье…
– Выходит, последышки дожигаем, так, что ли?..
Я обернулся. В накинутом на плечи ватнике стоял дед Сашка, раздумчиво, мимо меня, уставившись в костер. В голубоватых глазах его дрожали и пропадали язычки пламени…
– Выходит, так. Садись, грейся.
– Э-э, – усмехнулся он и махнул рукой, – меня соломой разве теперь согреешь?..
Но подсел, протянул к теплу негнущиеся ладони, блаженно пошевелил пальцами:
– Разве что, это самое, форсунку внутря и соляр жечь… А ты что ж со сменой не уехал?
– Не успел, загонки смотрел.
– Да-а… А я вот с напарником прокопался, фрикционы подводят, шут их возьми… Так вот я и говорю: раньше дратвой подпоясался – и тепло, а зараз хоть на уголья садись, нету тово…
Он не договорил, нахмурился. Плясал в начавшихся сумерках огонь. Поднялись и потянули в село, тяжело взмахивая крыльями, грачи – на прибрежные ветлы, на ночной покой.
Дед Сашка молча провожал их глазами. Костер бросал на его лицо торопливые зарева, но не молодил, не сводил, как других, к какому-то одному человеческому возрасту; под насупленными, торчащими всегда значительно и несколько недоуменно бровями и в морщинках его лежали вечные тени, которые, казалось, не смогло бы высветить даже яркое полуденное солнце.
– Ну-тко, давай подбросим соломки, – вдруг с какой-то неловкостью предложил он, – да посидим, отдохнем малость.
Он вопросительно посмотрел на меня, сконфузился отчего-то и, помедлив, стеснительно и будто виновато пояснил:
– Устал – понимаешь?.. Да и студено, погреться не мешает…
Я согласился. Мы перешли к другой копешке, что побольше, опять разожгли костерик, только сбоку. Дед кинул себе охапку соломы, лег лицом к огню, закурил.
– Век бы вот так лежать, дымок глотать, – вздохнул он и поправил себя: – Опосля работы, конешно, ну и сытного ужину. Только не успеваем, слышь, мы такого: у костерка посидеть, на небо глянуть иль, положим, поспать на сеннике… все думаем, что успеем, все за другим чем спешим – ан и выходит к старости, что зря. А в старости, брат ты мой, уже ничто не мило, и все к одному идет… Все тебе не в радость, донимает: и люди, и погода такая вот, как сейчас…
– Что – погода?
– Ну, смурная такая… осенняя. Не люблю я этого.
– Я смотрю, ты не в себе что-то. Не приболел?
Дед хмыкнул, помолчал, подгреб к костру легкую дымящуюся золу.
– Да как тебе сказать: здоровье – одно, а другое… осень, понимаешь?! – выговорил он вдруг и сморщился. – Ну, не по мне она; весной, летом ли, зимой – я еще орел, а как осень, так сохнет все в нутрях… не могу!
Он растерянно будто замолчал, о чем-то думая, пытаясь схватить что-то ускользающее в себе; засосал потухшую папироску, повертел ее в пальцах и с досадой кинул в огонь. Заговорил неровно, сбиваясь:
– Все мне кажется, что вот кончается что-то… что вот земля сама кончается, ну и шабаш!.. Знаю, что всему есть срок… всего-то делов, что до весны, – а не могу!
– Что и говорить, время невеселое. – Я подбирал слова, был и удивлен и тронут неразумной вроде бы дедовой горячкой; и понимал и принимал ее все больше: тоскуется, мол, и все тут… – Я, дядь Саш, понимаю: ометы эти, пашня, грачи – всегда это так… Как на прощанье.
– Вот-вот, – уже сдержанно подтвердил старик, благодарно моргнув бровями. Рука его была еще судорожно прижата к впалой груди. – Земля, конечно, отдохнуть должна – а как же! Она работает, почитай, не меньше нашего. Шутка ли сказать – всех напитать, жизнь дать, каждую былку взрастить… А только все одно маята… сохнет в нутрях.
Он уставился широко открытыми глазами в сумеречное поле, задумался. Потом встал, уселся на корточки, опять закурил и, показывая непотушенной спичкой, спросил уже спокойно:
– А что это за земля, знаешь?
– Какая земля?
– Ну, какая – вот эта…
Я приподнялся, огляделся вокруг:
– Седьмая, а через дорогу пятая клетки. Земля хорошая, хоть на хлеб мажь…
Дед Сашка вскинул на меня глаза, глянул в упор и как-то странно – растерянно и ожидающе одновременно; и вдруг сник, съежился весь, пряча взгляд и неловко и суетливо укладываясь на подстилку. Брови его дрогнули, разошлись недоуменно.
– А как же – седьмая, ну-ну… – пробормотал он сипло, будто бы с обидой, и затянулся затрещавшей цигаркой, уткнувшись лицом почти в самую землю.
* * *
А я вспомнил свое, оставшееся отчетливым на всю жизнь: раннее утро, низкое, блистающее из-за крыш солнце; невдалеке, в конце улицы, исходит белесым туманом речная вода. Сижу, зябко привалившись к завалинке, подставив всего себя приходящему сверху желанному теплу. Я еще не совсем проснулся, жмурюсь и спрашиваю мать: «А папанька, куда папанька уехал?» – «А на Сашкином поле он, сынок. Нальешь молока, отнесешь к обеду».
Я сонно киваю головой, я согласен: дорога туда хорошая, вдоль реки, и можно вдоволь попугать лягушек, пошарить, свесившись с берега, в рачьих норах, а то и поднять с затона утку-дикарку… Потом идти узкой, с кольями плетней, плотиной, мостиком через ровно шумящий днем и ночью водоспуск; а дальше взобраться на ковыльный галечный взлобок, где духовито и привольно веет чабрецом и нагорным шалфеем, и, загребая босыми ногами взбитую пуховую пыль дороги, шагать средь пресно пахнущих молодых хлебов и заморочных полуденных жаворонков. Идти далеко, к горизонту, куда постоянно сваливаются редкие дожди и где всю ночь потом полыхают сухие сумеречные зарницы – там Сашкино поле…
Закат сгорел; лишь в смутной щели между слоями туч тлела, теплилась еще небольшая багряная полоса, будто стынущая поковка в громадно-темной остывшей кузне. Неслышно промахали крыльями последние грачи, за увалами рокотнул одинокий трактор. Нет-нет да и покажется оттуда пыльное зарево его фар, скользнет далеко; и опять порастет тишиной и смолкнет поле – до весны…
– Ну, ты уж прощай, – попытался пошутить я, и вышло грубовато, – твоя клетка…
– Да что ты прощенья просишь – что? Дорогу мне перешел, что ли! – засердился, смутившись, дед. – Довелось одному дураку так назвать – ну и зовут, эко дело… пусть зовут.
– Клетка-то – твоя, – тихо повторил я.
– Ну, моя… – старик осекся. Под низко надвинутым козырьком его кепки лежали неспокойные тени. Он подождал чего-то, кашлянул в кулак: – Да и как сказать – моя? Всехняя она…
Он еще помолчал, тыкая в землю окурок и супя брови, неожиданно спросил:
– А про Ивана, про Шурамыгина слыхал, небось?
– Нет, – признался я. – Фамилия вообще-то наша, сельская, а чтоб Ивана… нет, не слыхал.
– Н-да…
– Слушай, я давно хотел расспросить тебя, что случилось-то здесь? Разное говорят… А ты, говорят, был при этом.
– Был? – рассеянно повторил дед Сашка, отлучаясь от каких-то своих мыслей, от памяти. – Ну да, был…
– Начали мы, значит, организовывать МТС – в тридцать первом дело было – саман всем селом делали, а станция закупала. Только стали стены выкладывать, как Кузьминов, директор, партеец тогдашний, первый, уже вызывает нас с Шурамыгиным Иваном: так, мол, и так, курсы кончили – собирайтесь в Троицкое, на станцию: американские трактора «Кейс» пришли, один наш!.. Обрадовались мы, козырнули, ну и взапуски домой: узелок там собрать, ватничек… Очень Кузьминов расстраивался, что не колонну тракторов сразу приведет, а один тока; не то, мол, надо бы – колонну, чтоб мужичков раззадорить, встряхнуть. Да какое там… одного хватило – во!..
Село у нас в старое время вольное было, помещиков не терпели. Ну, а как колхозы устроить, так тоже всякое случалось: и задирки с драками, и митинги, и раскулачивали – пух от подушек по всем улицам летал, как на рождество. Не только по большому – в мелочах спуску не давали, вот до чего доходило…
Получили мы этот трактор, поехали – грудь колесом и все такое. В деревнях люди на дорогу выходили, от жилья до жилья провожали – как, скажи, космонавтов сейчас. В поле подшипники пришлось разок перетянуть – это нам тогда за удовольствие было, в охотку-то. И вот к Панюшкиным Воротам подъезжаем, Иван и спрашивает: «А сёдни какой день?» – «Суббота, – говорю, – как раз к баньке попадем». – «Какое – суббота, – отвечает. – ты глянь, глянь в село… Не иначе, престольный – мотри, что деется!» И вправду: народу на проулке пропасть, наряжены, в калошах да полушалках, и все валом валят – к нам, значит.
Ребятня первыми прибежала, за ними остальные, крик, шум стоит. Флаги вынесли – вот-те и престольный! Какой-то сорванец на колокольню пробрался – и ну трезвонить (правда, спустили его оттуда подкулачники, до сих пор калекой ходит – Петрей Калашников; может, знаешь? – я кивнул). Ну, вот: хлеб-соль несут, народ остановился, но очень близко-то не подходит – страшновато; а Кузьминов не выдержал, выскочил поперек – и нас обнимать…
Дед Сашка качнул головой, губы его повело в задумчивой усмешке.
– Митинг был, покачали нас, и тронулись мы в село. Помощник мой хлеб держит, я рулю; опять же – народу!..
Только, значит, проехали Купцовку (это Крестьянская сейчас), а навстречу – еще толпа… Да толпа толпе рознь – с хоругвями идут, псалмы или что там еще поют… бабы в темном впереди, а сзади всё в пиджаках да поддевках суконных, картузы на руках – простоволосы, сукины дети… и поют. И, смотрю, ведет их староста церковный, Перегубов: благостный да строгий весь, как с иконы, волоса лампадным блестят. Только рот у него всё ведет в сторону да на лбу, как сейчас помню, пот проступил – тоже блестит…
И вот что я тебе скажу: мужички трактора как-то и побаивались; он ведь, кроме всего прочего, и надежда – и кто знает, какая надежда? Понадеешься, а ну как все прахом пойдет – тогда как?!
А Перегубов со старухами стал как вкопанный, будто на него не «Кейс» американский прет, а какой-нибудь гнедко паршивый – встал, и ни с места! Что тут делать?.. За мной народ валит – и впереди не чурки; вижу даже – мать среди них, покойница, стоит, забалабонили бабу… Помощничек мой, Иван, толкает: остановись, мол, подавишь.
Но я этого Перегубова, даром что молод был, как стеклышко видел и знал – сволочь был архикрайний (так Кузьминов о нем говаривал). Ссужал, бывало, под все: овца не объягнится – а ягнок уже его; человек не родится, а в кабале, в долгах, как в шерсти… Той же матери моей слезы… рази он смотрел на них?! И тихий ведь был, подлец, и все по-божески, с крестом да Христом: голову так склонит, рубли отслюнявит, а когда к порогу – он так тихо смолвит: «Ты уж, Мареюшка, к Покрову, как договорились… а нет – так не обессудь; двугривенный с рубля-то. Ну, спаси бог…» – и бороду чешет. К тридцатому совсем было притих, в побитых сапогах к заутренной являлся, – ну, и обманулась власть, отмяк народ малость.
А тут вот не вытерпел Перегубов, допекло-таки… Стоит он, а сзади все кулаки да подкулачники, сапоги да бороды. Остановлюсь, думаю, – ну и погублю всё, народ сомненье возьмет, бабы сшушукаются, а главное, вся эта шушера, Перегубовы да Шаволины, Лавриненки да Мишанькины, возьмут свое, сполнют задумку… Нет уж!
Поддал я газу, мотаю ему головой: уходи, мол, покеда цел! Старухи заголосили – и врассыпную; одна только забежала сбоку, бежит и крест накладывает на меня, как на нечистую силу – смех!.. А он стоит все, руку с картузом вперед выставил, трясется весь и на меня смотрит… Помнится, как-то мы кобеля бродячего, в аршин ростом, на дворке прижали (овечек начал таскать, вот до чего одичал и озлился на человека); и вот когда уже и брюхо ему вилами пропороли и колами излохматили вконец – он все еще тянулся, пеной кровавой хрипел, а тянулся ляскнуть, в горло прямо вцепиться и умереть на ком-нибудь из нас. Так вот и Перегубов… точно так глядел.








