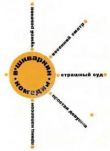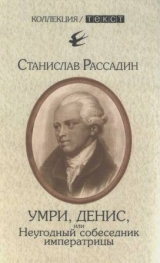
Текст книги "Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Митрофан Простаков, Петр Гринев, Денис Фонвизин…
Некто насмеялся чужеземцу, что у них за морем нет хороших язычных учителей. Тот ему доказал: «Потому что у вас наши перукмахеры, кучеры и цирульники часто бывают почетными учителями».
«Письмовник» Николая Курганова
ЧЕЛОВЕК С ПЕРЛАМУТРОВЫМИ ПУГОВИЦАМИ
Денис Иванович Фонвизин родился 3 апреля 1745 года…
Это безыскусное начало ничем не хуже других, и я ничего бы не имел против того, чтобы так и открыть книгу. Смущает, однако, несколько обстоятельств.
Во-первых, в этой фразе несомненно лишь то, что – родился. И что звать Денисом Ивановичем, не иначе. Дата рождения в точности неизвестна. С фамилией тоже неясности.
Во-вторых, сами по себе эти неясности не случайны. Дело не в отдельной личности отдельного сочинителя, а в характере века.
В-третьих… хотя и «во-вторых» и «в-третьих», по сути, лишь вариации того, что «во-первых»: неполнота наших сведений о человеке, жившем в отдаленном от нас и не совсем разгаданном столетии, неполнота, дающая о себе знать уже в самой первой строке его жизнеописания, естественно, рождает о Фонвизине легенды.
Впрочем, полуприключенческое слово вовсе не означает, будто о Денисе Ивановиче судачат, спорят, домысливают, – напротив, все порою кажется даже слишком простым. Ясным. Привычным.
Легенда зародилась давно.
Писатель, появившийся на свет всего семнадцатью годами после того, как Фонвизин сошел в могилу, ввел его в ряд своих персонажей:
«– Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, – продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, – предмет, достойный остроумного пера вашего!
– Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно по крайней мере Лафонтена! – отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.
– По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего „Бригадира“. Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, – продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам…» – и так далее.
Портрет, набросанный Гоголем, похож – и не похож.
Человек средних лет… Пожалуй, так. Правда, «Бригадира» Фонвизин написал двадцати пяти лет от роду, «Недоросля» – тридцати семи, а в пору, Гоголем изображенную, великая комедия явно еще не сочинена. Но в те времена были свои представления о возрасте, и человека, которому было далеко до пятидесяти, вполне могли назвать стариком. Даже – старцем.
Полное и бледное лицо… Увы, Денис Иванович смолоду жестоко мучился головными болями, сильно был близорук, рано облысел, жаловался на несварение желудка – не говорю уж о роковом параличе, сведшем его в могилу, раннюю даже по тогдашним понятиям.
«Вы удивительно хорошо читаете!» О да, этим он весьма был прославлен, читал свои комедии в лицах не то что как актер – как целая труппа. Правда и то, что «Бригадиром» Екатерина осталась довольна – в отличие от «Недоросля» (хотя и его благожелательная легенда пробовала вовлечь в свои роскошные пределы; Пушкин писал: «„Недоросль“, которым некогда восхищалась Екатерина и весь ее блестящий двор…» Но чего не было, того не было).
Скромный кафтан… Перламутровые пуговицы – стало быть, не чета бриллиантовым или золотым; да и они, как видно, столь броски на невидной одежде Фонвизина, что способны стать его отличительным признаком: «человек с перламутровыми пуговицами»… Вот это уже выдумка, и с расчетом. На самом-то деле Денис Иванович отличался, пожалуй, даже кричащим франтовством и, хвастаясь своими нарядами, случалось, оказывался напыщенно-комичен – по крайней мере с нынешней точки зрения:
«Я порядочно ходить люблю… Хочу нарядиться и предстать в Италию щеголем… C'est un sénateur de Russie! Quel grand seigneur[1]. Вот отзыв, коим меня удостоивают; а особливо видя на мне соболий сюртук, на который я положил золотые петли и кисти… Жена и я носим живые цветы на платье… В рассуждении мехов те, кои я привез с собою, здесь наилучшие, и у Перигора нет собольего сюртука. Горностаевая муфта моя прибавила мне много консидерации» – так кичится наш путешественник перед французами, свысока глядя на их одежку, для русского непривычно простоватую. И то сказать: «…тот почитается здесь хорошо одетым, кто одет чисто». Ну не чудаки ли? А бриллианты, скажите на милость, «только на дамах»!
Вообще, раз уж пришлось к слову, Денис Иванович, что называется, пожить любил. Был и волокитою, и гурманом, и хлебосолом. Притом умеренностью ни в чем и никак не отличался, расплатившись после здоровьем и состоянием. Молва охотно сберегла анекдот, как, обедая у своего друга и покровителя… нет, учитывая характер века, лучше сказать: покровителя и друга – Никиты Ивановича Панина, он взял себе к супу пять больших пирогов (вот они, Митрофановы подовые «не помню, пять, не помню, шесть»).
– Что ты делаешь! – вскричал будто бы Никита Иванович. – Давно ли ты мне жаловался на тяжесть своей головы?
– По этой самой причине, ваше сиятельство, и стараюсь я оттянуть головную боль, сделав перевес в желудке.
Да и сам Фонвизин в заграничных письмах тщательно аттестует ресторации и трактиры, демонстрируя ворчливую привередливость, ругая то поваров, то столовое белье, то порядок прислуживания за обедом (опять французы не угодили: все у них слишком скромно, просто, бедно). Правда, поварня французская, как и нюрнбергское пирожное, отмечена благосклонно…
Может, все это пустяки – и фонвизинская привычка к размаху, и гоголевская поправка? Как посмотреть…
Гоголь рисует самое Скромность. Самое Умеренность. Набрасывает – а точнее, выводит, ибо в едва мелькнувшей фигурке великого предшественника заметны выверенность и обдуманность, – образ нечестолюбивого, сдержанно-достойного сочлена екатерининского окружения, сама отчужденность которого («подалее от других… не принадлежит к числу придворных…») осторожна и соразмерна. Скромный камешек в царском венце, выгодно оттеняющий пышность прочих каменьев и сам от них выгодно отличающийся; перламутр среди алмазов и сапфиров; литератор совершенно в духе девятнадцатого века, учтиво и чуть иронически отстраняющийся от монарших милостей и советов:
«Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно по крайней мере Лафонтена!»
То есть: извольте для сего дела поискать других, ваше императорское величество.
Как это не похоже на человека, бывшего характернейшим типом своего странного века, воплотившего и возвышенность его, и то, что мы, нынешние, готовы поспешно признать низостью; являвшего собою скопище неумеренных страстей, личных и политических; льстеца и смельчака, язвительного остроумца с несносным характером и честолюбца, рвавшегося не от двора, а ко двору, в круг тех, кто делал политику и историю… словом, как не похож человек с перламутровыми пуговицами на подлинного Фонвизина.
Как скромный кафтан на соболий сюртук.
Сегодня мы знаем его лучше, чем те, кто был моложе его лет на шестьдесят – сто. Изучены архивы, дотошно собраны свидетельства современников, и совсем иное дело писать после книги Петра Андреевича Вяземского «Фон-Визин», после работы Ключевского о «Недоросле», после академика Тихонравова, после современных исследователей.
И все-таки много провалов, пробелов, пустот.
Надеясь, что биография Грибоедова будет написана и свидетельства знавших его не уйдут вместе с ними, Пушкин все-таки был грустен и скептичен: «Мы ленивы и нелюбопытны…» Для скепсиса имелись основания – хотя бы судьба Фонвизина; отчаявшись расследовать ее в подробностях, Вяземский записывал в той же печальной интонации, теми же безнадежными словами: «Наша народная память незаботлива и неблагодарна…»
Александр Сергеевич помогал Петру Андреевичу, но добыча была невелика:
«Вчера я видел кн. Юсупова и исполнил твое препоручение: допросил его о Фонвизине, и вот чего добился. Он очень знал Фонвизина, который несколько времени жил с ним в одном доме. С'etait un autre Beaumarchais pour lа conversation.[2] Он знает пропасть его bons mots, да не припомнит».
Всего три-четыре десятилетия прошли со дня кончины Фонвизина, когда Вяземский взялся писать его биографию, но они оказались решающими. Даже младшие современники умирали.
Впрочем, и сам Вяземский доверил читателю далеко не все из добытого им, посчитав, что не настало время, да и нравы девятнадцатого столетия, сравнительно чопорного, не располагали к тому, чтобы разглядывать нестесняющуюся наготу века восемнадцатого. И вот если жизнь Пушкина мы можем восстановить почти по дням (не только его, но и меньших братьев, хоть того же Вяземского), то о Денисе Ивановиче сегодняшний автор сообщает с сожалением:
«Сведения о жизни и занятиях Фонвизина в 1767–1768 годах не сохранились».
Два года вон из исторической памяти. И только ли эти два?
С Грибоедовым-то подобного не случилось. Не то чтобы Пушкин понапрасну сетовал, – конечно, многое протекло сквозь вялые пальцы современников, но многое и зацепилось. Но если кому-нибудь пришло бы в голову издать традиционный сборник «Фонвизин в воспоминаниях современников», получилось бы нечто донельзя худосочное.
Что делать, сказалось различие веков, пушкинского и фонвизинского. Иерархическое восемнадцатое столетие, в котором и иерархия была особой: ценилась не только высота ступени, но характер лестницы, и подъем на Парнас в сравнение не шел с подъемом на Олимп, – оно молчаливо поощряло нелюбопытство и неблагодарность.
Молчаливо в самом прямом смысле – путем умолчания.
Что ж, век ограбил, век пусть и возместит. Пробелы в биографии писателя может заполнить жизнеописание его эпохи и тех ее деятелей, которых она выставляла напоказ; порою нам придется разглядывать Дениса Ивановича косвенно, через невольное посредство тех, в чью тень ему случалось попадать… в тень опять-таки в смысле самом прямом и полном, дурном для нас и подчас хорошем для Фонвизина: она скрыла многие подробности его жизни, зато была и благодатна, ибо защищала от жара неприязненной вышней власти.
Без биографии века тут не обойтись, тем более что Фонвизин – спутник его, у них общие вехи. Открывается Московский университет, и он среди самых первых, рядом с Потемкиным и Новиковым входит в класс его гимназии. Вступив в литературную жизнь как раз тогда, когда писатели тужились родить истинно русский театр, создает, по словом Никиты Панина, «в наших нравах первую комедию». Оказывается в центре борьбы за власть между Екатериной и ее своевольно отстраненным сыном – даже личная судьба Фонвизина зависит от исхода драки. Реально, хоть и подчиненно, участвует в создании российской внешней политики. Разочаровывается и гибнет вместе с последними надеждами на благую волю императрицы.
Фонвизину было восемнадцать, когда Екатерина взошла на трон; он умер за четыре года до ее смерти, и судьбы их пересекались прямо, притом отнюдь не так идиллически, как это выглядит под веселым пером молодого Гоголя. Высвобождаясь из-под обаяния всепримиряющей легенды, Пушкин скажет сурово и жестко:
«Княжнин умер под розгами – и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность».
Итак, пусть пробелы в жизни Дениса Ивановича восполнит жизнь века.
…Моя книга – попытка написать портрет сочинителя Дениса Фонвизина. Определить характер. Высмотреть в истории живое человеческое лицо, вернее, ряд изменений лица – не волшебных, увы: вот обнадеженный первыми начальственными ласками пухлячок-удачник бодро ступает на торную стезю; вот открываются перед ним пути уже не торные, сулящие возвышение, от которого голова идет кругом; вот иллюзии меркнут, а голова кружится уж не от успехов, а от пришедших с неудачами болезней; вот… и т. д.
Соответственно в книге будет все, что положено биографическому жанру: хронология от рождения до смерти, детство, отрочество и юность, любовь и женитьба (не вполне совпавшие), путешествия и политика, дела государственные и имущественные, болезни и прочие беды в той мере, в какой позволит количество сведений, сбереженных историей.
Но портрет писателя – нечто совсем особенное. Писатель всю свою жизнь пишет автопортрет на фоне эпохи и мироздания, даже если такая задача ему и в голову не приходит.
Лев Толстой ворчливо удивлялся самонадеянности биографов, намеревающихся понять его, тогда как он сам себя понять почти не в силах, – а он-то, Толстой, только и делал, что познавал себя и воплощал собственную душу, доверяя ее не только дневникам, но и Пьеру, Андрею Болконскому, Левину: сколько в них самого Толстого! Что же сказать тогда о Фонвизине, создателе монстров? Неужто он, его душа, его судьба хоть как-то воплотились в Скотинине, Простаковой, Митрофане?
Да, воплотились, и толстовский скепсис не должен сдерживать мысль биографа. Фонвизин тоже первоисследователь собственной судьбы. Первосоздатель своего портрета. Он, художник, сообщает нам о себе самые достоверные сведения.
Их надо разглядеть.
Иначе и нельзя, впрочем: во-первых, в силу вышеизложенного (скудость фактов) у нас просто нет иного выхода, как время от времени углубляться непосредственно в сочинения Фонвизина в поисках ответа на тот или иной вопрос. А во-вторых, если такая возможность есть, то грех ею не пользоваться. Потому хотя бы, что из русских литераторов первым предоставил ее своим читателям именно он, Фонвизин. Рядом с Державиным.
В век торжества классицизма, сражавшегося с индивидуализмом, но посягавшего и на индивидуальность, писателя ли, персонажа ли его, Фонвизин все-таки сумел выразить себя ясно и на удивление полно.
«Моя книга в такой же мере создана мною, в какой я сам создан моей книгой», – писал старинный мудрец, которого в России той поры именовали Михайлою Монтанием, и сочинитель «Недоросля» мог бы повторить его слова о себе.
И – о своем «Недоросле». Именно о нем.
«Сочинитель „Недоросля“» – вот как я озаглавил бы эту книгу; может быть, имея в виду отдельную свою задачу, удлинил бы заглавие в духе старинных титулов: «…или Русский человек второй половины восемнадцатого века».
Фонвизин – это «Недоросль». Он стал собою, Фонвизиным, написав «Недоросля», как Грибоедов стал Грибоедовым, написав «Горе от ума», а не «Студента» или «Молодых супругов». Комедия «Бригадир», повесть «Каллисфен», письма из Франции – все это отменно, но даже они для нас комментарий, окружение, свита: вот что взошло на той же почве, вот что вывела рука, сотворившая «Недоросля».
Денис Иванович и сам осознал свою неотдельность и как бы зависимость от детища: уже при нем «Недоросль» успел зажить столь самостоятельно, что не было нужды рекомендовать его как «сочинение г. фон-Визина»; сам автор рекомендовался публике «сочинителем „Недоросля“». Этим полупсевдонимом, звучавшим более веско, чем родовое имя, он и назвался, объявляя об издании журнала «Друг честных людей, или Стародум».
Не комедия состояла при маститом сочинителе, а он при ней. Герои, выведенные в мир родительской рукою, более не нуждались в поддержке, но жили и размножались, плодя подражания: «Митрофанушкины именины», «Сватовство Митрофанушки», «Митрофанушка в отставке». Фонвизин умер, был погребен, а в комедии автора, который самою своей фамилией словно бы решился заявить о намерении копировать покойного комика, – в комедии А. Д. Копиева «Обращенный мизантроп, или Лебедянская ярмарка» все еще разочаровывался в жизни и воскрешался любовью резонер Правдин, и Митрофанова «мама» Еремеевна вспоминала о былом:
«Ища у покойного дядюшки-та, как я ходила в ключах, да была мамою Митрофана-та Терентьича, так тогда труда-та было и больше».
И рассказывала о настоящем: Митрофан женился-таки, и – «барыня у него, дай Бог здравствовать! такая дородная, такая плотная, а такая ж, как он, живут себе да денежки копят».
Что-то похожее, кстати, будет и в моей книге. Она – о судьбе Фонвизина, о людях, его окружавших, о времени. И о персонажах его – да, и о них тоже. Митрофан, Стародум, Простакова войдут в мир, в котором обитали сам Денис Иванович и Никита Панин, императрица Екатерина и поэт Державин. Герои «Недоросля» разбредутся по этим страницам, заглядывая даже в главы, так сказать, чисто биографические, дабы в нужный момент помочь автору книги объяснить то или иное историческое лицо, нечто понять – либо в душе их создателя, либо в характере всех их породившего прелюбопытного столетия.
Это не значит, что Стародум завернет покалякать к Панину, а Простакова, как Салтычиха, предстанет пред грозным царским судом, но ежели б такое понадобилось, и оно стало бы возможно – по причине, о которой сейчас поговорим.
А пока, заканчивая эту главку-предуведомление, начнем помаленьку продвигаться к юному Денису Фонвизину, к первым ступенькам его биографии, – продвигаться через Митрофана и ему подобных; глядишь, и наберемся от них сведений, без которых ни Фонвизина не понять, ни взрастившей его системы тогдашнего российского воспитания.
Не станем торопиться – чтобы встретиться с интересующим нас отроком Денисом, будучи уже несколько подготовленными к встрече.
ПО-ФРАНЦУЗСКИ И ВСЕМ НАУКАМ…
Сегодня «Недоросль» не совсем то, чем был в пору, когда его разыграли в деревянном театре на Царицыном лугу, нынешнем Марсовом поле, и публика «аплодировала пиесу метанием кошельков» (был такой обычай). Пожалуй, сегодня он даже совсем не то. Нынче он – тюзовская комедия, ставшая такою прежде, чем возникли тюзы; больше восьмидесяти лет назад Василий Осипович Ключевский сожалел, что «Недоросля» «обыкновенно дают в зимнее каникулярное время, и, когда он появляется на афише, взрослые говорят: это – спектакль для гимназистов и гимназисток».
Драматически сожалеть, может, и не стоит: удел пьесы, не назначавшейся детишкам, но ими присвоенной, – наипочетнейший удел сказок Пушкина, «Робинзона» и «Гулливера», романов Вальтера Скотта, Дюма, да и Гюго, а отчасти даже «Дон Кихота»; такая судьба говорит о ясности замысла и о полноте воплощения, о счастливой крупности характеров и о классической незамутненности языка: чего лучше? И все-таки…
«Недоросль», воспринимаемый как учебная пьеса, многое теряет. Иногда – почти все: педагогическая притча, наглядное пособие, дразнилка для второгодников, «не хочу учиться, хочу жениться». Типы подменены масками: по сцене мечется престарелая Простакова, рявкает свиноподобный Скотинин, помесь карикатурного урядника с плакатным кулаком, занудно талдычат Стародум и Правдин, неуклюже переваливается толстенный Митрофанушка.
Вот с него и начнем…
Митрофан «слишком засмеян», – укоризненно писал Ключевский. Да, слишком, и дело, может быть, в том, что послефонвизинская сатира, Гоголь, Сухово-Кобылин, Щедрин, приучила нас к гиперболе и гротеску. Но Фонвизин-то – иной, и не зря сам Гоголь – на этот раз не в «Ночи перед Рождеством», а в «Выбранных местах» – как раз и ухватил решающее различие между сочинителем «Недоросля» и автором «Носа»:
«Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на все русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы…»[3]
То же самое скажет Пушкин; скажет о другой фонвизинской вещи, но оговорится при этом, что она «достойна кисти, нарисовавшей семью Простаковых»:
«Все это, вероятно, было списано с натуры». Гоголю и Пушкину вторит Белинский:
«Его дураки очень смешны и отвратительны, но это потому, что они не создания фантазии, а слишком верные списки с натуры…»
Точнее, не совсем вторит. В его голове уже произошла переоценка сатирических ценностей, восторжествовала новейшая манера, именно гоголевская, и вот уж персонажи Фонвизина кажутся слишком верными списками. Слишком – ибо куда Митрофану до Хлестакова и до Ноздрева – Скотинину?
Что ж, чем более запальчивости, тем яснее проступает все та же мысль: Фонвизин, уверяет Белинский, «был в своих комедиях больше даровитым копиистомрусской действительности, нежели ее творческим воспроизводителем».
Так сказать, предтечею собственного подражателя Копиева…
Уничижение задело бы Фонвизина. Сама мысль – вряд ли. Вот он восхищается парижскою комедией:
«Нельзя, смотря ее, не забываться до того, чтоб не почесть ее истинною историею, в тот момент происходящею. Я никогда себе не воображал видеть подражание натурестоль совершенным».
У каждого века свои представления о натуральности изображения. Станиславский убирает четвертую стену, чтобы зритель очутился среди героев пьесы, и для него действие той комедии, которой не мог нахвалиться в Париже Денис Иванович, не вершина сценического реализма. Но как забыть, что сам Фонвизин и, главное, первые его зрители видели в «Недоросле» либо в «Бригадире» не дерзкий вымысел, но – «натуру»?
Никита Панин так и сказал ему после чтения «Бригадира»:
«Я вижу, что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо Бригадирша ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу».
О сочинителе «Недоросля» мы, к несчастью, знаем не слишком много. О самом «Недоросле» – наоборот, слишком много. Вернее сказать, знаем его слишком давно.
На многих персонажах от древности кора наросла, они окружены сценическими предрассудками; вот пример простейший.
Сколько лет Простаковой?
Не знаю, что ответит читатель «Недоросля»; зритель почти наверняка скажет: старуха. Сильно, во всяком случае, немолода.
Но почему?
Митрофану шестнадцатый год. В ту эпоху ранних браков мать могла родить его лет семнадцати. Если так, ей чуть более тридцати – только-то. И уж никак не более сорока.
Конечно, тогда, да и позже, иначе считали годы и иным было самоощущение; вот Толстой пишет о матери Наташи Ростовой: «Однажды вечером, когда старая графиня, вздыхая и кряхтя, в ночном чепце и кофточке, без накладных буклей и с одним бедным пучком волос, выступавшим из-под белого коленкорового чепчика…» И еще: «…трясясь всем телом, засмеялась добрым, неожиданным старушечьим смехом». А ей всего-то в ту пору лет около пятидесяти – что это по нынешним понятиям?
Правда, графиня Ростова изнурена детьми, их у нее было много больше, чем выжило. У Простаковой – один. Вернее, один опять-таки выжил, а рожала она, может быть, несчетно: мать ее, бывшая из «роду Приплодиных», родила восемнадцать чад, да все почти померли.
В нашем театре укоренилась странная привычка, сейчас, впрочем, изживаемая помаленьку. Женские роли классического репертуара игрались с большим возрастным походом – лет на двадцать, тридцать, и вот Глумов ухаживал за шестидесятилетней Мамаевой, а семидесятилетняя Раневская рвалась к любовнику в Париж. В булгаковском «Театральном романе» режиссер Иван Васильевич, прикидывая, как бы распределить среди корифеев своей труппы роли новопринесенной пьесы, предлагал потрясенному автору юную невесту превратить в пожилую мать. Право, он был достаточно деликатен: другие бы просто дали юную роль пожилой актрисе.
Такая несуразица, впрочем, заметна любому зрителю: одни терпят, ссылаясь на условность искусства, другие смеются, но никто не начинает всерьез верить, будто страсть той же Раневской и у Чехова противоестественна, как страсть старухи Екатерины к юным фаворитам. И совсем другое дело, когда речь о ролях, где актрисе не приходится влюбляться.
Простакова. Кабаниха. Васса Железнова… Вот были традиционно старушечьи роли, настолько традиционно, что произошел сдвиг уже и в нашем сознании – нам кажется, что так и должно быть.[4]
Не говоря о простом подсчете, который и тут принуждает нас отобрать у этих бой-баб приписанные им десятилетия, – как меняются сам характер роли, мотивировки поступков, представление о темпераменте!
Простакова – женщина все еще бушующих страстей, вернее, теперь уже монострасти: к сыну. Может быть, она жертва принятого порядка поместных браков: кто тогда думал о любви? Думали о том, как бы приумножить или объединить земли. Только ей выпало не самой быть забитой, а забить мужа, тряпку и фетюка. Вот и бушует она в своем поместье, тратя неистраченное на бурное обожание сына и на крутую расправу с дворовыми, – между прочим, Дарья Салтыкова, знаменитая Салтычиха, овдовела что-то около двадцати пяти лет от роду, а челобитная была подана на нее жертвами ее изуверства в пору, когда ей было тридцать два. Возраст неутолимой бабьей страсти…
Разве не иначе станем мы смотреть на такую Простакову? За нею – не просто скверный нрав, проявляющийся то комически, то жутко, а судьба – человеческая, социальная, сословная.
То же и с Митрофаном.
Кто он? Байбак? Неуклюжий увалень? Набитый дурень? Ничего подобного.
«Митрофан размышляет по-своему находчиво и умно, только – недобросовестно и потому иногда невпопад» (снова – Ключевский). И в самом деле, даже хрестоматийно-комическая сцена экзамена о том говорит.
« Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?
Митрофан. Дверь, котора дверь?
Правдин. Котора дверь! Вот эта.
Митрофан. Эта? Прилагательна.
Правдин. Почему же?
Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна».
Не всякий, не зная ни аза, проявит такую способность на ходу изворачиваться. Выучить проще, чем оказаться остроумным, как сам Фонвизин.
Невежда? Конечно. Но не дурак, нет: ни в умении подластиться к матери, ни в роковой сцене похищения Софьи, когда Митрофан проявляет и, так сказать, организационные способности.
Вообще, судя по всему, он – ражий парень, взросший на добрых хлебах, в котором кровь «резвоскачет и кипит»: недаром забродила в нем мысль о женитьбе. Он – непоседа, что особо оговорено ремарками: «Митрофан, стоя на месте, перевертывается», чем и заслуживает льстивое, но не лживое одобрение Вральмана:
«Уталец! Не постоит на месте, как такой конь пез усды. Ступай! Форт!»
Передвигается он, переполненный «существительной», не приложенной к месту энергией, чаще всего бегом; вот и после Вральманова «Форт!» следует ремарка «Митрофан убегает». А напуганный перспективой лечения и, стало быть, неподвижности, он поспешно обрывает мать:
«Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздоровлю. Побегу-тка теперь на голубятню, так авось либо…»
Короче говоря, этот тюзовский лжеувалень вполне мог бы сказать о себе словами другого деятельного бездельника, Петруши Гринева:
«Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась».
Все, решительно все совпадает: голубятня, возраст, перемена судьбы и характер перемены. «Пошел-ко служить…» – говорит Митрофану Правдин. «Пора его в службу», – решает старик Гринев.
Знаю, кого-то это сравнение обидно царапнет: что общего между Митрофаном, превратившимся в постыдное нарицание, и Гриневым, который после покажет себя так славно? Но об этом «после» после и поговорим, а покаобщего много, да и дерзость сопоставления – не моя.
Все тот же Ключевский (которого я часто поминаю особенно потому, что он, если не считать Вяземского и его «Фон-Визина», автор самой блестящей работы о «Недоросле») вообще увидел в них одно-единственное явление, один исторический тип – русского недоросля XVIII века, дворянского сына, еще не доросшегодо вступления в службу (при Петре «недоросль» становился «новиком», то есть начинал служить пятнадцати лет, в 1736 году ему разрешили жить дома до двадцати). И даже спел недорослю едва ли не дифирамб, возвысив его, дворянчика средней руки, над отпрыском богатого или знатного семейства, коему прямая дорога лежала в гвардию:
«Скромнее была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительство, но решительно сделали нашу военную историю XVIII в. Это – пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых. Пушкин отметил два вида недоросля или, точнее, два момента его истории: один является в Петре Андреевиче Гриневе, невольном приятеле Пугачева, другой – в наивном беллетристе и летописце села Горюхина Иване Петровиче Белкине, уже человеке XIX в., „времен новейших Митрофане“. К обоим Пушкин отнесся с сочувствием. Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину. Историку XVIII в. остается одобрить и сочувствие Пушкина и вкус Марьи Ивановны».
Историк – не пехотный офицер. Он – полководец. Он озирает поле сражения с высоты, а то и на карте; он мыслит не человеческими, а тактическими единицами. Оттого Ключевский размашисто минует вопрос о разности художественных задач Пушкина и Фонвизина; Митрофана и Петрушу сроднил для него их общий исторический прототип. Однако вот что занятно: если даже вглядываться в лицаобоих недорослей – все равно они почти двойники.
Конечно, до времени. До перемены судьбы.
Неудивительно: поместное воспитание неизбежно лепило общие черты. Да и само было всюду примерно одинаковым.
«Сколько дворян отцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу крепостному! Лет через пятнадцать и выходит вместо одного раба двое, старый дядька да молодой барин».
Гневливые слова Стародума произнесены в доме Простаковых, но словно бы прямо обращены к другому дворянину-отцу, к Андрею Петровичу Гриневу. Это ведь он до двенадцати лет держал сына на руках стремянного Савельича, пожалованного в менторы за трезвое поведение.
О нравственном результате говорить не станем, заметим лишь, что не один Савельич, но и сама Арина Родионовна, верная раба и потатчица барским прихотям (на то и баре, чтоб велеть, на то холопья, чтоб подчиняться), не могла влиять на характер своего Сашеньки только благотворно. О результате учебном и говорить незачем, все сказано самим Петрушей: «Под его началом на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля».
Тут уж и господам Гриневым, и господам Простаковым хватило разумения, что ни осведомленность в делах псарни, ни уроки «мамы» Еремеевны не помогут недорослю выдержать экзамен в Герольдмейстерской конторе Сената. Спохватившись, тряхнули мошной и наняли «настоящих» учителей:
«По-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман. Этому по триста рубликов на год. Сажаем за стол с собою. Белье его наши бабы моют. Куда надобно – лошадь. За столом – стакан вина. На ночь сальная свеча, и парик направляет наш же Фомка даром. Правду сказать, и мы им довольны… Он робенка не неволит».