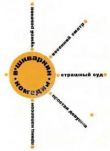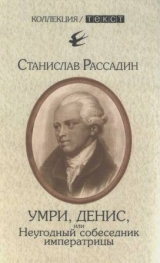
Текст книги "Умри, Денис, или Неугодный собеседник императрицы"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Это как выслуженное дворянство, как «патент на благородство», добытый трудами и врученный по трудам: не случайно незнатный Державин уязвленно и гордо отметит свое возвышение «из безвестности».
«Венчай», – требует Гаврила Романович; «не требуя венца», – говорит Пушкин. Даже не «не требуй», а именно «не требуя», вскользь, в деепричастном обороте. Но отчего же не требовать? Сам же только что, нимало не скромничая, перечислил свои заслуга, для которых понадобились и мужество и гений.
Оттого, что – у кого же требовать? У царя? У толпы? «Зависеть от царя, зависеть от народа»? К чему? «Ты сам свой высший суд».
Нерукотворный памятник выше способности самовластия оценить заслуги поэта, как оценило оно победу Александра над Наполеоном постановлением столпа. И суд высший не потому, что главнее императорского. Он просто другой, особый, царям непонятный и неподвластный. Они тут ни при чем.
«Ты царь» в своем царстве, а не они.
Надеюсь, что меня не заподозрят в ледяном объективизме, если скажу еще раз: я не хулю, не хвалю, я всего лишь – в данном случае – сравниваю. В Фонвизине или Державине уже Пушкину многое казалось неблаговидным (или, точнее, еще Пушкину, ибо тут было полемическое отталкивание ближайшего потомка). Державина он прямо укорял в льстивости, о фонвизинском характере отзывался, что тот «нуждается в оправдании». В черновике же, нередко более откровенном, чем беловик, сказано резче:
«…Характер коего не очень достоин уважения».
Даже так!
Однако оба, и Фонвизин и Державин, уважения более чем достойны: просто их – по-своему высокое – представление о личной чести и внутреннем достоинстве существует в условиях века и сообразуется с его понятиями. Другие-то – откуда взять?
…У Державина есть два послания, адресованные одинаково: «Храповицкому». И оба являются ответами на обращения адресата.
Одно из обращений, более позднее, содержало в себе полусовет-полуупрек Державину:
Достойны громкой славы звуков
Пожарский, Минин, Долгоруков
И за Дунаем храбрый Петр;
Но Зубовых дела не громки,
И спрячь Потемкиных в потемки:
Как пузырей их свеет ветр.
Что можно возразить? За Храповицким как будто правота, и самоочевидная: стоит ли, в самом деле, гордиться тем, что ты воспевал ничтожнейшего Платошу, а кряду и братьев его? Да и Потемкин… восхищение ли только водило державинским пером? Не иные ли соображения?
Тем не менее Державин не желает отказываться от своих од. Дружески и твердо он отвечает:
Извини ж, мой друг, коль лестно
Я кого где воспевал;
Днесь скрывать мне тех бесчестно,
Раз кого я похвалял.
И в этом случае им можно только восхититься.
Дело в том, что и совет и ответ написаны в 1797 году, когда у власти был уже Павел, и Храповицкий, статс-секретарь покойной Екатерины и помощник в ее литературных занятиях, сам весьма ловкий льстец, проявлял обыкновеннейшую и заботливую осмотрительность. Он остерегал Гаврилу Романовича от императорского гнева, который мог бы разразиться, если б Державин не выбросил из собрания сочинений похвалы бывшим баловням судьбы и государыни.
Остережение было тем более нелишним, а ответ Державина тем более смел, что сам Павел именно распорядился спрятать Потемкина в потемки: вышибал «потемкинский дух», подозревая его чуть не в каждом офицере, приказал заделать могилу светлейшего, взыскал с наследников его долги. А Зубову повелел вернуть полмиллиона, обнаружив недостачу в казенных суммах. В чем, конечно, был прав.
Понятно, не стоит впадать в иную крайность и рисовать Гаврилу Романовича рыцарем прямодушия: и лукавил, и жаждал высочайшей ласки, и менять хвалу на хулу приходилось (посвящал императору Павлу оды, а едва того убрали, возрадовался: «умолк рев Норда сиповатый»); но если учесть Павлов нрав, то в небезопасном диалоге с Храповицким смел Державин, а не более гибкий оппонент.
Прежде-то статс-секретарь звал великого собрата совсем к другому: четырьмя годами ранее уговаривал его бросить «чужую песню», оставить сатиры и заняться делом, во всех отношениях более благодарным:
Оставь при ябеде вдовицу,
Судей со взятками оставь;
Воспой еще, воспой Фелицу,
Хвалы к хвалам ее прибавь.
А Державин и в тот раз отвечал отказом, отлично понимая, впрочем, от чего отказывается:
Так, так, – за средственны стишки
Монисты, гривны, ожерелья,
Бесценны перстни, камешки
Я брал с нее бы за безделья…
И заключал: нет, теперь не до того, теперь его занимает другое, и отказаться от сражений за справедливость невозможно: «Богов певец не будет никогда подлец».
Снова он вел себя с отменной смелостью, тем более что Храповицкий чутко уловил желание императрицы. Да и как можно было не уловить? Она, после «Фелицы» сделавшая и Державина своим секретарем, конечно, полагала, что близость к натуре вдохновит одописца на новые восторги.
Но у этого «льстеца» были, оказывается, свои творческие – то есть тем самым свободные, не внушенные никем – законы. Своя пиитическая этика.
«Случалось, – вспоминал он в своих „Записках“, говоря, как обыкновенно, о себе в третьем лице, – что императрица заводила речь и о стихах докладчика и неоднократно прашивала его, чтоб он писал в роде оды Фелице. Он ей обещал и несколько раз принимался, запираясь по неделе дома, но ничего написать не мог, не будучи возбужден каким-либо патриотическим славным подвигом… Видя дворские хитрости и беспрестанные себе толчки, не собрался с духом и не мог писать похвал, каковы в оде Фелице и тому подобных сочинениях, которые им писаны не в бытность его еще при дворе; ибо издалека те предметы, которые ему казались божественными и приводили дух его в воспламенение, явились ему при приближении к двору весьма человеческими и даже низкими и недостойными Великой Екатерины, то и охладел так его дух, что он почти ничего не мог написать горячим, чистым сердцем в похвалу ее».
Не то чтоб он упирался: нет, не стану писать, не хочу; брался и пробовал, но что-то сдерживало его перо. Впрочем, он объяснил, что именно.
Когда во втором, уже припавловском, послании Храповицкому Державин сказал гордые слова:
Раб и похвалить не может,
Он лишь может только льстить… —
это могло показаться красным словцом. Теперь видим, что он был прав в своем самоощущении: ни рабом, ни льстецом он себя не считал. Да и не был, по главной сути.
У Антона Дельвига есть строчки, в которых он говорит о своей скромной и несомненной независимости: «Так певал без принужденья, как на ветке соловей…» Державин, как и прочие стихотворцы восемнадцатого века, певал не на ветке. Не на воле. Не вне общего здания. Он пел внутри, в строго ограниченном пространстве, в золотой клетке. И был все-таки по-своему свободен – таков феномен его эпохи.
Разумеется, речь идет о свободе внутренней, но ведь о ней поэты и мечтают, она и была необходима Пушкину, именно ее у него и отняли, тем самым убив его; по словам Блока, «не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, – тайную свободу».
Таковым был – по-своему, конечно, – и Денис Иванович Фонвизин; позже его унижали тем, что он будто бы не гнушался шутовством у Потемкина, занимался искательством перед Паниным, – что ж, пороки есть у всех людей и, конечно, он не был отчаянным храбрецом вроде Радищева; однако тот же Пушкин имел все основания окрестить его «другом свободы», что для фонвизинского века было заслугою чрезвычайной.
Нигде так не опасна внеисторичность, как в нравственных оценках, и наивно было бы с нынешних высот, завоеванных, между прочим, не нами самими, а протекшим временем, осудить «рабские» фразы в письмах из Франции, не сообразив, отчего же они явились под пером замечательного человека (еще хуже сделать вид, что их не существует, а то и одобрить). Или, скажем, заподозрить в отношении к Никите Ивановичу Панину не только искренние любовь и благодарность, но корыстную расчетливость. Или… и так далее.
«Безумным и мудрым» окрестил свое столетие Радищев; приметим, что в те времена слово «безумный» вовсе еще не звучало с той горделивостью, какою после наделил ее романтизм: дескать, не такой, как пошлая толпа, благородно одержимый, озаренный нездешним светом… нет, оно значило: глупый, дурацкий, сумасшедший – одним словом, без-умный. И как же надо нам чтить людей, которые, быв созданьями своего создателя, от крови и плоти его, предпочтительно приняли на себя ношу его мудрости. И вынесли эту ношу.
А как это было трудно, о том и говорят их срывы в без-умие…
ОТСТАВНОЙ СТАТСКИЙ СОВЕТНИК
Однако ж, пока Денис Иванович путешествовал, служебные дела его покровителя, а стало быть, и его самого помаленьку, но неуклонно ухудшались. С момента же возвращения конец стал приближаться все стремительнее и неотвратимее.
До чрезвычайности возвысившийся «почетный фаворит» Потемкин и подпиравший его Безбородко всё делали, чтоб свалить врага опасного, хотя и теряющего силы (придворные, да и физические). Главное же, Екатерине давно не терпелось очистить от Панина уже не только дом наследника, но и Коллегию иностранных дел.
Наконец наступил удобный момент. В конце апреля 1781 года Никита Иванович уехал на три месяца в отпуск, и явилась возможность прибрать его дела к рукам.
Английский посол Гаррис удовлетворенно доносил начальству о шаткости положения того, кто со своей идеей вооруженного нейтралитета наделал его родине столько хлопот:
«Невероятно, чтобы граф Панин снова вступил в управление делами. Он хочет приехать сюда ко времени привития оспы великим князьям. Это в особенности не нравится императрице, которая с гневом сказала, что не понимает, зачем будет Панин при этом случае; что он всегда вел себя, как будто был членом семьи, и ее дети и внучата столько же принадлежали ему, как и ей…»
Тут, разумеется, снова ревность не матери и бабки, а императрицы; на всем отсвет политики, интриг, борьбы за власть, и трогательная семейная троица, которую Фонвизин нарисовал в «Слове на выздоровление Павла», также была, как помним, вызовом и дерзостью.
Однако вернемся к Гаррису:
«…но, прибавила государыня, если Панин думает, что когда-нибудь вступит в должность первого министра, он жестоко ошибается. При дворе моем он не будет иметь другой должности, кроме обязанности сиделки».
В сентябре Никита Иванович возвращается – увы, только в Петербург, но не к делам. Екатерина приказала вице-канцлеру прямо докладывать ей, минуя Панина, помимо него предоставлять дипломатическую переписку, без него вести корреспонденцию с иностранцами. За этим следует естественный исход: полная отставка.
Любопытно, что окончательной уверенности в победе над Паниным и сейчас еще нет, и Потемкин говорит все тому же Гаррису:
«Вы знаете изменчивость нашего двора, Панин может снова занять свои места, и если вы будете внимательны к нему во время немилости, ему будет стыдно действовать против вас, как он до сих пор действовал».
Что это, сочувствие Панину? Конечно нет: скорее, трезвое и боязливое предположение, что дипломатические таланты отставника еще могут пригодиться и перевесить ненависть к нему Екатерины. И расчет: чем черт не шутит, вдруг судьба повернется, а союз с Англией дело важное.
Нет, не повернулась. К тому ж спроважен в заграничное путешествие Павел, и решение исключить самую возможность его стачки с бывшим воспитателем было тут не последней причиной. Мария Федоровна никак не хотела ехать без детей – Потемкин тут же донес царице, что и это козни Никиты Панина, – но Екатерина настояла на своем: граф и графиня Северные отбыли. В ужасном состоянии; словно едут в вечное изгнание, говорит очевидец. С Марией Федоровной был даже обморок отчаяния.
В этот день Екатерина в последний раз встретилась с Никитою Ивановичем и уж постаралась его унизить: «…она явно выразила ему свое презрение, что необыкновенно смутило спокойную и неподвижную физиономию Панина».
Вслед за тем – физическое расстройство, вызванное, без сомнения, потрясением душевным, и, в марте 1783 года, смерть. Бывший ученик, Павел, в последние годы от Панина удалившийся, все же приехал к нему в прощальный час его жизни и рыдал над его одром. Бывший секретарь, Фонвизин, не расставался с покровителем и другом до конца.
Правда, историк, не благоволивший ни к Никите Панину, ни к Денису Фонвизину, его «созданию и преданнейшему слуге», сообщает не без злорадного удовольствия, что Фонвизин около 1780 года часто и своекорыстно бывал у побеждающего врага своего патрона, Потемкина, «и, во время утреннего туалета, веселил его рассказами о придворных и городских сплетнях. Потемкин смеялся, но дело не подвигалось вперед, и скоро посещения Фонвизина прекратились – они никогда не нравились императрице, считавшей их способом выведывания о том, что делалось при большом дворе…».
Конечно, нам, сегодняшним, хотелось бы с негодованием опровергнуть то, что Денис Иванович не только посещал, но и веселил недруга Никиты Ивановича; лучше б этого не было, даже если заразиться Екатерининой подозрительностью и поверить, что он бывал у Потемкина с шпионскими поручениями от Панина. Но вот документ; вот записка императрицы, адресованная вечному фавориту. Для документальности сохраняю орфографию:
«Сто леть, как я тебя не видала; как хочеш, но очисти горница, как прииду из комедии, чтоб приити могла, а то ден несносен будет и так ведь грусен проходил; черт Фанвизина к вам привел. Дабро, душенка, он забавнее меня знатно; однако я тебя люблю, а он, кроме себя, никого».
(К слову сказать, беспомощность Екатерины в российской орфографии – вплоть до легендарного «исчо» – покажется вовсе не этакой исключительной на тогдашнем фоне. Она-то хоть иноземка, но и у образованнейшей княгини Дашковой, урожденной Воронцовой, русское правописание коряво. И неудивительно: в юности читавшая Беля, Монтескье, Буало, Вольтера, Гельвеция, уже знавшая четыре языка, она сообщает как о некоей редкости и почти прихоти: «…а когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами занимался Бехтеев». Да что говорить, если пушкинская Татьяна и та по-русски почти не читала и вовсе не писала.)
Одним словом, нам с вами, читатель, придется утешиться только что испытанным способом: размышлениями о характере века, в коем всего, даже и добра общественного, трудно добиться без сильного покровительства. И еще тем, что Денис Иванович, как истинный друг, не оставлял Панина до смерти и чтил по смерти. Больше того, написал по его плану «Рассуждение о непременных законах». Можно сказать, воздвиг ему памятник – выше того, что, воцарившись, поставил воспитателю Павел в церкви Святой Магдалины, в Павловске. Выше, ибо также нерукотворный.
Добавим, что после он, исполняя долг верности и любви, сочинил жизнеописание покровителя, а это было поступком весьма опасным, почти даже недозволенным: недаром «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина» вышла анонимно и – вероятно, для анонимности пущей – сперва на французском языке.
Опасность, стало быть, сознавалась ясно, и сокрытие имени – тому подтверждение. Не то чтоб полиция не могла разыскать сочинителя, но… на всякий случай…
И больше того. Фонвизин немедля последовал за своим высоким другом – еще не в могилу, но в отставку.
Вот финал его служебной карьеры.
«Всемилостивейшая государыня!
В действительной службе Вашего Императорского Величества нахожусь близ двадцати лет. В 1762 году вступил я из гвардии сержантов в Коллегию иностранных дел переводчиком. В 1764-м по именному Вашего Императорского Величества указу определен я при Кабинете титулярным советником. В 1769-м по именному же высочайшему указу взят я в ту же коллегию и находился при канцелярии господина тайного действительного советника графа Никиты Ивановича Панина надворным советником близ десяти лет. При торжестве мира всемилостивейше награжден я прибавкою пятисот рублев в год к настоящему окладу. В 1779-м пожалован я канцелярии советником, а в прошлом году определен на место статского советника, члена почтовой экспедиции.
Жестокая головная болезнь, которою стражду я с самых детских лет, так возросла с моими летами, что составляет теперь несчастье жизни моей. Оно тем для меня тягостнее, что отьемлет у меня силу продолжать усерднейшую службу Вашему Императорскому Величеству. В сей крайности состояния моего принужденным нахожусь, припадая к священным стопам Вашего Императорского Величества, всеподданнейше просить моего от службы увольнения.
Денис Фон-Визин
1 марта 1782 года».
Головная болезнь – не пустая отговорка, однако за всеми обязательными фразами: «…отъемлет у меня силу продолжать усерднейшую службу… припадая к священным стопам…» – горчайшие разочарования, крушение надежд свершить нечто на поприще дела.
Остается слово.
Да и о самой болезни Фонвизин некогда писал Елагину не без осмысленного сарказма: «Все медики единогласно утверждают, что стихотворец паче всех людей на свете должен апоплексии опасаться. Бедная жизнь, тяжкая работа и скоропостижная смерть – вот чем пиит от прочих тварей отличается».
В именном указе об увольнении тем более не будет ни радости по поводу окончательного свержения Панина, ни недоброжелательства к его «созданию». Все пристойно, так что приятель Дениса Ивановича Герман Клостерман вполне сможет сказать: Фонвизин получил отставку «на лестных для него условиях».
«Нашему генерал-майору Безбородко.
Находившемуся членом в главном почтовых дел правлении статскому советнику Денису Фон-Визину, уволенному по его прошению от всех дел, повелеваем производить по смерть от почтовых доходов половинное его жалованье с прибавочным окладом, пожалованным от нас ему в 1 день июня 1779 г.
ЕКАТЕРИНА
В Санкт Петербурге
Марта 10 дня 1782 г.»
Если перевести это на рубли, условия действительно довольно лестные – 3000 в год.
Итак, отныне Денис Иванович – отставной статский советник. И – сочинитель «Недоросля». Ибо пока происходило все вышеописанное, он успел сочинить обессмертившую его комедию.
Я правду о тебе порасскажу такую…
…что хуже всякой лжи:
Вот, брат, рекомендую!
Грибоедов. Горе от ума
УМРИ, ДЕНИС!
Ипполит Богданович, будущий автор прославленной «Душеньки», так отрецензировал представление «Недоросля»:
Почтенный Стародум,
Услышав подлый шум,
Где баба непригоже
С ногтями лезет к роже,
Ушел скорей домой.
Писатель дорогой!
Прости, я сделал то же.
Неизвестно, точно ли насмешник ушел недосмотрев или погрозился погодя; второе – вероятнее. Известно зато, что публика с Богдановичем не согласилась.
«Представлена в первой раз, – сообщал о комедии „Недоросль“ современный Драматический словарь, – в Санктпетербурге, Сентября 24 дня 1782 года, на щот перваго придворнаго актера г. Дмитревскаго, в которое время несравненно театр был наполнен и публика аплодировала пиесу метанием кошельков. Характер Мамы (то есть Еремеевны. – Ст. Р.)играл бывшей придворной актер г. Шумской к несравненному удовольствию зрителей… Сия комедия, наполненная замысловатыми изражениями, множеством действующих лиц, где каждой в своем характере изречениями различается, заслужила внимание от публики».
«По окончании пьесы, – прибавляет другой источник, – зрители бросили на сцену г. Дмитревскому кошелек, наполненный золотом и серебром… Дмитревский, подняв его, говорил речь к зрителям, в которой благодарил публику и прощался с ней».
Что известно еще? Ну, разумеется, фраза Потемкина, ставшая столь крылатой, что не все уже соотносят ее с Фонвизиным, порою просто не помня, какой это Денис должен вдруг помирать, ибо лучшего уж не напишет; известно и то, что путь к представлению был не совсем гладок.
28 мая 1782 года из Петербурга за границу отправлено письмо.
Адресат – князь Александр Борисович Куракин (между прочим, племянник Никиты Панина, назначенный им в товарищи маленькому Павлу и оставшийся таковым в зрелом возрасте), автор – гувернер и друг князя Пикар.
«Мы не увидим здесь, – сожалеет француз, – новую комедию г-на Фон-Визина под названием „Недоросль“, на что мы прежде надеялись, потому что актеры не знают своих ролей и не в состоянии сыграть ее в назначенное время. Автор уезжает через несколько дней в Москву и, говорят, поставит свою комедию на московском театре; при настоящем недостатке в удовольствиях и театрах это действительно лишение для публики, которая уже давно отдает должную справедливость превосходному таланту г-на Фон-Визина; несколько просвещенных особ, прослушавшие чтение этой комедии, уверяют, что это лучшая из русских театральных пиес в комическом роде; действие ведено умно и искусно и развязка весьма удачна».
Правда, комически славный стихотворец граф Хвостов сообщает нечто иное:
Лишь «Недоросля» нам Фон-Визин написал,
Надменнин автора исподтишка кусал.
Тут стрелы злобные отвсюду полетели,
Комедию играть актеры не хотели…
«Не хотели» – не значит «лодырничали»; Хвостов подтверждает это своим примечанием к стихам:
«„Недоросль“ Фон-Визина вытерпел большое гонение, что известно современникам и театральной архиве».
Фонвизин с Дмитревским кинулись в Москву, там читали комедию по домам, вели переговоры о постановке, но дело и тут не спорилось: возникли препятствия цензурные. Управа благочиния – попросту говоря, полиция – не спешила разрешать неблагочинную пьесу. Старая столица осторожно уступала первенство новой.
Уже после того, как петербургская публика в полном смысле щедро вознаградила старания Дмитревского и Шуйского, Денис Иванович все еще тревожно писал московскому антрепренеру Медоксу:
«Брат мой, я надеюсь, передал вам, любезный Медокс, известный пакет и объяснил принятое мною решение для уничтожения толков, возбужденных упорством вашего ценсора. Продолжительное ваше молчание слишком ясно доказывает мне неуспех ваших стараний, чтобы получить позволение. Я положил конец интриге и, кажется, тем достаточно доказал прямое согласие на представление моей пьесы, потому что 24 числа этого месяца придворные актеры Е. И. В. играли ее на публичном театре по письменному дозволению от правительства. Успех был полный».
Тут уж дрогнула и консервативная Москва, хотя не сразу: ее публика увидела «Недоросля» только в мае следующего, 1783 года. Зато в течение сезона комедия прошла восемь раз – по нынешним понятиям, смехотворно малое число, по тогдашним – значительное. Ставилась она и на домашних сценах, притом из письма все к тому же князю Александру Куракину, правда писанного уже не Пикаром, а братом Алексеем, мы узнаём, что в начале 1784 года сам автор в московском доме Апраксиных играл Скотинина.
Появилось и издание комедии – к сожалению, все-таки с цензурными изъятиями. Да и на сцене ее играли, вымарывая реплики и целые сцены.
Богдановича, покоробленного нечистотою языка «Недоросля», можно было понять. Ежели сам ты предпочитаешь такой род:
О! когда б я был пастушка
Вместо участи моей,
Я бы Клоин был подружка
И всегда играл бы с ней… —
то можно ли спокойно усидеть в партере, слушая, как на подмостках дико орет Простакова:
«Пусти! Пусти, батюшка! Дай мне до рожи, до рожи…» Или восхищаться угрозами Еремеевны:
«Издохну на месте, а дитя не выдам. Сунься, сударь, только изволь сунуться. Я те бельмы-то выцарапаю… У меня и свои зацепы востры!»
Хотя, если бы дорожил натуральностью изображения, мог бы и восхититься.
«Пересказывают со слов самого автора, – передавал Вяземский, – что, приступая к упомянутому явлению, пошел он гулять, чтобы в прогулке обдумать его. У Мясницких ворот набрел он на драку двух баб, остановился и начал сторожить природу. Возвратясь домой с добычею наблюдений, начертал он явление свое и вместил в него слово зацепы,подслушанное им на поле битвы».
Богданович не был одинок, но в общем-то грубость выражений в тот век не слишком смущала. Это в следующем столетии ужаснутся реплике: «Слыхано ли, чтоб сука щенят своих выдавала?» – заменят «суку» бесполою «собакой», потом же и на этом не успокоятся: «…чтоб курица цыплят своих выдавала?» Но и того будет мало. Курица – оh, с'est mauvais ton! Не благозвучнее ли «наседка»?
То есть с запозданием учтут замечания певца Клои. Недаром Пушкин, защищая от чопорной критики свое право на вольное словцо, взывал к тени Фонвизина: «Если б Недоросльявился в наше время, то в наших журналах, посмеясь над правописанием Фонвизина, с ужасом заметили бы, что Простакова бранит Палашку канальейи собачьей дочерью,а себя сравнивает с сукою(!!). „Что скажут дамы! – воскликнул бы критик. – Ведь эта комедия может попасться дамам!“»
Дамы восемнадцатого века, в отличие от их угодника-пиита, и не такое могли снести, и из «Недоросля» изымали не брань, а слова обличительно-увещевающие, что Фонвизина весьма терзало. После, задумывая журнал «Друг честных людей», он напишет к Стародуму письмо от сочинителя «Недоросля», где попробует восстановить в памяти публики свой первозданный текст:
«В том, что выпущено, много есть нравоучительного».
Но нравоучений-то и не хотели. Прежде всего – наверху. «Недоросля» разыграли актеры Е. И. В. – Ее Императорского Величества, но выступали они на подмостках Вольного российского театра, выстроенного на Царицыном лугу, нынешнем Марсовом поле. На придворную сцену комедию не допускали.
Кончилась пора высочайшего снисхождения. К автору «Бригадира» и сотруднику задушевного друга Перфильича Екатерина благоволила; союзника Паниных и сочинителя «Недоросля» уже ненавидит. Пока – молча. Но придет время и гнева сокрушительного.
Правда, не все считали, что и в эту пору дело ограничивалось презрительным молчанием.