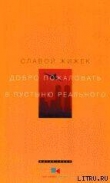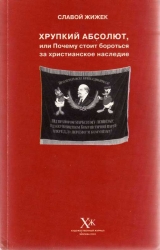
Текст книги "Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие"
Автор книги: Славой Жижек
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
С учетом происходящей дигитализации нашей жизни эта отсылка к (материальному) производству является основной. Мы переживаем сейчас времена напряженной революции в «производительных силах», чьи самые заметные и самые разрекламированные новинки затеняют ее куда более далеко идущие последствия. Настоящий вопрос в отношении киберреальности и виртуальной реальности заключается не в том. что случится с нашим переживанием реальности (все эти скучные модные вариации на тему «не превратится ли реальная реальность в одно из окон киберпространства?»), а в том, как диспозиция Интернета повлияет на статус межличностных отношений. Настоящий «ужас» киберпространства не в том, что мы взаимодействуем с виртуальными сущностями как с людьми, не в том, что мы принимаем виртуальные безличности за реальные личности, а в том, что в нашем взаимодействии с реальными людьми, все больше и больше доступными лишь через дублеров в киберпространстве, мы обращаемся с ними как с виртуальными. которых можно безнаказанно оскорблять и мучить, раз уж мы взаимодействуем с ними только в виртуальной реальности.
В таких условиях появляется искушение воскресить старую, позорную и наполовину забытую марксистскую диалектику производительных сил и производственных отношений: как эта трансформация воздействует не только на производственные отношения в узком смысле слова, но и на все социальное существование, на нашу практику и (идеологический) опыт социального взаимодействия? Марксу нравилось противопоставлять революционные перемены в производственном процессе политической революции. Постоянно звучащий у него мотив – паровая машина и другие технологические инновации XVIII века сделали для обострения революционной ситуации в социальной жизни куда больше, чем самые зрелищные политические события. Разве не звучит этот мотив уместнее сегодня, чем когда–либо раньше, сегодня, когда неслыханные изменения в производстве сопровождаются своего рода летаргией в сфере политики: в то время как мы переживаем радикальную трансформацию общества, последствия чего мы еще даже не в состоянии точно определить, многие радикальные мыслители (от Алана Бадью до Жака Рансьера) утверждают, что эпоха собственно политических действий, по крайней мере на какое–то время, завершилась.
Этот парадокс, возможно, указывает нам на необходимость вновь сделать в противоположном направлении шаг, общий для Хабермаса и его «деконструктивных» оппонентов, шаг от производства к символической активности, и вновь сфокусироваться на (материальном) производстве, противопоставленном участию в символическом обмене [64]64
Заслуга Фредерика Джеймисона в том, что он постоянно настаивает на этом пункте.
[Закрыть]. Для двух столь разных мыслителей, как Хайдеггер и Бадью, материальное производство не является местом «аутентичной» истины–события (каковыми являются политика, философия, искусство…). Деконструктивисты обычно начинают с утверждения, что производство также является частью дискурсивного режима, что оно не лежит вне сферы символической культуры, после чего продолжают его игнорировать и в той или иной мере сосредоточиваются на культуре. Разве такое «вытеснение» производства не отражается в пределах сферы самого производства под маской разделения на виртуальное/символическое место «творческого» планирования–программирования и место его осуществления, материальной реализации в странах третьего мира от Индонезии и Бразилии до Китая? Это разделение – с одной стороны, чистое, «без трений» планирование, осуществляемое в исследовательских кампусах или «абстрактных» застекленных небоскребах: с другой стороны, «невидимое» грязное изготовление, которое принимается планировщиками в расчет главным образом под маской «инвайронментальных расходов», – становится сегодня все более и более радикальным. Даже географически две стороны производства разделены тысячами миль.
Мы совершенно очевидно переживаем процесс, в котором обретает форму новая констелляция производительных сил и производственных отношений. Однако понятия, которые мы используем для определения этого появляющегося Нового («постиндустриального общества», «информационного общества» и т. д.) еще не являются настоящими понятиями. Подобно понятию «тоталитаризм», они – теоретическая временная мера: вместо того, чтобы позволить нам осмыслить обозначаемую ими историческую реальность, они освобождают нас от обязанности думать или даже активно противодействуют тому, чтобы мы думали. Вот обычное возражение постмодернистских законодателей мод от Алвина Тоффлера до Жана Бодрийара: мы не можем думать об этом Новом, потому что застряли в старой индустриальной «парадигме». На такое обычное возражение хочется ответить, что верно как раз–таки обратное: а что, если все эти попытки оставить позади материальное производство, вычеркнуть его из картины посредством концептуализации современных мутаций в качестве сдвига от производства к информации объясняются желанием отстраниться от трудностей осмысления того, как эта мутация влияет на структуру общественного производства? Иначе говоря, а что, если подлинная задача как раз–таки и заключается в том, чтобы понять появление Нового в терминах общественного материального производства?
Предельно важно отметить и то. что это игнорирование значимости сферы (материального) производства характерно как для либерально– консервативных идеологов «постиндустриального общества», так и для их явных оппонентов, немногих сохранившихся политических «радикалов». Политический «экстремизм» или «излишний радикализм» всегда следует понимать как феномен идеологически–политического смещения, как указатель на свою собственную противоположность, на ограниченность и отказ, по сути дела, «идти до конца». Разве не было якобинское обращение к радикальному террору своего рода истерическим отыгрыванием, свидетельствующим о неспособности поколебать собственно основания экономического порядка (частной собственности и т. д.)? И разве не то же самое касается и так называемого «избытка» «политической корректности»? Разве не демонстрируют ее сторонники бегство от беспокоящих действующих (экономических и прочих) причин расизма и сексизма? Возможно, пришло время воздать должное разделяемой всеми постмодернистскими леваками проблематике стандартного топоса, согласно которой политический тоталитаризм так или иначе проистекает из господства материального производства и технологии над межличностной коммуникацией и/или символической практикой, будто корень политического террора в том, что «принцип» инструментального разума, технологической эксплуатации природы распространяется также и на общество, так что людей принимают за сырье, которое предстоит превратить в Нового Человека. А что, если дело обстоит как раз–таки наоборот? Что, если политический «террор» сигнализирует о том, что сфера (материального) производства отрицается в ее автономности и подчиняется политической логике? Разве весь политический «террор», от якобинцев до маоистской культурной революции, не предполагает отвержение собственно производства в его самостоятельности и не подчиняет его политической лотке? Разве весь этот политический «террор», от якобинцев до маоистской культурной революции, не предполагает сведение производства к области политических баталий [65]65
Здесь обнаруживается слабое место в остальном в высшей степени артикулированной критики «тоталитаризма» Клода Лефорта. В своей недавно вышедшей книге «La Complication. Retour sur le Communisme» (Paris: Fayard, 1999) Лефорт предлагает убедительное опровержение упрощений Франсуа Фюре, подчеркивая то, как множество достижений сегодняшнего либерального консенсуса были приняты лишь в результате коммунистической борьбы, были усвоены этим самым консенсусом после ожесточенного либерального сопротивления (прогрессивный подоходный налог, всеобщее бесплатное образование). Однако перспективы Лефорта сильно ограничиваются его стремлением развернуть чисто политическую логику «демократических завоеваний». Это ограничение не дает ему обосновать собственно феномен «тоталитаризма»: он появляется именно тогда, когда политика прямо одерживает верх, он сигнализирует о провале политического агента в деле реструктурализации производственной сферы.
[Закрыть]?
Так где же нам сегодня, в эпоху якобы «исчезающего рабочего класса» искать «пролетария»? Чтобы адекватно подойти к этому вопросу, нужно, по–видимому, сконцентрироваться на том, как марксово понятие пролетария переворачивает классическую гегелевскую диалектику Господина и Раба. В борьбе между (будущим) Господином и Рабом, как пишет в «Феноменологии духа» Гегель, Господин готов поставить на карту все, вплоть до своей собственной жизни и, таким образом, он обретает свободу в то время как Раб не столько прямо привязан к Господину, сколько изначально – к объективному окружающему его материальному миру к корням окружения, в конечном счете, к своей жизни как таковой; он не готов рисковать и потому уступает свою суверенность Господину. Хорошо известный советский шпион Александр Кожев рассматривает эту гегелевскую диалектику Господина и Раба как прообраз марксовской классовой борьбы; и он прав в том случае, если учесть, что Маркс перевернул эти понятия. В пролетарской классовой борьбе именно пролетарий занимает место гегелевского Господина: он готов рисковать всем, поскольку он чистый субъект, лишенный всех корней, поскольку как говорили в былые времена, ему «нечего терять, кроме твоих цепей». Капиталисту же, напротив, есть что терять (а именно капитал), и он, таким образом, оказывается настоящим Рабом, привязанным к своим владениям, по определению никогда не способным поставить на карту все, даже если он самый подвижный новатор, прославляемый сегодня средствами массовой информации. (Важно помнить, что в оппозиции пролетария и капиталиста, для Маркса, как раз пролетарий – субъект, символизирующий нематериальную субъективность, не имеющий ничего общего с объектом, подчиненным капиталисту в роли субъекта.) Это и дает нам ключ к пониманию того, где нам искать сегодняшнего пролетария: там, где субъект низведен до лишенного корней существования, где он лишен всех материальных уз.
8. МУСУЛЬМАНИН
В понятии социального антагонизма межсоциальные различия (тема конкретного общественного анализа) частично совпадают с различиями между социальным как таковым и его другим. Это совпадение становится особенно заметным во времена расцвета сталинизма, когда враг обозначается как не–человек, как отброс человечества: борьба партии Сталина с врагом становится борьбой собственно человека с нечеловеческими отбросами. То же самое, но на другом уровне имеет место в случае нацистского антисемитизма, при котором евреям отказывают в праве называться людьми. Этот радикальный уровень противопоставления не должен послужить для нас соблазном оставить конкретный социальный анализ Холокоста. Проблема академической холокост–индустрии как раз–таки и заключается в вознесении Холокоста до уровня метафизического дьявольского Зла, иррационального, аполитичного, непостижимого, доступного лишь сквозь уважительное молчание. Холокост – это та точка предельного травматизма, в которой объективирующееся историческое знание распадается, та точка, в которой приходится признавать бесполезность этого знания перед лицом отдельно взятого очевидца, и это еще и та точка, в которой сам очевидец осознает, что у него не хватает слов, что единственное, чем он может поделиться, – это молчание. С Холокостом обращаются как с тайной, центром тьмы нашей цивилизации. Его загадка заранее отрицает все (проясняющие) ответы, она отказывает знанию и описанию, она вне коммуникации, вне историзации, ее невозможно объяснить, визуализировать, представить, передать, ведь она отмечает Пустоту, черную дыру, конец, взрыв, направленный внутрь (нарративной) вселенной. Соответственно, любая попытка поместить Холокост в его контекст, политизировать его равняется антисемитскому отказу признавать его уникальность. Вот одна из распространенных версий Освобождения от Холокоста:
Великий хасидский учитель Рабби из Коцка обычно говорил: «Есть истины. которые можно выразить в словах, и есть более глубокие истины, которые можно передать лишь молчанием. Но есть еще и такие истины, которые не выразить ни в словах, ни в молчании». И все же их необходимо выразить в словах. Перед нами дилемма, с которой столкнулся каждый, кто оказался в концентрационном лагере: как можно передать всю тяжесть, весь размах события, не поддающегося описанию в языке? [66]66
«Foreword by Elle Wiesel» in: Insdorf A. Indelible Shadows. Film and the Holocaust, Cambridge (Ma): Cambridge UP. 1989. P. 11.
[Закрыть]
Но разве слова эти не указывают на лакановскую встречу с реальным? Нигде необходимость сопротивления тому, что Лакан назвал «искушением жертвоприношением», не стоит более остро, чем в связи с Холокостом. Жертвоприношение не просто нацелено на некий выгодный обмен с тем Другим, которому приносится жертва: его более фундаментальная цель – удостовериться в том, что где–то там есть некий Другой, который может ответить (или не ответить) на сопутствующие жертвоприношению мольбы. Даже если Другой и не исполняет мои желания, то, по крайней мере, я могу удостовериться в том, что он существует, в том, что, возможно, в следующий раз он мне ответит: окружающий меня мир, со всеми бедами, что могут свалиться на мою голову, представляет собой не просто бессмысленную, слепую машинерию, но своеобразного партнера по возможному диалогу, в котором даже бедствие можно понять как осмысленный ответ, но не как продукт царства слепого случая. Именно на таком фоне следует понимать отчаянную потребность историков Холокоста выявлять его конкретную причину, устанавливать его значение. Когда они ищут «перверсивную» патологию в сексуальности Гитлера, то на самом деле боятся, что найдут ничто, т. е. что в личной, интимной жизни Гитлер был, как и все остальные. В этом случае его чудовищные преступления кажутся еще более отвратительными и жуткими. Когда исследователи отчаянно ищут тайное значение Холокоста, то им лучше найти какое угодно объяснение (даже еретическое утверждение, что, мол, сам Бог от дьявола), чем признать бесцельность этнической катастрофы, признать, что она – результат слепого случая. «3апрет» Клода Ланцмана на вопрошание о причинах Холокоста зачастую истолковывается превратно. На самом деле нет противоречия между запретом на вопрос «почему» и утверждением, что Холокост не представляет собой загадку без отгадки. Смысл запрета Ланцмана лежит не в плоскости теологии. Он не равен, скажем, религиозному запрещению попыток проникнуть в тайну происхождения жизни или зачатия; этот запрет принадлежит парадоксам запрета на невозможное из разряда «ты не должен, потому что не можешь!» Когда, к примеру, католики говорят, что нельзя заниматься биогенетическими разработками, потому что человек – не просто результат взаимодействия генов с окружающей средой, то за этими словами скрывается страх, что если довести эти разработки до конца, то можно достичь невозможного, т. е. свести духовную жизнь к биологическому механизму. Ланцман, напротив, не запрещает изучение Холокоста, потому что Холокост – тайна, которую лучше оставить во тьме. Дело в том, что нет никакой тайны Холокоста, на которую можно пролить свет, нет загадки, которую нужно решать. Следует лишь добавить, что после того, как мы исследуем все исторические и прочие обстоятельства Холокоста, останется лишь пучина самого этого деяния, глубина свободно принятого решения во всей его чудовищности.
Ключевой фигурой концентрационного лагеря является так называемый «мусульманин». Ничего подобного ему не было в сталинском ГУЛаге со всеми его ужасами [67]67
Я пользуюсь в данном случае материалами второй главы книги Джорджо Агамбена (Agamben G. Ce qui reste d'Auschwitz. Paris: Rivages, 1999). Между прочим, следы антиарабского расизма в использовании термина «мусульманин» совершенно очевидны: слово «мусульманин», конечно же, возникло, когда заключенные отождествляли поведение «живых мертвецов» с укоренившимся в западном сознании образом «мусульманина» – человека, полностью подчиненного судьбе, пассивно воспринимающего злоключения как результат Божьей воли. Однако сегодня, ввиду арабо– израильского конфликта, этот термин вновь обрел актуальность: «мусульманин» – экстимное ядро, нулевой уровень самого «еврея»…
[Закрыть]. В целом население лагерей уничтожения можно разделить на три категории. Большинство – сломлено и регрессирует до близкого к животному эгоистическому уровню. Они сосредоточивают свои усилия исключительно на выживании, совершая при этом поступки, которые в «нормальном» мире считались бы неэтичными (например, воровство еды или обуви у соседа). Однако в воспоминаниях тех, кто пережил концентрационные лагеря, всегда упоминается Некто несломленный, человек, который в невыносимых условиях, обрекших всех остальных на простую борьбу за выживание, чудесным образом сохранил и постоянно излучал необъяснимую щедрость и благородство. В терминах Лакана мы имеем здесь дело с функцией Y а d' l'Un: даже там был Некто, служивший опорой минимальной солидарности, определяющей социальные узы в их противопоставлении коллаборационизму в рамках структуры чистой стратегии выживания. Здесь принципиально важно отметить два момента: во–первых, такой человек всегда один (никогда не было множества таких людей; будто, следуя некой туманной необходимости, избыток необъяснимого чувства солидарности должен был всегда воплощаться в Одном). Во–вторых, суть дела заключалась не в том. что этот Один чем–то помогал другим, но в самом его присутствии (другие выживали благодаря осознанию того, что. хоть они большую часть времени ведут себя подобно машинам–по–выживанию, все же есть Один, сохраняющий человеческое достоинство). Мы сталкиваемся здесь с, так сказать, законсервированным, подобно смеху в банке, достоинством. Другой (один) сохраняет для меня мое достоинство, он делает это вместо меня, или, точнее, – я сохраняю свое достоинство посредством Другого: я могу заниматься исключительно жестокой борьбой за выживание, ведь знание того, что есть Некто, сохраняющий свое достоинство. позволяет мне поддерживать минимальную связь с человечеством. Если же, как это зачастую бывает, этот самый Один ломается или оказывается мошенником, другие заключенные теряют свою волю к жизни, превращаются в «мусульман», безразличных живых мертвецов. Сама их готовность бороться за жизнь парадоксальным образом держалась на этом исключении, на том факте, что был Один такой, чье существование не сводилось к борьбе за выживание, и, когда это исключение исчезает, борьба за выживание теряет свою силу. Все это значит, конечно же, что этот Один отличался отнюдь не только моими «реальными» качествами (в этом отношении могло быть куда больше ему подобных индивидов, или могло быть даже, что на самом деле он лишь играл роль несломленного борца, лишь имитировал стойкость): его исключительная роль объясняется скорее переносом, т. е. он занимал место, созданное (предпосланное) другими.
Мусульмане – «нулевой уровень человеческого»: у них не действуют хайдеггеровские координаты проекта (Entwurf), посредством которого здесь–бытие (Dasein) отвечает и допускает со всей вовлеченностью свою заброшенность–в–мир (Geworfenbeit). Мусульмане – это что–то типа «живых мертвецов»: они не реагируют даже на базисные животные стимулы, они не защищаются, когда на них нападают, они постепенно утрачивают чувства жажды и голода, они пьют и едят скорее по привычке, чем из элементарной животной потребности. По этой причине они являют собой точку реального без символической истины, т. е. нет никакой возможности символизировать их проблематичное положение, чтобы как–то превратить его в связный рассказ о жизни. Тем не менее, легко понять опасность этих описаний: они косвенно воспроизводят и, таким образом, свидетельствуют о самой «дегуманизации», приписанной им нацистами. Именно по этой причине необходимо настойчивее обычного утверждать их гуманность, не забывая о том, что они по–своему дегуманизированы, лишены основных черт гуманности: граница, отделяющая нормальное человеческое достоинство, нормальные человеческие обязательства от мусульманского «бесчеловечного» равнодушия, присуща «человеческому», и это означает, что в самом «человеческом», в самой его сердцевине находится бесчеловечное травматическое ядро, бесчеловечный травматический разрыв. Говоря словами Лакана, мусульмане – «люди» экстимным образом. Именно будучи «нелюдьми», лишенными практически всех позитивных человеческих качеств, стоят они на страже человечности «как таковой»: они – тот особенный «бесчеловечный» элемент, который непосредственно воплощает человеческий род, в котором этот род обретает свое непосредственное существование. Короче говоря, мусульманин – это безоговорочно не человек. Здесь возникает искушение сказать, что мусульманин как бы «меньше, чем животное», поскольку лишен даже животной жизненной силы, оказывается необходимым связующим звеном между животным и человеком; это «нулевой уровень» человеческого в строгом смысле того, что Гегель назвал «ночью мира», уход от вовлеченного погружения в среду, чистая само–соотносящаяся негативность, которая как бы «совершенно чиста» и, тем самым, открывает пространство для специфически человеческой символической деятельности [68]68
Подробнее о «ночи мира» см.: Zizek S. Die Nacht der Welt. Frankfurt: Fischer Verlag, 1998.
[Закрыть]. Иначе говоря, мусульманин не просто вне языка (как в случае животного), но он – отсутствие языка как таковое, молчание как позитивный факт, как причина невозможности, пустота, на фоне которой может появиться речь. Именно в этом смысле и можно сказать: чтобы «стать человеком», чтобы перебросить мостик от животной погруженности в окружающую среду к человеческой деятельности, все мы в какой–то момент должны были быть мусульманами, дабы пройти сквозь обозначаемый этим понятием нулевой уровень.
Это означает, как верно подчеркивает Агамбен, что действие «нормальных» этических правил здесь приостановлено: мы не можем просто порицать их судьбу, сожалея о том, что они лишены основных человеческих достоинств, ведь быть порядочным, сохранять достоинство перед мусульманином значит уже проявлять крайнее неприличие. Нельзя просто игнорировать мусульманина: любая этическая позиция, которая не противостоит ужасающему парадоксу мусульманина, по определению оказывается неэтичной, оказывается непристойной пародией на этику а если мы действенно противостоим мусульманину, то такое понятие, как «достоинство» лишается своего основания. Иначе говоря, «мусульманин» – не просто низший в иерархии этических типов («у него не только нет достоинства, но даже животной жизненной силы и эгоизма»), но – нулевой уровень, обессмысливающий всю иерархию. Не принимать во внимание этот парадокс значит приобщиться к тому цинизму, который исповедовали нацисты, когда сначала жестоко низводили евреев до недочеловечсского уровня, а потом предъявляли эту картину как доказательство их неполноценности. Они довели до предела процедуру унижения, которая напоминает ситуацию, в которой я, скажем, отбираю ремень у достойного человека, вынуждая его придерживать штаны руками, а затем высмеиваю его как недостойного…
В современной философии существуют две противоположные позиции в отношении смерти – позиция Хайдеггера и Бадью. Для Хайдеггера подлинная смерть (противопоставленная анонимному «кто–то умирает») есть допущение предельной невозможности существования здесь–бытия как «моего». Для Бадью смерть (конечность и смертность) – то, что у нас общего с животными, а подлинно человеческим измерением оказывается «бессмертие», ответ на призыв «вечного» события. Вопреки противоположности, у Хайдеггера и Бадью одна и та же матрица – оппозиция подлинного вовлеченного существования и безымянной эгоистичной жажды, участия в жизни, в которой вещи – это просто «функция». Уникальная позиция мусульманина опровергает оба полюса этой оппозиции: сказать, что он ведет неподлинную жизнь безличного существа (das Man) на том основании, что он не вовлечен в аутентичный экзистенциальный проект, значит проявить крайний цинизм. Мусульманин находится где–то в другом месте, он – третий член, нулевой уровень, подрывающий саму оппозицию между подлинным существованием и безличным существом (das Man). Этот нечеловеческий «неделимый остаток» человеческого, это существование вне свободы и достоинства, более того, вне самой оппозиции добра и зла характеризует современную посттрагическую позицию, куда более чудовищную, чем любая классическая трагедия. Если же эту позицию все–таки описывать в терминах греческих трагедий, то нужно сказать, что исключительный статус мусульман объясняется тем, что они находятся в запретной зоне, зоне невыразимого ужаса: лицом к лицу сталкиваются они с самой вещью.
Доказательством тому служит еще одна черта, отмеченная очевидцами: взгляд мусульманина. Это десубъективированный, пронизывающий насквозь взгляд, в котором тотальное бесстрастное равнодушие (угасающие «искры жизни», вовлеченного существования) совпадает с жуткой напряженной фиксацией, такой, будто взгляд замерз, оказался обездвиженным от увиденного, оттого, на что нельзя смотреть. Нет ничего удивительного в том, что в связи с этим взглядом вспоминают о голове Горгоны: помимо змеиных волос, ее отличает раскрытый будто в шоке, застывший в удивленной неподвижности рот и пронзительный взгляд широко открытых глаз, уставившихся на неименуемый источник ужаса, чье положение совпадает с нашим, положением зрителя. На более глубоком уровне мы сталкиваемся здесь с позитивизацией невозможности, из которой прорастает объект–фетиш. Как же объект–взгляд превращается в фетиш? Посредством гегелевского превращения невозможности видеть объект в объекте, который материализует саму эту невозможность: поскольку субъект не может прямо видеть эту смертоносно чарующую вещь, он совершает что–то вроде обращения–внутрь–себя–самого, посредством которого чарующий его объект становится самим взглядом. В этом смысле (хотя и не совсем симметрично), взгляд и голос – «рефлексивные» объекты, т. е. объекты, материализующие невозможное, «матемы», как сказал бы Лакан. Может быть, лучшим кинематографическим примером этого будет падение заколотого детектива Арбогаста со ступенек в хичкоковском «Психе»: пронзительный взгляд его неподвижной головы, снятый на движущемся фоне (вопреки тому, что обычно происходит в «реальности», где неподвижным остается фон, а голова движется), смотрит с блаженным выражением куда–то по ту сторону обычного ужаса, смотрит на вещь, что убивает его. У этого взгляда есть предшественники. Это пронизывающий взгляд Скопи в сновидении из «Головокружения». Это пронзительный взгляд летящего на пир убийцы из раннего недооцененного шедевра «Убийца» [69]69
Более детально я пишу об этих съемках в: Zizek S. in His Bold Gaze My Ruin Is Writ Large, и в: Zizek S., ed., Everything You Always Wanted to Know About Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), London: Verso Books, 1992.
[Закрыть]. Где же здесь объект–взгляд? Это не тот взгляд, которым мы смотрим, но то, что смотрит, т. е. взгляд самой камеры, в конечном счете наш собственный (зрительский) взгляд. Мусульманина как раз–таки и характеризует этот нулевой уровень, на котором больше невозможно четко отличить взгляд от воспринимаемого им объекта, уровень, на котором сам шокированный взгляд становится предельным объектом ужаса.
Неожиданная истина этого возвышения Холокоста до невыразимого зла оборачивается неожиданным превращением в комедию: если никакая трагическая постановка не может быть адекватной ужасу Холокоста, то единственный выход из этого затруднительного положения – обратиться к комедии, которая, по крайней мере, загодя прием– лет неудачу передачи ужаса и, следовательно, проецирует этот ужас в свое собственное повествовательное содержание, в расщелину между запредельным ужасом происходящего (истребления евреев) и постановкой, организованной евреями ради выживания [70]70
Тем не менее, важно отметить, что нет не только гулаговских комедий, но также и фильмов, действие которых проходило бы в ГУЛаге. Почетным исключением служит экранизация «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицына в постановке Тома Кортни, снятая в начале 1970–х англичанами в Норвегии и вскоре забытая.
[Закрыть]. Успех фильма Бениньи «Жизнь прекрасна», кажется, отмечает начало нового жанра, невообразимого десятилетие назад, жанра комедии Холокоста. В сезоне 1999–2000 гг, вышел на экраны фильм «Лжец Якоб» с Робином Вильямсом, – римейк старой классики, снятой в ГДР на студии «Дэфа», В нем рассказывается история владельца маленького магазинчика в гетто, который ежедневно сообщает своим напуганным товарищам приободряющие их новости о приближающемся конце Германии, якобы услышанные им по имеющемуся у него радиоприемнику. В этом же сезоне появился и американский фильм, сделанный по румынскому «Поезду надежды». В этой истории жители маленькой еврейской общины, когда приходят нацисты и собираются отправить их всех в лагерь смерти, организуют «левый» поезд с нацистскими охранниками, садятся в него и вместо лагеря, конечно же, отправляются на свободу. Интересно отметить, что все три фильма центрируются вокруг лжи, позволяющей евреям справиться с тяжелым испытанием и выжить.
Проблематичность природы этого жанра возникает тогда, когда мы противопоставляем ему ранние, другого типа комедии Холокоста – «Великого диктатора» Чаплина, сделанного еще до второй мировой войны, «Быть или не быть» Любича 1942 года и попытки комедии Холокоста «Паскуалино – Семь красоток» Лины Вертмюллер 1975 года [71]71
Подобные попытки имели место и в театре. В 1980–е гг. в СССР был поставлен мюзикл, часть песен и плясок в котором происходила в газовой камере концентрационного лагеря.
[Закрыть]. Первое, на что стоит обратить внимание, – над чем здесь смеются, ведь вo всех этих фильмах есть порог; который не переступается. Скажем, в принципе можно с легкостью представить себе «мусульман» в качестве объекта, вызывающего смех автоматическими бездумными движениями. Однако совершенно очевидно, что такой смех будет этически совершенно неприемлем. Более того, вопрос, которым здесь необходимо задаться, предельно прост: ни один из этих фильмов не является стопроцентной комедией, и в какой–то момент смех или сатира прекращаются и мы сталкиваемся с серьезным посланием. Так что вопрос таков: что это за момент? В чаплинском «Великом диктаторе» это очевидно патетическая заключительная речь бедного еврейского брадобрея. который, оказывается, занимает место Хайнкеля (Гитлера). В фильме «Жизнь прекрасна» это, наряду с прочим, и самая последняя сцена, в которой, вслед за появлением танка, мы видим ребенка после войны, счастливо обнимающего свою мать на зеленом лугу, а голос за кадром благодарит отца за то, что тот принес себя в жертву ради жизни сына. Во всех этих случаях есть некий патетический момент искупления. Именно его и не хватает в «Семи красотках». Если бы Вертмюллер снимала «Жизнь прекрасна», то фильм закончился бы выстрелом из американского танка по ребенку, ошибочно принятому за одинокого нацистского снайпера. В «Семи красотках» речь идет о карикатурном энергичном итальянце Паскуалино, одержимом семейной честью (Джанкарло Джаннини защищает честь своих семи не слишком уж красивых сестер), который приходит к выводу, что, если ему суждено выжить, то он должен соблазнить пухлую беспокойную женщину–коменданта. Мы становимся очевидцами его попыток предложить себя в эрегированном состоянии, в состоянии готовности к успеху своего предприятия… После успешного соблазнения он становится капо, и, чтобы спасти людей, оказавшихся под его началом, ему предстоит убить шестерых, в том числе и лучшего друга, Франческо.
Как и в прочих случаях, комедия попадает в тиски диалектического напряжения, впрочем, не в тиски искупительной патетики. Как мы видели, во всех остальных комедиях Холокоста в какой–то момент комедия прекращается, и мы оказываемся перед серьезным патетическим сообщением: заключительной речью бедного еврейского брадобрея Хайнкеля—Гитлера в «Великом диктаторе», речью польского актера, играющего Шэйлока в «Быть или не быть», финальной сценой «Жизнь прекрасна», когда ребенок воссоединяется с матерью и вспоминает жертвоприношение отца. В «Семи красотках», однако, комедия оказывается в тисках далекого от патетики ужаса – ужаса жесткой логики выживания в концентрационном лагере. Смех выносится за пределы «хорошего вкуса», он наталкивается на сцены сжигания трупов, на людей, совершающих самоубийство, прыгая в яму, полную человеческих экскрементов, на героя перед жестоким выбором необходимости стрелять в своего лучшего друга. Перед нами здесь не патетическая фигура маленького хорошего человека, сохраняющего героическое достоинство в чудовищных условиях, а жертва–превращающаяся–в–угнетателя, явно утрачивающая свою моральную невинность. Здесь нет заключительного сентиментального искупительного послания.