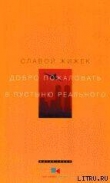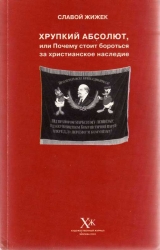
Текст книги "Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие"
Автор книги: Славой Жижек
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
5. СТАЛИН-АБРАХАМ ПРОТИВ БУХАРИНА-АЙЗАКА
Как же тогда субъективируется это чудовищное положение? Как показал Жак Лакан, современные условия, характеризующиеся нехваткой трагедии, передают это положение куда более жутким образом. Дело в том, что, вопреки всем ужасам ГУЛага и Холокоста, с приходом капитализма собственно для трагедий места не остается – жертвы концентрационных лагерей или показательных сталинских процессов оказались не совсем в трагических условиях, поскольку положение их содержало комический или, по крайней мере, нелепый оттенок, а потому условия эти – еще более ужасны, причем ужас этот настолько глубок, что его уже невозможно «вознести» до трагического положения, и по этой причине его можно достичь лишь через жуткое уподобление/удвоение самой пародии. Образцовый случай такой непотребной комичности ужаса по ту сторону трагедии содержится в сталинистском дискурсе. Кафкианский характер жуткого смеха, который раздается среди публики во время последней бухаринской речи перед Центральным Комитетом 23 февраля 1937 г., связан с абсолютным расхождением между предельной серьезностью Бухарина он говорит о возможном самоубийстве, о том, что он его не совершил, дабы не нанести ущерб репутации партии, что уж лучше объявить голодную забастовку до самой смерти) и реакцией членов Центрального Комитета:
Бухарин: Я не могу выстрелить из револьвера, чтобы люди не смогли сказать, что я покончил с собой, дабы навредить партии. Но если я умру как бы от болезни, что вы тогда потеряете? (Смех).
Голоса: Шантажист!
Ворошилов: Ты – подлец! Какой подонок! Как ты смеешь так говорить!
Бухарин: Но вы должны понять – мне очень тяжело жить дальше.
Сталин: А нам легко?!
Ворошилов: Вы слышали такое: «Я не застрелюсь, а умру»?!
Бухарин: Легко вам говорить обо мне. Вы–то, в конце концов, что потеряете? Смотрите, если я саботажник, сукин сын, зачем тогда меня жалеть? Я ничего не прошу. Я лишь говорю, что думаю, что со мной. Если это влечет за собой какой–либо политический ущерб, хотя бы самый маленький, тогда, никаких вопросов, я сделаю, что скажете. (Смех.) Чего вы смеетесь? Ничего смешного нет… [37]37
Getty J. A., Naumov О. V. The Road to Terror. Stalin and the Self—Destruction of the Bolsheviks. 1932–1939. New Haven; London: Yale UP, 1999. P. 370. Тот же жуткий смех раздается и в другом месте: "Бухарин: Что бы они ни показывали против меня, все это неправда. (Смех, шум в зале.) Чего вы смеетесь? Ничего смешного". Op. cit. Р. 394.
[Закрыть]
Разве не сталкиваемся мы здесь с воплощенной в жизнь жуткой логикой первого допроса Йозефа К. в «Процессе»?
– Значит, так, – проговорил следователь и скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал К,: – Вы маляр?
– Нет, – сказал К, – я старший прокурист крупного банка.
В ответ на его слова вся группа стала хохотать, да так заразительно, что К. и сам расхохотался. Люди хлопали себя по коленкам, их трясло, как в припадке неукротимого кашля [38]38
Кафка Ф. Процесс // Ф. Кафка. Собр. соч. в 3–х т. М.: Художественная литература. Т. 2. С. 148.
[Закрыть].
Провоцирующий смех диссонанс здесь радикален: со сталинистской точки зрения, самоубийство лишено какой–либо субъективной аутентичности, оно просто инструментализовано, сведено к одной из «наиболее хитроумных» форм контрреволюционного заговора. Молотов ясно об этом заявил 4 декабря 1936 года: «Самоубийство Томского было заговором, хорошо спланированным актом. Томский обо всем договорился, и не с одним человеком, а с несколькими, покончить самоубийством и, тем самым, нанести удар по Центральному Комитету» [39]39
The Road to Terror. P. 315–316.
[Закрыть]. Позже на том же самом пленуме Центрального Комитета Сталин повторит: «Мы видим здесь один из крайних, наиболее остроумных и простейших способов, которым можно плюнуть на партию и обмануть ее в последний раз. перед смертью, прежде чем покинуть этот мир. Такова, товарищ Бухарин, скрытая причина этих последних самоубийств» [40]40
Op. cit. P. 322.
[Закрыть]. Это крайнее отрицание субъективности в открытой форме передается следующим кафкианским ответом Сталина Бухарину:
Сталин: Мы тебе верили, мы наградили тебя орденом Ленина, мы продвигали тебя вверх по службе, но мы ошиблись. Не так ли, товарищ Бухарин?
Бухарин: Правда, правда. Я сам сказал то же самое.
Сталин (перефразируя и передразнивая Бухарина): Можете пойти дальше и пристрелить меня, если хотите. Это по вашей части. Но я не хочу, чтобы моя честь была запятнана. И какие же свидетельства он сегодня приводит? Вот что получается, товарищ Бухарин.
Бухарин: Но я не могу признать, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, чего–либо, в чем я не был бы виновен. (Шум в зале.)
Сталин: Я ничего о тебе лично не говорил [41]41
Op. cit. P. 321.
[Закрыть].
В этой вселенной, конечно же, нет места даже для наиболее формального и пустого права субъективности, на котором продолжает настаивать Бухарин:
Бухарин: <…> Я признаю, что с 1930 по 1932 год, совершил множество политических грехов. Я понял это. Но с той же силой, с какой я признаю свою настоящую вину, с той же самой силой я отрицаю вину, которую мне приписывают, и всегда буду ее отрицать. И не потому, что она имеет только личное значение, но и потому, что я верю, что никто ни при каких обстоятельствах не возьмет на себя ничего лишнего, особенно, когда партии это не нужно, когда стране это не нужно, когда мне это не нужно. (Шум в зале, смех).
<…>
Вся трагедия моего положения заключается в том, что этот Пятаков и ему подобные настолько отравляют атмосферу создают атмосферу в которой никто не верит человеческим чувствам, ни эмоциям, ни движениям души, ни слезам. (Смех.) Многие проявления человеческих чувств, которые ранее представляли доказательства – и ничего постыдного в этом не было, – сегодня потеряли свое значение и свою силу.
Каганович: Вы слишком двуличничаете!
Бухарин: Товарищи, позвольте мне сказать вам по поводу случившегося…
Хлоплянкин: Пора посадить вас в тюрьму!
Бухарин: Что?
Хлоплянкин: Вас давно уже надо было посадить в тюрьму!
Бухарин: Ну давайте, бросайте меня в тюрьму. И вы думаете, что ваш вопль: «Бросьте его в тюрьму!» заставит меня говорить иначе? Нет [42]42
Op. cit. P. 399.
[Закрыть].
Центральный Комитет не волновала ни сторона объективной истины, ни субъективная искренность слов Бухарина о его невиновности. Интересен был лишь сигнал, который посылает партии и обществу его нежелание сознаваться; «сигнал» о том, что, в конечном счете, весь «троцкистско–зиновьевский процесс» – это ритуализованн ый фарс. Отказываясь сознаваться, Бухарин и Рыков подавали сигналы своим единомышленникам, а именно: работайте в полной тайне. Если вас поймают, не сознавайтесь. Такова их политика. Своим запирательством они не только отбрасывают тень сомнения на следствие. Запираясь, они также неизбежно бросают тень на троцкистско–зиновьевский процесс [43]43
Op. cit. P. 404–405.
[Закрыть].
И все же Бухарин героически стоял на своей субъективности до конца. В письме Сталину от 10 декабря 1937 года, поясняя, что готов публично подчиниться («Дабы избежать какого–либо недопонимания, я скажу вам с самого начала, что в том, что касается мира (общества) в целом, <…> я не намеревался отрекаться ни от чего из мною написанного (из признаний)» [44]44
Op. Cit. P. 556.
[Закрыть], он по–прежнему отчаянно взывает к нему как к человеку, во всеуслышание заявившему о его невиновности:
О боже, если бы только был такой прибор, который позволил бы вам увидеть мою истерзанную, израненную душу! Если бы вы только могли увидеть, насколько я привязан к вам душой и телом <…>. Ну да хватит «психологии» – простите меня. Ангел не появится, чтобы выбить меч из рук Авраама. Моя судьба предрешена <…>. Моя совесть теперь чиста перед вами, Коба. Последний раз прошу у вас прощения (только у вашего сердца). Именно поэтому я обнимаю вас в своем сознании. Прощайте и не забывайте вашего израненного Н. Бухарина [45]45
Op. cit. P. 558–560.
[Закрыть].
Травму эту Бухарину наносит не ритуал публичного унижения и наказания, но возможность того, что Сталин может на самом деле верить в его вину:
Есть нечто величественное и храброе в политической идее всеобщего очищения <…>. Мне прекрасно известно, что великие планы, великие идеи и великие интересы превыше всего, и мне известно, что было бы мелочно с моей стороны взваливать вопросы о себе наравне с всемирно–историческим процессом на ваши плечи. Но именно в этом моя глубочайшая тревога, и я нахожусь перед моим боссом, агонизирующий парадокс.
<…> Если бы я был абсолютно уверен в том, что ваши мысли следуют этим путем, тогда я был бы куда более спокоен. Ну и что?! Если так должно быть, то пусть будет! Но поверьте мне, мое сердце разрывается, когда я думаю, что вы можете считать меня виновным в этих преступлениях и что в своем сердце вы думаете, что я на самом деле виновен в этих ужасах. В этом случае, что это значит? [46]46
Op. cit. P. 558.
[Закрыть]
Стоит очень внимательно вчитаться в эти строки. В рамках стандартной логики вины и ответственности простить Сталина можно в том случае, если он по–настоящему верит в вину Бухарина, но ему никак нельзя простить этический грех, если он знает о невиновности Бухарина. Бухарин переворачивает эти отношения: если Сталин обвиняет его в чудовищных преступлениях, зная, что все обвинения сфабрикованы, то ведет он себя как настоящий большевик, поскольку ставит нужды партии выше нужд отдельного человека; и Бухарин целиком и полностью разделяет эту позицию. Совершенно невыносимой для Бухарина оказывается ситуация, при которой Сталин действительно верит в его вину.
Бухарин, таким образом, разделяет логику исповеди, развернутую Фуко, – как будто сталинский призыв исповедаться, по сути дела, направлен на глубинный самоанализ обвиняемого, который должен помочь ему откопать на дне души самые сокровенные тайны. Точнее говоря, фатальной ошибкой Бухарина была мысль, что ему удастся убить двух зайцев сразу: до самого конца, во всеуслышание заявляя о своей преданности партии и лично товарищу Сталину, он не был готов отказаться хотя бы от частички субъективной автономии. Он был готов публично признать свою вину, если это нужно партии, но при этом хотел, чтобы во внутреннем кругу, среди товарищей, всем было ясно, что на самом деле он невиновен, что ему лишь приходится уступить и сыграть эту вынужденную роль в публичном ритуале. Именно этого партия ему дать и не может, ритуал утрачивает свою перформативную силу в тот момент, когда он открыто обозначается как просто ритуал. Неудивительно, что когда Бухарин и другие обвиняемые настаивают на своей невиновности, Центральный Комитет принимает это за недопустимые мучения, доставляемые партии обвиняемым: не партия мучает обвиняемого, но руководство партии мучимо теми, кто отказывается исповедаться в своих преступлениях. Некоторые члены Центрального Комитета даже хвалят Сталина за его «ангельское терпение», позволяющее обвиняемым годами мучить партию вместо того, чтобы целиком сознаться в том, что они – подонки, гадины, которых давно пора было раздавить.
Межлаук: Должен вам сказать, что мы вас не мучаем. Напротив, вы мучаете нас самым низким, самым недопустимым образом.
Голоса: Верно! Верно!
<…>
Межлаук: Вы мучаете партию долгие–долгие годы, и только благодаря ангельскому терпению товарища Сталина мы не растерзали вас за вашу подрывную террористическую деятельность. <…> Жалкие трусы, низкие трусы. Нет вам места ни в Центральном Комитете, ни в партии. Ваше место в руках следственных органов, и там вы будете говорить по–другому, потому что здесь, на пленуме, вам не хватает самой простой смелости, которой оказалось достаточно у одного из ваших учеников, Зайцева (имя которого вы извратили), когда он сказал, говоря о себе: «Я – гадина, и я прошу Советскую власть раздавить меня как гадину» [47]47
Op. cit. P. 387–378.
[Закрыть].
Вина Бухарина, таким образом, носит чисто формальный характер. Это не вина за совершенные преступления, в которых его обвиняют, но вина человека, который настаивает на своей позиции субъективной автономии, находясь на которой вину можно обсуждать на уровне фактов, т. е. на позиции, которая открыто утверждает разрыв между реальностью и ритуалом исповеди. Крайней формой предательства для Центрального Комитета является привязанность к минимуму личной автономии. Бухарин, по сути дела, говорит Центральному Комитету: «Я готов дать вам все, но не это (пустую форму личной автономии)!» Разумеется, именно это нужно Центральному Комитету больше, чем что–либо другое. Интересно, что субъективная аутентичность и расследование объективных фактов здесь не противопоставляются, но связываются как две стороны одного и того же вероломного поведения, сопротивляющегося партийному ритуалу.
Последнее доказательство того, что такого рода пренебрежение фактами обладает определенными парадоксальными этическими достоинствами, мы обнаруживаем в совершенно противоположном, «позитивном» случае, например в истории с Этель и Юлиусом Розенберг, которые, хотя и были виновны в шпионаже, как это показывают недавно рассекреченные материалы, все же продолжали героически настаивать на своей невиновности до самого конца, до камеры смертников, понимая при этом, что признание могло бы спасти им жизнь. Они как бы «искренне лгали»: будучи на самом деле виновными, в «более глубоком» смысле они были невиновны, а именно в том же смысле, в каком были виновны обвиняемые сталинских процессов, которые фактически были невиновны. Итак, расставим все по местам: в конечном счете, упрек членов Центрального Комитета Бухарину заключался в том, что Бухарин не был достаточно безжалостным, что он сохранял черты человеческой жалости, «мягкосердечия».
Ворошилов: Бухарин искренний и честный человек, но я боюсь за Бухарина не меньше, чем за Томского и Рыкова. Почему я боюсь за Бухарина? Потому что он сердобольный человек. Не знаю, хорошо это или плохо, но в нашей нынешней ситуации это мягкосердечие не нужно. Оно плохой помощник и советчик в делах политики, потому что оно. это мягкосердечие, может разрушить не только самого мягкосердечного человека, но также и партийные основы. Бухарин очень сердобольный человек [48]48
Op. cit. P. 100.
[Закрыть].
В кантовском смысле эта «сердобольность» (в котором можно расслышать отдаленное эхо ленинской реакции на «Аппассионату» Бетховена: не следует слишком часто слушать такую музыку; потому что она размягчает, после нее может появиться желание крепко обнять врага вместо того, чтобы его безжалостно уничтожить…), конечно же, оказывается остатком «патологической» сентиментальности, которая затуманивает чисто этическую позицию субъекта. И здесь, в этот ключевой момент, крайне важно воспротивиться «гуманистическому» искушению противопоставить безжалостную сталинистскую самоинструментализацию бухаринской естественной доброте, чуткому пониманию и состраданию общечеловеческой хрупкости, как будто проблема сталинских коммунистов коренится в их безжалостности, в самоустранении, самопожертвовании делу коммунизма, превратившему их в чудовищные этические автоматы и заставившему их забыть об общечеловеческих чувствах и сострадании. Напротив, проблема сталинских коммунистов заключалась в том, что они не были достаточно «чистыми», что их захватила перверсивная экономика долга: «Я знаю, что это тяжело и, может быть, мучительно, но что мне остается делать, таков мой долг…» Обычный девиз этической программы – «Нет оправдания невыполненному долгу!»; и хотя «Du kannst, denn du sollst!» («Можешь, значит, должен!») Канта на первый взгляд предлагает новый вариант этого девиза, имплицитно он дополняет его куда более жуткой инверсией: «Нет оправдания выполнению долга!» [49]49
Более подробный анализ этой ключевой особенности кантовской этики см.: Zizek S. Liebe Deinen Naechsten? Nein, Danke! Berlin: Volk und Welt, 1999.
[Закрыть] Ссылку на долг как на оправдание наших действий следует отвергнуть как лицемерную: достаточно вспомнить всем известный пример с учителем–садистом, который мучает своих учеников беспощадной дисциплиной и пытками. Оправданием ему (и другим) служат слова: «Мне очень тяжело так поступать с бедными детками, но что мне остается, ведь таков мой долг!» Еще более уместным кажется пример сталинского коммуниста, который любит человечество, но совершает при этом чудовищные чистки и экзекуции», когда он этим занимается, сердце его разрывается, но он ничего не может поделать, поскольку таков его Долг перед Прогрессом… Мы сталкиваемся здесь с собственно перверсивным подходом приспособления позиции чистого инструмента Воли Большого Другого: я не несу за это ответственности, не я это делаю, я лишь инструмент высшей Исторической Необходимости… Непристойное наслаждение этой ситуацией порождается тем фактом, что я считаю себя оправданным за то, что делаю. Замечательная ситуация: я причиняю другому боль в полной уверенности, что не несу за это ответственности, а просто исполняю Волю Другого. Как раз это и запрещает кантовская этика. Эта позиция садиста–извращенца дает ответ на вопрос, как субъект может быть виновным, когда он просто действует в соответствии с налагаемой на него извне необходимостью? Субъективно допуская эту «объективную необходимость», он извлекает наслаждение из того, что ему навязано [50]50
Cm.: Zupancic A. The Ethics of the Reaf. London: Verso Books, 2000.
[Закрыть]. Итак, в своей самой радикальной форме кантовская этика не «садистична», она запрещает как раз–таки позицию десадовского исполнителя. О чем нам это говорит в связи с соответствующим статусом холодности у Канта и де Сада? Вывод к которому мы приходим, не в том, что де Сад привязан к жестокой холодности, в то время как Кант так или иначе оставляет место человеческому состраданию, но как раз в обратном: именно кантовский субъект совершенно холоден (апатичен), а садист недостаточно «холоден», его «апатия» фальшива, это – уловка, скрывающая всю страстную вовлеченность в наслаждение Другого. Ну и, конечно же, то же самое происходит при переходе от Ленина к Сталину: революционно–политическим контрапунктом «Канту с де Садом» Лакана будет несомненно «Ленин со Сталиным». Иначе говоря, только с появлением Сталина ленинский революционный субъект превращается в перверсивный объект– инструмент наслаждения Другого.
Давайте проясним это место, исходя из исторического и классового сознания» Лукача, его попытки развернуть философскую позицию ленинской революционной практики. Можно ли отбросить Лукача в сторону как защитника псевдогегелевского суждения, утверждающего, что пролетариат – это абсолютный субъект–объект истории? Давайте сосредоточимся на конкретном политическом фоне истории и классового сознания, о котором Лукач продолжает говорить как о целиком и полностью революционном. Говоря грубо и упрощенно, у революционных сил России в 1917 году, в трудной ситуации, в которой буржуазия оказалась неспособной положить конец демократической революции, оставался следующий выбор.
С одной стороны, позиция меньшевиков заключалась в подчинении логике «объективных стадий развития». Сначала демократическая революция, а уж потом революция пролетарская. В водовороте событий 1917 года вместо того, чтобы извлечь выгоду из постепенного разложения государственного аппарата и воспользоваться повсеместно распространенным недовольством Временным правительством, все радикальные партии должны были сопротивляться искушению продвинуть этот момент еще дальше и объединить усилия с демократически настроенными буржуазными элементами, чтобы прийти к демократической революции, терпеливо ожидая, когда созреет революционная ситуация. С этой точки зрения социалистический переворот в 1917 году, когда ситуация еще не созрела, интенсифицировал регресс к примитивному террору… (Хотя этот страх катастрофических террористических последствий «незрелого» восстания может показаться предвестником грядущего сталинизма, идеология сталинизма по сути дела отмечает возвращение к «объективистской» логике необходимых стадий развития [51]51
Не стоит забывать, что за неделю до Октябрьской революции, когда среди большевиков развернулась горячая полемика, Сталин выступил против ленинского предложения немедленного большевистского переворота, вторя меньшевикам, что ситуация еще «не созрела», что вместо опасного «авантюризма» следует поддержать широкую коалицию всех антицаристских сил.
[Закрыть].)
С другой же стороны, ленинская позиция заключалась в том, чтобы взять препятствие силой, броситься в парадокс ситуации, ухватиться за возможность, ввязаться в борьбу, даже если ситуация еще не созрела, делая ставку на то, что само это преждевременное вторжение радикальным образом изменит объективную расстановку сил, в рамках которой изначальная ситуация кажется незрелой, т. е. это вторжение подорвет само положение, заявляющее о незрелости ситуации.
Здесь нужно быть внимательным, чтобы не упустить суть вопроса. Дело не в том, что, в отличие от меньшевиков и скептиков среди большевиков, Ленин полагал, что сложная ситуация 1917 года, т. е. рост недовольства среди широких масс и нерешительная политика Временного правительства, предлагает уникальный шанс «перепрыгнуть» через одну фазу (демократической буржуазной революции), «сгустить» две необходимые последующие стадии (демократической буржуазной революции и революции пролетарской) в одну. Такое представление все еще допускает принцип, лежащий в основе «объективистской–овеществленной» логики «необходимых стадий развития». Оно просто обеспечивает различный ритм течения в тех или иных конкретных обстоятельствах (т. е. в отдельных странах вторая стадия непосредственно следует за первой). В отличие от этого позиция Ленина обладала большей строгостью: в конечном счете, нет объективной лотки «необходимых стадий развития», поскольку «сложности», вытекающие из путаницы конкретной ситуации и/или из непредвиденных результатов «субъективного» вмешательства, всегда нарушают прямой курс движения. Как Ленин сумел прозорливо усмотреть, факт колониализма и сверхэксплуатации масс в Азии, Африке и Латинской Америке оказывает радикальное влияние на «смещение» «прямой» классовой борьбы в развитых капиталистических странах. Говорить о «классовой борьбе», не принимая во внимание колониализм, – пустая абстракция, которая, будучи переведенной на практическую политику, может завершиться лишь оправданием «цивилизующей» роли колониализма и, тем самым, подчиняя борьбу с колониализмом в Азии «подлинной» классовой борьбе в развитых государствах Запада, де–факто соглашаясь с тем, что буржуазия определяет условия классовой борьбы… (Опять–таки здесь можно усмотреть неожиданную близость альтюссеровской «сверхдетерминированности»: нет основного правила, ссылаясь на которое можно было бы найти «исключения» – в актуальной истории в известном смысле мы имеем дело только с исключениями.) Здесь возникает искушение прибегнуть к терминологии Лакана: ставка в этой альтернативе сделана на (не)существование Другого: меньшевики полагаются на всеохватывающие основания позитивной логики исторического развития, в то время как большевики (или, по крайней мере, Ленин) осознают, что «Другой не существует» – собственно политическая интервенция не производится в координатах некой основной глобальной матрицы, поскольку она добивается как раз–таки «реорганизации» этой глобальной матрицы.
Именно по этой причине и восторгается Лениным Лукач. Его Ленин – тот, кто писал по поводу раскола русской социал–демократии на большевиков и меньшевиков, когда две эти фракции устроили борьбу – за точную формулировку того, кого считать, согласно партийному Уставу, членом партии: «Иногда судьба всего многолетнего рабочего движения может быть решена одним–двумя словами партийной программы». Тем не менее, Ленин, завидев возможность революционного переворота в конце 1917 года, сказал: «История нам никогда не простит, если мы упустим эту возможность!» В более общем смысле история капитализма – суть длительная история того, как господствующая идеологически–политическая структура могла примирить (и урезонить взрывной край) движения и потребности, которые, казалось бы, угрожают самому ее существованию. Скажем, в течение длительного времени сексуальные вольнодумцы полагали, что моногамное сексуальное вытеснение необходимо для выживания капитализма. Теперь мы знаем, что капиталист может быть не только терпимым, но способен активно провоцировать и эксплуатировать различные формы «перверсивной» сексуальности, не говоря уже о промискуитетном потворстве сексуальным удовольствиям. Однако вывод из этого заключается не в том, что у капитализма бесконечная способность интегрировать и тем самым подстригать взрывные края всех частных потребностей, а в вопросе выбора времени, «схватывания момента». Какая–то конкретная потребность в определенный момент времени обладает глобальной взрывной силой. Она действует подобно метафорическому заместителю всемирной революции: если мы безоговорочно на ней настаиваем, система взрывается; если же мы долго выжидаем, метафорическое короткое замыкание между этой частной потребностью и всемирной катастрофой исчезает, и Система может с ехидно лицемерным удовлетворением спросить: «Ну что, этого добивались? Получайте!«Ничего радикального при этом не происходит. Искусство того, что Лукач называл Augenblick (момент, когда открывается возможность действия, вмешательства в ситуацию), – это искусство распознавания нужного момента и усиления конфликта до того, как Система сумеет приспособиться к нашим потребностям. В этом случае Лукач ближе к Грамши и конъектуралистам/контингентианцам, чем принято считать. Augenblick Лукача неожиданно близок тому что сегодня Алэн Бадью стремится сформулировать как Событие, как вторжение, которое невозможно объяснить в терминах предшествующих ему «объективных условий» [52]52
См.: Badiou A. L'être et l'événement. Paris: Editions du Seuil, 1988.
[Закрыть]. Проблема аргументации Лукача состоит в отрицании сведения действия к «историческим обстоятельствам»: не существует нейтральных «объективных условий», т. е. (по Гегелю) все предпосылки уже минимальным образом установлены.