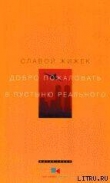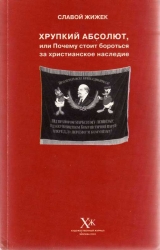
Текст книги "Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие"
Автор книги: Славой Жижек
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Такое решение совершенно очевидно позволяет нам разорвать порочный круг сверх-я. христианская логика «если ты только подумал об этом, то уже виноват, будто это совершил» строится на чувстве вины, т. е. включает парадокс сверх-я: «чем сильнее вытесняешь ты свое трансгрессивное желание, чтобы подчиниться закону, тем чаще и чаще желание это возвращается в мыслях твоих, тем сильнее оно навязывается и, следовательно, тем больше ты виноват». С такой христианской точки зрения, конечно же, еврейское буквальное подчинение закону не может проявиться, но все же проявляется как предельно оппортунистическая манипуляция, подразумевающая целиком и полностью внешние отношения с законом как с набором правил, которыми можно крутить как угодно для достижения собственной цели. При этом евреи не обращают внимания на то, что представляется христианским братьям дешевыми трюками, в результате которых и волки сыты, и овцы целы. Евреи добиваются желаемого и подчиняются букве закона, не испытывая при этом никакого чувства вины. Но что, если это отсутствие вины как раз–таки и показывает, как бьет мимо цели христианский упрек, согласно которому евреи занимаются дешевой манипуляцией с законом, преследуя свои патологические цели: можно сказать правду, не испытывая вины, даже если правда выгодна, ибо важна только правда, а не вложенные в нее желания. Итак, еврейская религия, отнюдь не являющаяся «религией вины», позволяет нам ее избежать, а христианство как раз этой самой виной и манипулирует.
Диалектика закона и его нарушения в духе сверх-я коренится не только в том факте, что сам закон провоцирует свое собственное нарушение. Наше подчинение закону не является «естественным», спонтанным. Оно всегда уже опосредовано (вытеснением) желания нарушать закон. Когда мы подчиняемся закону, мы поступаем так, мучительно преодолевая желание закон этот нарушить. Так что, чем строже подчиняемся мы закону, тем отчетливее видим, как в глубине души испытываем давление желания согрешить. Так что чувство вины сверх-я право: чем больше подчиняемся мы закону, тем больше мы виноваты, ибо это подчинение на самом деле является защитой от нашего грешного желания, а в христианстве желание (намерение) согрешить равносильно самому греховному деянию: возжелал жену ближнего своего – уже совершил прелюбодеяние. Может быть, лучше всего эти особенности христианского сверх-я выражены T. С Элиотом в строках из «Убийства в соборе»: «Последнее звучало всех подлее: / Творить добро, дурную цель лелея». Даже когда ты совершаешь правильные поступки, то совершаешь их ради противодействия и тем самым скрываешь фундаментальную низость своей подлинной натуры… Именно этой диалектики сверх-я успешно избегают евреи: их подчинение закону не опосредовано вытесненным желанием грешить. По этой причине они могут держаться буквы закона и находить пути удовлетворения желания без какого–либо чувства вины. Однако эта сверх–я–диалектика, диалектика порождающего вину трансгрессивного желания, не исчерпывает позицию христианства: как проясняет Святой Павел, христианская позиция в своей наиболее радикальной форме включает именно приостановку движения по порочному кругу закона и нарушающего его желания. Как же выйти из этого тупика? Совершив поступок!
16. ПРОРЫВ
В некоторых коммерческих фильмах, недавно вышедших на экраны мы видим тот же на удивление радикальный жест. В кинофильме «Скорость» главный герой (его играет Киану Ривз) сталкивается с террористом, который его шантажирует, наставив пистолет на его партнера; и тогда герой стреляет не в шантажиста, а в ногу своего напарника. Этот явно бессердечный поступок на какое–то мгновение шокирует шантажиста, тот бросает заложника и убегает. В другом кинофильме, «Выкуп» медиамагнат (Мел Гибсон) приходит на телевидение, чтобы ответить на требование похитителей заплатить 2 миллиона долларов за его сына Неожиданно он предлагает 2 миллиона долларов любому, кто предоставит какую–нибудь информацию о похитителях, и заявляет, что будет преследовать их до самого конца, используя все возможные средства, если они немедленно не отпустят его сына. Этот радикальный жест ошеломляет не только похитителей. Сразу после своих слов Гибсон сам оказывается на грани нервного срыва, понимая, насколько он рискует. И, наконец, самая невероятная вещь: когда в «обратном кадре» из «Обычных подозреваемых» загадочный Кейсер Сёзе возвращается домой и обнаруживает жену и маленькую дочку под прицелом членов конкурирующей шайки, он решается на самый радикальный жест. Он сам убивает жену и дочку, и это позволяет ему начать безжалостное преследование бандитов, их семей, их родителей, друзей, убивать их одного за другим… Общим для всех этих сцен является то, что в ситуации принудительного выбора субъект совершает «безумный», невозможный выбор, стреляя в самого себя, в самое для него дорогое. Этот жест, далекий от бессильной, направленной на самого себя агрессивности, меняет координаты ситуации, в которой оказывается человек: освобождаясь от драгоценного объекта, которым завладел враг, он обретает свободу действий. Разве такой радикальный, «поражающий самого себя» жест не является конститутивным для субъективности как таковой?
Разве не так же поступает Авраам, подчиняющийся приказанию Господа принести в жертву Исаака, его единственного сына, который значит для него больше, чем собственная жизнь? В этой истории, впрочем, в последний момент появляется ангел и останавливает руку Авраама. (В христианском прочтении можно сказать, что в настоящем убийстве не было необходимости, поскольку значимо лишь внутреннее намерение, так же как и в случае совершения греха тем, кто возжелал соседскую жену.) Здесь, конечно же, мы должны провести черту, отделяющую классическую историю от истории современною героя: если бы Авраам был нашим современником, никакой ангел не появился бы в последний момент и он бы заколол собственного сына. Разве такой жест не указывает на самый сложный вопрос книги Фрейда о Моисее и монотеизме? Как реагирует Фрейд на исходящую от нацистов антисемитскую угрозу? Он не присоединяется к тем евреям, которые пытаются, оказавшись в западне, сохранить свое наследие. Более того, он целится в свой собственный народ, в самую ценную часть еврейского наследия – в фигуру основоположника, Моисея. Он лишает евреев этой фигуры, доказывая, что Моисей вовсе не был евреем. Итак, на деле он подрывает бессознательные основания антисемитизма. Более того, разве не производит подобный «выстрел в себя» Лакан, распуская в 1979 году «Фрейдовскую школу Парижа», свою агальму, свою собственную организацию, само пространство своей коллективной жизни? И все же он прекрасно понимал, что такого рода «самоуничтожающий» акт сможет расчистить территорию для нового начала.
Тот факт, что все приведенные примеры служат образцами мужского поведения, может навести на мысль, что жесты эти являются мужскими по своей природе. В отличие от мужской готовности разорвать все узы, женщина остается укорененной в ее специфическую материю… А что, если урок психоанализа заключается в том, что такой жест – нейтрален в полоролевом отношении или даже что все как раз–таки наоборот? Так как же может субъективироваться женщина в таком «выстреле в себя»? Первое, что здесь приходит в голову, это, конечно, типично феминистская точка зрения: чтобы стать субъектом, женщина должна остерегаться самой сердцевины своей «феминности», этого таинственного je ne sais quoi, чего–то «ce самою превосходящею», тайной драгоценности (агальмы), делающей ее объектом мужского желания. Однако здесь следует сделать куда более радикальный жест. Лакан предложил в качестве одного из возможных определений «настоящей женщины» некий радикальный поступок: изъятие, даже уничтожение у мужчины– партнера того, что «в нем больше, чем он сам», того, что «значит для него все», того, к чему он привязан больше, чем к своей собственной жизни, того, что служит ему драгоценной агальмой, вокруг которой вращается вся его жизнь. В качестве показательного примера подобного деяния в литературе Лакан приводит Медею, которая, узнав о намерениях мужа, Ясона, оставить ее ради молодой соперницы, убивает двух их маленьких детей, самое для него дорогое. Это чудовищное злодеяние, уничтожающее самое драгоценное в жизни её мужа, для Лакана и есть деяние une traie femme [102]102
У Хайнера Мюллера (см. «Waterfront Wasteland Medea Material Landscape with Argonauts» // Theatremachine, London: Faber and Faber. 1995) Медея выглядит самой что ни на есть радикальной революционеркой, мстящей деспотическому правлению. Более того, в своей уникальной попытке представить вместе необходимость революционного насилия и основополагающую человечность, требующую от нас признания заслуг мертвого, он предлагает фантазматическое сгущение, соединение Медеи и Антигоны: Медеи, которая сначала убивает и расчленяет своего брата (чтобы позволить себе и Ясону уйти от преследования), а затем, подобно Антигоне, нежно держит брата на руках. Перед нами здесь образ агента, исполнителя, который после совершения чудовищного деяния во имя революции принимает на себя бремя вины и нежно хоронит убиенного. (Еще одна подобная парадоксальная фигура у Мюллера – это «Христос—Тигр», Христос, который сначала убивает своего врага, а затем нежно о нем заботится.) Мы должны здесь отметить следующее: если фигура Медеи будет принадлежать радикальной традиции, то нужно сохранить и переписать тот жест, который делает Медею столь неприятной для благопристойного гуманистического сознания, жест убийства собственных детей (в отличие от замечательной Медеи у Кристы Вольф, которая снимает с героини все обвинения, истолковывая убийство ею брата и детей как злые слухи, распускаемые вокруг нее высокопоставленными сановниками, пытающимися ее опорочить).
[Закрыть]. Так что, возможно, пришло время восстать против пышных славословий в честь Антигоны и вновь утвердить в правах Медею, жуткую, тревожащую противоположность Антигоны, утвердить ее в качестве субъекта подлинного действия, в духе «Возлюбленной» Тони Моррисон, романа о невыносимо болезненном рождении афроамериканской субъективности. Как всем известно, «Возлюбленная» сосредоточена на отчаянном травматическом действии героини, Сете. После того как ей удается бежать из рабства вместе с четырьмя детьми, она целый месяц наслаждается спокойной жизнью – восстанавливает силы у свекрови в Цинциннати. Тем временем жестокий надзиратель с плантации, откуда она бежала, пытается заставить ее вернуться, пользуясь правом закона о беглых рабах. Оказываясь в безвыходном положении, без малейшей возможности избежать рабства, Сете прибегает к радикальным мерам, дабы уберечь от него своих детей. Она перерезает горло старшей дочери, пытается убить своих двоих мальчиков и угрожает вышибить мозги из маленькой дочки. Короче говоря, она совершает Медеин поступок, уничтожая самое ценное – потомство. Неподражаемый оттенок жестокой иронии: отчаянное утверждение свободы интерпретируется белым школьным учителем как доказательство того, что, если афро–американцам дать чуть больше свободы, они регрессируют к африканской дикости, хотя ее поступок совершенно немыслим в большинстве африканских племен, к которым восходит история рабовладения… Принципиально важными для понимания отчаянных мер Сете оказываются ее последующие, очевидно парадоксальные, размышления, по ходу которых она заявляет: «Если бы я ее не убила, она бы все равно погибла, и вот этого я бы точно не вынесла» [103]103
Morrison Т. Beloved, New York: Knopf 1987. P. 217.
[Закрыть]. Убийство дочери для нее – это единственное средство сохранить хотя бы минимум достоинства. Вот что говорит сама Моррисон о том, что может показаться крайней жестокостью, т. е. об убийстве потомства в одном из интервью по поводу «Возлюбленной»: «Сете настаивает на своей родительской роли, настаивает на своей независимости, на той свободе, которая ей необходима для защиты детей, ради их достоинства» [104]104
Цитируется по: Morrison Т. Beloved. P. 43.
[Закрыть]. Короче говоря, в критической ситуации принудительного выбора, в которой из–за существующего рабства дети Сете «совсем не были ее детьми» [105]105
Там же.
[Закрыть], единственный родительский поступок, который ей остается ради защиты и сохранения достоинства детей, – убить их. Этот радикальный характер поступка Сете становится очевидным, если мы сравним его с другим литературным образцом, с «Выбором Софи» Уильяма Стайрона. В этом романе героиня оказывается перед выбором: спасти одного ребенка от газовой камеры, отказавшись от другого. Подчиняясь шантажу нацистского офицера, она вынуждена отдать свою старшую дочь и спасти младшего сына; результат этого выбора предсказуем: чувство вины будет преследовать ее до конца дней, доведя в итоге до самоубийства. Хотя травматический поступок Сете также преследует ее на протяжении нескольких десятилетий (возлюбленная из названия романа – это призрак убитой дочери, которая треплет, подобно неутомимой гарпии, нервы всем членам семьи, играя с ними в эмоциональные и сексуальные игры), все же здесь мы имеем дело с тем, что по своей природе совершенно противоположно «выбору Софи»: если чувство вины Софи возникает из–за компромисса, на который она пошла, приняв условия нацистского офицера, из–за невозможного выбора, который она делает, – одного ребенка за счет другого, то Сете оно преследует как раз–таки из–за того, что она не пошла на компромисс со своим желанием, но пошла на целиком и полностью невозможное травматическое деяние «выстрела в себя», в самое ценное в себе. Лишь к концу романа признаки ухода Возлюбленной дают Сете возможность прийти в согласие с этической чудовищностью ее поступка» [106]106
На уровне повествовательной техники эта чудовищность поступка проявляется в том, что текст приближается к нему постепенно. Вначале об убийстве Сете дочери сообщается с точки зрения охотников за рабами (для которых поступок этот – последнее доказательство ее варварства), затем – глазами афро–американских очевидцев (Бейби Саггз и Стам Пейд); и, наконец, когда история убийства дочери излагается самой Сете, то ей трудно эту историю выразить словами, поскольку ей совершенно ясно, что ее все равно неправильно поймут, что этот поступок не доступен для «здравого смысла», что он слишком чудовищен для пересказа в героическо–мифологическом духе. Как предположила Сэлли Кинан (см. Morrison Т. Beloved. Р. 129), подобного рода отложенная встреча с травмой проявляется в том, что Моррисон лишь недавно удалось поведать эту историю, поскольку сегодняшний эмоциональный и политический фон, возникший в связи с дебатами по поводу абортов, подготовил для нее почву. С неожиданным поворотом, конечно, но убийство дочери в «Возлюбленной» переворачивает общепринятую оппозицию прав матери и прав плода, оппозицию, которая служит координатами в дискуссиях об абортах. В «Возлюбленной» убийство ребенка парадоксальным образом оправдывается правами самого ребенка.
[Закрыть].
Поступок Сете – показательный случай современного этического поступка, который, согласно Лакану, показывает структуру того, что Фрейд назвал воздержанием (Versagung) [107]107
Мои размышления по этому поводу основаны на разговорах с Аленкой Жупанчич.
[Закрыть]. В традиционном (домодернистском) поступке субъект жертвует всем (всем «патологическим») ради причины–вещи. значащей для него больше, чем жизнь: когда приговоренная к смерти Антигона перечисляет все то, что она уже не сможет пережить из–за рано пришедшей смерти (замужество, дети…), то она приносит в жертву «дурную бесконечность» ради одного исключения (той Вещи, ради которой все совершается и которая сама не приносится в жертву). Здесь действует структура кантовского возвышенного: превосходящая бесконечность принесенных в жертву эмпирических/патологических объектов делает негативно ощутимым огромное, непостижимое измерение той Вещи, ради которой это жертвоприношение осуществляется. Антигона сохраняет возвышенный характер в своем печальном перечне жертв; и список этот в его бесконечности указывает на трансцендентные контуры Вещи, которой она сохраняет безоговорочную верность. Стоит ли упоминать о том. что эта Антигона – в конечном счете суть мужская фантазия.
В современной этической констелляции, напротив, эта исключительность Вещи оказывается подвешенной: свидетельством преданности Вещи служит жертвоприношение этой самой Вещи (так Кьеркегор требует от настоящего верующего христианина ненависти к возлюбленному, ненависти ради любви). Разве не та же невыносимая сложность заключается в поступке Сете, в том. что она убивает своих детей в силу своей им верности, а не из «примитивного» жестокого жертвоприношения сумеречным богам сверх-я? Без такого рода приостановки нет и собственно этического поступка. [108]108
Более детальный анализ этой структуры воздержания см. в главе 2 моей книги «The invisible Remainder». London: Verso, 1996.
[Закрыть] Итак, когда мы утверждаем, что этический поступок «как таковой» обладает структурой женской субъективности и, более того, что субъект «как таковой» в конечном счете женственен, то речь не идет об общепринятом мнении, что мужчина участвует в политической борьбе, в то время как женщина по природе своей аполитично этична (таково обычное кривочтение Антигоны как защитницы этических семейных ценностей от мужских политических манипуляций): само такое возвышение женщины до уровня покровительницы чистой этики, далекой от мужской борьбы за власть, оберегающей ее от безграничного стремления к власти, уничтожающей все человеческие черты, является по сути своей мужской логикой. В отличие от этой («мужской») универсальности борьбы за власть, полагающейся на этическую фигуру женщины как природного исключения, («женский») этический жест включает как раз–таки приостановку этого исключения: он имеет место на пересечении этики и политики, в жуткой области, где этика, в конечном счете, «политизируется», где авантюру радикальных непредвиденных решений уже нельзя рассматривать с точки зрения преданности какой–то предсуществующей причине, поскольку пересматриваются сами условия существования этой причины. Короче говоря, два противоположных способа прочтения отношений этики и политики здесь в точности подпадают под лакановскую оппозицию между мужскими и женскими «формулами сексуации»: само вознесение женской позиции до аполитичного этического уровня, спасающее мужской мир политики борьбы за власть от криминальных эксцессов, по сути своей носит мужской характер, поскольку «женский» этический акт включает отмену этой границы, т. е. имеет структуру политического решения. Да, поступок Сете становится чудовищным из–за «приостановки действия этического порядка», и эта приостановка является «политической» в смысле глубинного избыточного жеста, который не может укорениться в «общечеловеческих основаниях». В своем прочтении Антигоны Лакан подчеркивает, как после изгнания с родины Антигона попадает в область невыразимого ужаса «между двумя смертями», еще живая, но вырванная из символической общины. Разве не то же самое происходит и с Сете? Моррисон сама говорит в одном из интервью, что
она, так сказать, переступила черту Ее поступок можно понять, но все же это уж слишком. Жители Цинциннати отреагировали не на ее глубокую печаль, но на ее гордыню. <…> Они бросили ее на произвол судьбы, поскольку чувствовали ее гордость. То, что ценно для нее, становится проклятьем тому, что ценят они. У них тоже бывали утраты. Они понимают, что своим нежеланием покаяться она лишь подчеркивает, что убила бы свое дитя в такой ситуации еще раз. Это и проводит черту между ней и остальными членами общины [109]109
Цитируется по: Morrison Т. Beloved. P. 34.
[Закрыть].
Короче говоря, чудовищем делает Сете не ее поступок как таковой, но то, что она отказывается его «с чем–то соотнести», принять на себя за него ответственность, признать, что она совершила его в непростительном приступе отчаяния или даже безумия. Вместо того чтобы пойти на соглашение со своим желанием, дистанцировавшись от своего поступка, определив его как нечто «патологическое» (в кантовском смысле слова), она продолжает настаивать на предельно этическом статусе сво– его чудовищного деяния… И разве адекватным примером такого же жеста из сегодняшней политической жизни не служит то, что сербы относятся к Косово как к самому драгоценному объекту, как к колыбели своей культуры, как к тому, что значит для них больше всего на свете, как к тому, от чего они никогда не смогут отказаться. Это и задает предел большинству так называемой «демократической оппозиции» режиму Милошевича. Они безоговорочно поддерживают антиалбанскую доктрину Милошевича и даже обвиняют его в компромиссах с Западом, «предающих» сербские национальные интересы в Косово. По этой самой причине непременным условием настоящего поступка в сегодняшней Сербии был бы отказ от претензий на Косово, было бы принесение в жертву привязанности к этому привилегированному объекту. (Здесь мы имеем дело с удачным примером политической диалектики демократии: хотя демократия – это конечная цель, в сегодняшней Сербии любая прямая защита демократии, которая не затрагивает националистические претензии на Косово, обречена на провал. Вопрос, в котором будет предрешен исход борьбы за демократию, – это вопрос Косово.)
17. АГАПЭ БЕЗ МИЛОСТИ
Если идти до самого конца, то нужно задуматься над следующим вопросом: разве распятие Христа не дает нам образец предельно радикального жеста, примера «выстрела в себя», отказа от самого в себе самом драгоценного? С этих позиций нам и стоит посмотреть на эссе Герберта Шнэдельбаха «Проклятие христианства» [110]110
См.: Schnädelbach Н. Der Fluch des Christentums // Die Zeit Nr. 20, 11. Mai 2000. P. 41–42.
[Закрыть], которое содержит, возможно, наиболее четко сформулированную еврейско–либеральную атаку на христианство. В этом эссе перечисляются семь… нет, не грехов, а «ошибок при рождении»: (1) понятие первородного греха, свойственного человечеству вообще; (2) представление о том, что Бог оплатил этот грех, заключив с Собой сделку о насилии, принося в жертву Собственного Сына; (3) миссионерский экспансионизм; (4) антисемитизм; (5) эсхатология с видениями Судного Дня; (6) признание платоновского дуализма с его ненавистью к телу; (7) манипуляции с исторической правдой. Хотя Шнэдельбах, разумеется, возлагает вину по большей части на Св. Павла, на его стремление институциализировать христианство, он все же подчеркивает, что мы имеем дело не со вторичным осквернением оригинального христианского учения о любви, но с тем, что лежит в самых его основаниях. Более того, он настаивает на том, что, грубо говоря, все стоящее в христианстве (любовь, человеческое достоинство и т. д,), отнюдь не является христианским изобретением, а заимствовано у иудаизма.
Именно христианский универсализм проблематизируется в этом эссе: всеобъемлющий подход (вспомним знаменитые слова Святого Павла «нет ни мужчины, ни женщины, ни еврея, ни грека») строится на исключении тех, кто не принадлежит христианской общине. В иных «партикуляристских» религиях (даже в исламе, вопреки его глобальному экспансионизму) другому все же отводится какое–то место, хотя на него и смотрят свысока. Христианский лозунг «все люди – братья» означает еще и то, что «кто мне не брат, тот не человек». Христиане обычно похваляются тем, что преодолели еврейское представление об избранном народе, что христианство имеет отношение ко всему человечеству. Весь фокус здесь заключается в том, что евреи, настаивая на своей избранности, на привилегированных, непосредственных отношениях с Богом, все же принимают других людей за людей, за тех, кто просто поклоня– ется ложным богам, в то время как христианский универсализм исключает неверующих из самой человеческой универсальности.
Вопрос не снимается даже в том случае, если этот резкий отказ позволяет объяснить столь серьезный аспект агапэ Павла как «чудо» ретроактивного «аннулирования» грехов посредством приостановки действия Закона. Обычно строгая еврейская Справедливость противопоставляется христианскому Милосердию, необъяснимому жесту незаслуженного прощения: мы, люди, рождены во грехе и не можем оплатить наши долги, обрести в своих деяниях искупление; наше единственное спасение в руках Божьей Милости, оно – в Его возвышенном жертвоприношении. Самим этим жестом разрывания цепи справедливости необъяснимым актом милосердия, оплаты нашего греха, христианство вводит нас в еще большие долги: мы всегда в долгу перед Христом и мы никогда не сможем рассчитаться с Ним за то, что Он для нас сделал. Такого рода избыточное давление, от которого нам никак не отделаться. Фрейд называет сверх-я (das Uberich). (Если быть точным, то нужно сказать, что понятие «милость» само по себе уже двусмысленно и его нельзя свести к инстанции сверх-я. У милости есть еще и то значение, в каком его понимает Бадью, а именно «милость» события истины (или, для Лакана, деяния): мы не можем решиться что–то совершить, и неожиданный поступок удивляет самого агента действия; «милость» как раз– таки и означает это неожиданное свершение поступка.)
Обычно именно иудаизм считают религией сверх-я (подчинения человека ревнивому, всемогущему и жестокому Богу, сравнивая его с христианским Богом милосердия и любви). Однако христианский Бог милосердия утверждает себя как высшая инстанция сверх-я именно потому, что не устанавливает нам никакой платы за наши грехи, именно потому, что Он Сам оплачивает наш счет; «Я заплатил высшую цену за ваши грехи, и потому вы мои должники навек…» Так что, этот Бог как инстанция сверх-я, чья милость порождает у верующих неотвратимое чувство вины, выступает как предельный горизонт христианства? Христианское агапэ – это еще одно имя милости?
Давайте вернемся к понятию агапэ: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн, 3:16). Как же нам понимать этот основной догмат христианской веры? Проблема возникает в тот момент, когда мы пытаемся осмыслить то, что Бог «отдал Сына Своего Единородного», т. е. смерть Христа как жертвоприношение в размене между Богом и человеком. Если мы утверждаем, что посредством принесения в жертву самого для Него дорогого, Его Собственного Сына, Бог позволяет человечеству искупить его грехи, выкупить их, то у нас есть два возможных объяснения этого поступка. Либо Бог сам требует этого возмездия, т. е. Христос приносит себя в жертву как представитель человечества, дабы удовлетворить карающие потребности Бога, Своего Отца; либо Бог – не всемогущ, т. е. Он, подобно трагическому греческому герою, подчиняется всемогущей Судьбе: Его акт творения, как роковое деяние греческого героя, приносит с собой нежелательные, ужасные последствия, и единственный способ, каким Он может восстановить равновесие Справедливости, – принести в жертву самое дорогое из того, что у Него есть, Своего Собственного Сына. В этом смысле Сам Бог суть Авраам. Фундаментальная проблема христологии заключается в вопросе, как избежать этих двух совершенно очевидно навязываемых нам прочтений жертвоприношения Христа.
Следует отвергнуть любого рода мысль, что Бог «нуждается» в искуплении с нашей стороны или со стороны нашего представителя. Равным образом нужно наложить запрет и на ту мысль, что над Богом существует некое моральное приказание, с которым Он должен примириться, требуя искупления [111]111
O'Collins G. Christology. Oxford: Oxford UP, 1995. P. 286–287.
[Закрыть].
Проблема, конечно же, заключается не в том, как избежать этих двух подходов, если само библейское слово, похоже, держится их общей предпосылки: деяние Христа постоянно обозначается как «искупление», причем Его же собственными словами, а также в других библейских текстах и, кроме того, в наиболее знаменитых комментариях к Библии. Иисус сам говорит, что пришел, дабы «отдать душу Свою для искупления многих» (Марк, 10:45); Тимофей (2:5–6) говорит о Христе как о «посреднике между Богом и человеками <…>, предавший Себя для искупления всех»; сам Святой Павел, утверждая, что христиане – рабы, «купленные дорогою ценой» (Коринфянам, 6:20), подразумевает, что смерть Христа нужно понимать как приобретение нашей свободы. Итак, Христос Своими страданиями и смертью платит цену за наше раскрепощение, за освобождение нас от бремени греха. И если мы выпущены на свободу из плена греха и освобождены от страха смерти смертью воскресшего Христа, кто же установил эту цену? Кому было оплачено искупление? Этот вопрос был хорошо известен ранним христианским авторам, и они предлагали на него логический, хотя и еретический ответ: поскольку жертвоприношение Христа освободило нас от власти Дьявола (Сатаны), то смерть Христа – та цена, которую Бог должен был заплатить за нашу свободу Дьяволу, нашему «хозяину», под которым мы жили во грехе. И все же мы оказываемся в тупике: если Христу предлагают принести Себя в жертву Самому Богу, тогда возникает вопрос, почему Бог потребовал этого жертвоприношения? Был ли Он по–прежнему жестоким, ревнивым Богом, установившим столь тяжкую цену за примирение с предавшим его человечеством? Если же жертвоприношение Христа было предназначено кому–то другому (Дьяволу), тогда перед нами странное зрелище, в котором Бог и Дьявол выступают в качестве партнеров по обмену.
Смерть Христа в жертвоприношении, конечно же, легко «понять», поскольку в Его деянии содержится потрясающая «психологическая силя»: когда нас преследует мысль о том, что все идет абсолютно не туда и ответственность за это лежит на нас, что в глубине есть некий изъян, присущий самому существованию человека, что нас обременяет гигантское чувство вины, которую мы никогда не сумеем оплатить, то идея Бога, абсолютно невинного существа, приносящего Себя в жертву за наши грехи из бесконечной любви к нам, дабы освободить нас от вины, служит доказательством того, что мы не одиноки, что мы значимы для Бога, что Он заботится о нас, что мы защищены бесконечной Любовью Творца, будучи в неоплатном перед Ним долгу. Жертвоприношение Христа служит, таким образом, вечным напоминанием и стимулом к этической жизни – что бы мы ни делали, нам всегда следует помнить о Боге, отдавшем Свою жизнь ради нас… И все же такое объяснение не кажется достаточным, ибо деяние это следует раскрыть в собственно теологических понятиях, а не с точки зрения действия психологических механизмов. Загадка остается, и даже изощренные теологи, типа Ансельма Кентерберийского, склонны регрессировать к ловушке законности. Ансельм считает, что если существуют грех и вина, то должно быть и искупление, что–то должно быть сделано ради очищения от противозаконности человеческого греха. Однако у человечества недостаточно сил, чтобы искупить свои грехи. Только Бог может это сделать. Единственно возможное решение в этом случае – воплощение, явление Богочеловека, существа одновременно совершенно божественного и совершенно человеческого: как Бог, это существо способно заплатить требуемую цену и, как человек, оно обязано платить [112]112
Я ссылаюсь здесь на книгу: McGrath А. E. An Introduction to Christianity. Oxford: Blackwell, 1997. P. 138–139.
[Закрыть].
Проблема этого решения состоит в том, что законное представление о непреложном характере необходимости платить за грехи (преступление должно искупить) не подлежит обсуждению, оно просто принимается. Вопрос здесь очень наивный: почему Бог нас не простил прямо? Почему Он должен был подчиниться необходимости платить за грехи? Разве основной догмат христианства не противоположен приостановке этой законнической логики воздаяния, той идее, что благодаря чуду обращения возможно Новое Начало, в котором прошлые долги (грехи) просто не принимаются в расчет? Следуя этой логике, разве что с совершенно другим акцентом, Карл Барт дает предварительный ответ в своем сочинении о «Судье, судимом на нашем месте»: Бог подобно судье вначале выносит человечеству приговор, а затем принимает облик человека и Сам оплачивает цену, налагая на Себя наказание, «дабы таким образом принести нам примирение с Ним и обратить нас к Нему» [113]113
Op. cit. P. 141.
[Закрыть]. Итак, выражаясь не совсем адекватным языком, Бог стал человеком и принес Себя в жертву, пошел на крайние меры, чтобы пробудить в нас сочувствие к Нему и тем самым обратить нас к Нему.. Впервые эту идею четко сформулировал Абеляр:
Сын Божий принял наше естество, и принял Он его. дабы научить нас и словом, и примером смерти Своей, дабы привязать нас к Себе Своей любовью [114]114
Op. cit. P. 141–142.
[Закрыть].
Причина, по которой Христос страдал и умер, лежит не в области юридического понятия воздаяния, но в религиозно–моральной области наставления. Он поучает нас, грешных людей, Своей смертью. Если бы Бог просто нас простил, это бы нас не изменило, мы бы не стали лучше. Только сострадание, чувство долга и благодарности, вызванные сценой жертвоприношения Христа, обладают достаточной силой, чтобы нас изменить… В этих рассуждениях легко заметить ошибку: разве не странно, что Бог приносит в жертву Своего Собственного Сына, самое дорогое, что у него есть, всего лишь ради того, чтобы произвести на людей впечатление? Еще более жуткое ощущение вызывает мысль о том, что Бог принес в жертву Своего Сына, чтобы привязать нас к Себе любовью. Тогда получается, что на кон поставлена не только любовь к нам Бога, но также Его (нарциссическое) желание, чтобы мы, люди, Его любили. Разве такая мысль не сближает Самого Бога с безумной гувернанткой из «Героини» Патриции Хайсмит, которая поджигает семейное поместье и бросается в бушующий огонь, чтобы спасти детей и тем самым доказать свою преданность семье? Таким же образом и Бог сначала ведет к грехопадению, т. е. создает ситуацию, в которой мы в Нем нуждаемся, а затем искупает наши грехи, т. е. вытаскивает нас из беды, за которую Сам же и ответствен.
Означает ли все это, что христианство суть порочная религия? Или что возможно и другое прочтение распятия Христа? Первый шаг, позволяющий выйти из затруднительного положения, – вспомнить высказывание Христа, которое нарушает, а точнее, приостанавливает круговую логику мести или наказания, нацеленную на восстановление равновесия справедливости: вместо «Око за око!» – «Если тебя ударят по правой щеке, подставь твою левую щеку!» Дело здесь отнюдь не в тупом мазохизме, простом смирении с унижением, но в стремлении прервать замкнутую круговую логику восстановления равновесия справедливости. Таким же образом и жертвоприношение Христа, его парадоксальная природа (тот человек, по отношению к которому мы согрешили, чью веру мы предали, и искупает грехи, платит за них свою цену) приостанавливают логику греха и наказания, законного или этического воздаяния, «сведения счетов» посредством принятия удара на себя. Единственный способ, позволяющий разорвать порочный круг преступления и наказания/воздаяния – выразить готовность самоустранения. Любовь по большому счету есть не что иное, как такой парадоксальный жест разрыва цепи искупления. Так что второй шаг – сосредоточиться на ужасающей силе априорного принятия и достижения своего устранения: Христос не был принесен в жертву кем–то и за кого–то, Он принес в жертву Себя.