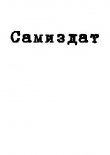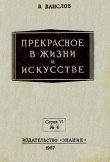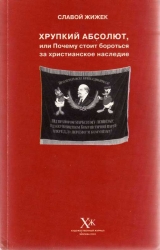
Текст книги "Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие"
Автор книги: Славой Жижек
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
4. Два других – два идеала
Лакановское различение другой/Другой [а/А] можно понимать также, исходя из оппозиции я-идеал/идеал-я, структурирующей нарциссизм субъекта. Нарциссический субъект, т. е. субъект «как таковой» появляется на свет в отношениях с другим и Другим. В середине 1950–х гг. Лакан обращается к работе Фрейда «Массовая психология и анализ человеческого я» [1921), к спорам Фрейда с Юнгом о природе нарциссизма, а также к разработкам начала 1930–х гг. Германа Нунберга и приходит к различению двух инстанций – идеал-я [moi–ideal] и я-идеал [ideal du moi] [25:146–190]. Первая инстанция определяется как нарциссическое образование, появляющееся в регистре воображаемого на стадии зеркала: вторая – как символическая функция, устанавливающая дискурсивные отношения субъекта с другими людьми. Иначе говоря, идеал-я устанавливает связь с воображаемым другим, я-идеал – с Другим символической сети означающих.
Этот Друтой. мой идеал, может переживать за меня то, что сам я не переживаю, своим существованием он может даже существовать за меня. Он действует как связующее звено между другими, как опора солидарности. Всегда находится Некто [Y аd' l'Un], кто всех объединяет, не будучи при этом совершенным, одним (платоновским) Единым. Он как область призрачных проекций играет роль (платоновского) эроса, объединяющего людей [30:63]. Он, приводит пример Жижек, – тот Один, кто сохраняет в концлагере достоинство за других. Важны при этом не его «подлинные» качества, но функция, отведенная ему в символической структуре. Важен идеальный образ этого одного – «единственного».
Идеал-я – поглощаемый образ; я-идеал – символический пункт, который дает место и устанавливает пункт наблюдения, точку из которой смотрят. Идеал-я – воображаемая идентификация с другим; я-идеал – взгляд со стороны, ведь именно «символическое отношение определяет положение субъекта в качестве видящего» [25:187]. Воображаемая идентификация представляет то, кем мы хотим быть; символическая идентификация – «идентификация с самим местом, откуда мы смотрим, откуда при взгляде на самих себя мы кажемся себе привлекательными, достойными любви» [4:111].
Тема идеалов, нарциссизма оказывается предельно важной в последние десятилетия в связи с развитием симптоматики, которую принято определять как патологический нарциссизм. Жижек пишет о трех последовательных формах либидо–структуры субъекта, проявившихся в капиталистическом обществе за последние сто лет: автономная личность протестантской этики, гетерономный человек организации и сегодняшний патологический нарциссизм [13:102–3]. Возникновение патологического нарциссизма связано с изменениями инстанции я-идеала, которая господствовала во времена автономной личности и человека организации. Место единого символического закона, сопряженного с я-идеалом. занимает свод правил, инструктирующих, «как добиться успеха», «как стать успешным», «как общаться с другими, чтобы добиться признания», «как оказать себе психологическую помощь», «как быть эффективным и продуктивным». Нарциссический субъект знает лишь правила социальной игры, позволяющие ему манипулировать другими. Нарциссический субъект, как будто бы следуя мысли Фуко о необходимом изобретении самого себя, с помощью самоучителей меняет свой облик согласно предлагаемому набору идеалов.
5. Два нарциссизма – две любви
Инстанции идеал-я и я-идеал соотносятся с двумя нарциссическими регистрами. Сначала, по Лакану, появляется нарциссизм, относящийся к телесному образу, иначе говоря, воображаемый нарциссизм, связанный с механизмом запечатлевания своего образа как образа другого. Затем «отражение в зеркале обнаруживает изначально ему присущую поэтическую способность и вводит второй нарциссизм. Основополагающим паттерном этого последнего сразу же становится отношение к другому» [25:169]. Эта нарциссическая идентификация позволяет определить свое воображаемое и либидинальное отношение к миру, увидеть себя вне себя, увидеть объект.
Исходя из того, что существуют два нарциссизма. Лакан и выводит два типа любви: «Точно так же, как есть два нарциссизма, должно быть и две любви – Эрос и Агапэ» [25:171]. С одной стороны, любовь является воображаемой функцией, с другой – связующими узами, «фундаментом, основой мира» [25:171]. Агапэ обычно переводят либо как любовь, либо как милосердие. Бадью, на которого ссылается Жижек, пишет, что «универсальное адресование, которое не конституируется верой как чистой субъективацией самой по себе, Павел называет „любовью“, агапэ (зачастую неверно переводимое как «милосердие»)» [20:75].
Жижек подчеркивает, что любовь не столько, как принято считать, вызвана идеализацией другого, сколько задача ее, точнее работа ее состоит в том, чтобы проникнуть к отделенному от нас неполноценному Другому: «последняя тайна христианской любви состоит, по–видимому, в том, что она лелеет привязанность к несовершенству Другого» [19:14]. Жижек обращается к понятию агапэ, чтобы выбраться из капиталистической ситуации общества расходующего потребления. Экономика расхода, траты, потребления организует и особенности письма Жижека.
6. Опережающая мысль
Жижек пишет длинными фразами. Это даже не письмо, это письменная речь. Повествование разворачивается прямо на глазах читателя, как будто без вторичной обработки. Перед нами не столько тщательно переписываемый, выверяемый, корректируемый текст, но размышления в духе свободных ассоциаций. Например, 16–я глава строится по такой логике: сначала Жижек пересказывает эпизоды из трех кинофильмов, затем на их основе предлагает гипотезу особого типа выбора в экстремальной ситуации – «выстрел в самое дорогое», после чего возникает история с Авраамом и его сыном, далее появляются Фрейд и Моисей, роман Тони Моррисона, применение теорий Лакана к этим примерам, сравнение романов Моррисона и Стайрона, политика Милошевича и демократов в отношении Албании как «самого дорогого». Теория проводится как бы сквозь новые кинофильмы, исторические аналогии, новые романы, политические реалии.
Письмо Жижека показывает: мысль всегда уже выхвачена, мысль всегда уже занимает место, уготовленное для других мыслей. Его тексты это – неистовое письмо, письмо, пытающееся догнать рвущиеся «на волю» мысли. Мысль прокладывает себе путь по одной из множества троп. Мысль разветвляется, но при этом всегда возвращается на волнующие идеологические магистрали. Мысль не ведет к одной–единственной плавной мысли, но разворачивает себя, разворачивается в направлении множественности. Начало каждой главы никогда не воспринимается как начало, а конец как конец. Это письмо – всегда уже продолжение, то письмо и есть мысль. Мысль, конституирующаяся в желании.
Мышление как процесс, главным образом бессознательный, опережает скорость вербализации. Археписьмо, как сказал бы Деррида, опережает письмо, откуда и возникает эффект погони торопливой речи за неудержимой мыслью. Более того, эффект этот может служить сигналом тревоги [28]. Несовпадение скоростей указывает и на травматическое конституирующее субъект неузнавание: «Дело не только в том, что мы должны вскрыть структурные механизмы, производящие субъекта как эффект идеологического неузнавания; но и в том, что мы должны четко осознавать неизбежность такого „неузнавания“, т. е. смириться с тем, что доля иллюзорности является условием нашего исторического опыта… субъект конституируется неузнаванием» [4:10].
Общим местом стало то, что Жижек – чуть ли не единственный из признанных мыслителей современности, кто позволяет себе не только пересказывать содержание голливудских кинофильмов и трэш– романов, но и пересказывать анекдоты. Одни критики связывают этот прием с «восточноевропейской идентичностью» Жижека, позволяющей ему пренебрегать академическими традициями Запада. Другие критики говорят, что любовь к анекдотам связана не столько с Югославией, сколько с постмодернизмом. Сам Жижек говорит о том, что этот аспект его творчества – «символическая уловка»: «Я сам всегда относился к себе как к автору книг, чья избыточно и навязчиво "остроумная" текстура служит оболочкой фундаментальной холодности, оболочкой «машинного» развертывания линии мысли, которая идет своим путем с крайним безразличием в отношении патологии так называемой человеческой предупредительности. В этом отношении я всегда испытывал глубокую симпатию к Монте Питону, чей избыточный юмор также свидетельствует о глубинном отвращения к жизни» (17:viii]. Подчеркнем еще раз, теперь уже вслед за Жижском, это «движение мысли своим путем», это ее «“машинное” развертывание», а также отметим и то, что анекдоты, остроумие, шутки со времен Фрейда были и остаются свидетелями психоаналитической мысли. Обращение к анекдотам характерно и для Фрейда, и для Жижека, и для Лакана.
7. Лакан+
Стратегия анализа, избираемая Жижском, может быть названа «Лакан+». Жижек пишет о ней в своем предисловии к «Введению в популярную культуру через Лакана» [13]. Парой, ориентирующей такой подход может, например, служить формула «Кант + Сад». Анализируя эту статью Лакана, Жижек показывает, что «не Кант скрытый садист, а именно Сад – скрытый кантианец». Жижек сводит Лакана с самыми разными философами, кинорежиссерами, писателями: Хичкок и Лакан [12], Лакан и Нагель [4], Лакан» (Тарковский + Маркс) [5]… В целом, т. е. в некоем редуцированном виде Жижек определяет свой методологический подход как Лакан + немецкая классическая идеология: «Моя деятельность основывается на полном принятии понятия современной субъективности, разработанного великими немецкими идеалистами от Канта до Гегеля… Сердцевина всего моего предприятия заключается в стремлении использовать Лакана в качестве привилегированного интеллектуального оружия, чтобы сделать вновь актуальным немецкий идеализм» [17:ix].
Предельно важно то, что речь не идет только о формуле Лакан + Кто–То–Другой. Присутствие в тексте Лакана это уже Лакан+. Иначе говоря, другим Лакану всегда уже является «сам» Лакан. Можно говорить о том, что в текстах Жижека обнаруживаются «Лакан + Лакан» и «Лакан – Лакан». Основанием подхода Жижека к Лакану является одновременное чтение различных его текстов, относящихся к разным периодам, поскольку «единственный способ понять Лакана – обратиться к его работам как к работам в развитии, как к настойчивым попыткам ухватить все то же неуступчивое травматическое ядро» [16:173).
8. Анализ
Итак, стратегема «Лакан +» может быть названа привилегированной в анализе Жижека. Что же он анализирует при помощи этой стратегемы?
– Произведения (массовой) культуры; и цель этого анализа – сделать свои идеи более понятным и доступными как для читателя, так и для себя самого [16].
Мы начали предисловие с того, что «основной» вопрос Жижека – условия субъективации. Для анализа этих условий он и обращается к различными примерам той культуры, которая порождает субъект. Например, непосредственно субъективации посвящена статья об искусстве прерафаэлитов и «Синем бархате» Дэвида Линча. В ней процесс становления субъекта соотносится с женской депрессией и переворачиванием кажущихся само собой разумеющимися причинно–следственных отношений [2:64]. В другой ситуации субъективация рассматривается сквозь призму «Бегущего по лезвию бритвы», где репликант создается в условиях корпоративного капитала и представляет собой «чистого субъекта», а утверждение «я – репликант», аналогичное альтюссеровскому «я в идеологии», оказывается единственной возможностью подтвердить свою принадлежность Другому [1:81–2].
Важно отметить, что Жижек анализирует не сам текст (Фрейда или Лакана, Хичкока или Линча), а именно культурные стереотипы, рецепцию текста. Например, в истории с Моисеем. Жижек пишет о том, что Фрейд целит в самое ценное в еврейской культуре, в фигуру Моисея, доказывая, что тот был египтянином, а не евреем. Тем самым Фрейд якобы подрывает основания антисемитизма. Однако речь идет именно о распространенном в культурном пространстве представлении о книге «Человек Моисей и монотеистическая религия», а не о самом тексте Фрейда. Жижек рассматривает не мысль Фрейда, но мысль ему приписываемую, своего рода культурную фиксацию.
Вопрос «что анализирует Жижек?» указывает и на те стратегемы, которые известны как некие общие цели Словенской Лакановской школы (к который, помимо Славоя Жижека, принадлежат Аленка Жупанчич, Младен Долар, Рената Салецл и другие). А именно: 1) прочтение сквозь призму Лакана классической и современной философии, 2) дальнейшая разработка лакановских теорий идеологии и власти, 3) лакановский анализ культуры и искусства (в первую очередь кино).
9. Словом и делом: реальное
Обращаясь к Лакану в развитии, Жижек неизбежно фокусирует свое внимание на его интересе к реальному, которому в последние годы работы Лакан уделял особое внимание. Реальное – источник символизации и отход этого процесса; это – неудача тотальной символизации и стремления к прозрачности референции. Реальное просматривается только в структурных эффектах, которое оно производит в повседневности, но при этом оно не существует с точки зрения субъекта, исходя из позиции Другого. Еще одна причина неизбежного интереса Жижека к реальному – определение его как неумолимой призрачной логики капитала, структурирующего символические отношения, а также его явление во взаимоотношении с либидо [22]. Призраки, порожденные этой экономикой либидо–капитала, оказываются реальнее реальности; истиной становится то, чего никогда не было, но что предстает перед нами, когда мы оборачиваемся назад. Временная последовательность возникает за счет вневременного реального, и каждая временная реальность конституирует свое вечное исключенное из времени реальное.
Где же располагается в отношении «этого» реального субъект? – Он отчужден в означающее; и реальное в нем исключено из символического, парадоксальным образом оставляя пустоту как позитивное условие его существования. Какую позицию занимает субъект в отношении своего собственного знания о происходящем? Что он делает, исходя из знания или незнания? Жижек говорит о трех позициях, занимаемых субъектом. Во–первых, мы обнаруживаем классического для психоанализа субъекта – Эдипа, который «совершает действие (отцеубийство), поскольку не знает, что делает». Во–вторых. Эдипу Жижек противопоставляет Гамлета, который знает, и именно по этой причине не способен перейти к делу (мести за убийство отца)» [19:5]. Помимо этих двух отношений с реальностью, Жижек обнаруживает и третью формулу: герой «прекрасно знает, что делает, и все же продолжает делать» [19:6]. Первая формула представляет традиционного героя, вторая – героя раннего модернизма, третья характеризует героя рефлексивной постсовременности. Этот третий герой хорошо известен по фильмам в жанре нуар. Все эти герои занимают ту или иную позицию в отношении порочного круга, образованного желанием и законом, желанием, возникающим благодаря действию закона. Здесь–то и появляется фигура Святого Павла. Здесь–то и может снизойти агапэ неожиданно для самого себя совершенного поступка. Что это за поступок? – «Смерть для закона», т. е. символическая смерть, позволяющая начать все сначала. Если традиционная модель возвеличивает поступок, в основе которого лежит принесение себя в жертву ради самого ценного, некой Вещи, то логика Святого Павла говорит о радикаль– ном жесте, конституирующем субъективность как таковую – об убийстве самого в себе дорогого. Исходя из этой логики, Жижек и позиционирует себя как «материалиста в духе Святого Павла» [17:ix].
Библиография
1. Жижек С. Существование с негативом // Художественный журнал, № 9 М., 1996. С 79–83.
2. Жижек С. Дэвид Линч, или Женская депрессия // Художественный журнал, № 12, М., 1996. С 58–64.
3. Жижек С. Власть и цинизм // Кабинет А. 1998. СПб.: Инапресс. С. 163–174.
4. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. – М.: Художественный журнал, 1999.
5. Жижек С. Вещь из внутреннего пространства // Художественный журнал. М., № 32, 2000. С. 25–35.
6. Жижек С. Кант и Сад: идеальная пара // Трансфер–экспресс, № 3, СПб., 2000.
7. Жижек С. Киберпространство, или Невыразимая замкнутость бытия // Искусство кино, № 1. М., 2000.
8. Жижек С. «Матрица», или Две стороны извращения // Искусство кино, № 6. М., 2000; Жижек С. Заметки о сталинской модернизации // Художественный журнал, № 36, 2000. М., С. 16–23.
9. Жижек С. Внутренняя трансгрессия // Кабинет Ё. 2001. СПб.: Скифия. С. 183–200.
10. Жижек С. «Что делать?» – 100 лет спустя // Художественный журнал, № 37/38. М., 2001, С 7–8.
11. Жижек С. Возлюби мертвого ближнего своего // Художественный журнал, № 40, 2001. С, 65–69.
12. Zizek S. (ed) Tout ce que Vous avez toujours voulu savoir sur Lacan sans jamais oser le demander a Hitchcock. R: Navarin, 1988.
13. Zizek S. Looking Awry. An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. Cambridge, Mass., London: MIT Press, 1991.
14. Zizek S. Why does a Letter always arrive at its Destination? // lacanian ink, №2, 1991. P 3–27.
15. Zizek S. The Métastasés of Enjoyment. Six Essays on Woman and Causality. L, N.Y.: Verso, 1994.
16. Zizek S. Taking Sides: A Self—Ιnterview // The Metastases of Enjoyment. Op. cit.P. 167–217.
17. Zizek S. Burning the Bridges // The Zizek Reader. Blackwell Publ., 1999. P. vii-x.
18. Zizek S. The Undergrowth of Enjoyment: How Popular Culture can Serve as an Introduction to Lacan // The Zizek Reader. Blackwell Publ., 1999 P. l1–36.
19. Zizek S. From the Myth to Agape // European Journal of Psychoanalysis, №8–9, 1999.
20. Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. – М.; СПб.: Московский философский фонд, Университетская книга, 1999.
21. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М.: Прогресс– Традиция, 2000.
22. Беннетт Д. Горожане, взломщики и мастурбаторы // Ка6инет Ё, 2002. СПб.: Скифия. С. 284–308.
23. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе (1953). М.: Гнозис, 1995.
24. Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функция я. // Кабинет А 1998, СПб: Инапресс. С. 136–142.
25. Лакан Ж. Семинары. Книга 1. Работы по технике психоанализа (1953/1954). – М,: Гнозис/Логос, 1998.
26. Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955). – М.: Гнозис/Логос, 1999.
27. Мазин В. Желание // Трансфер–экспресс, № 3, СПб., 2001, С. 9.
28. Самохвалов В. Этологическое введение к лекции С. Жижека // Кабинет А, 1998. СПб.: Инапресс. С. 162–163.
29. Трюффо А. Кинематограф по Хичкоку. – М., 1996.
30. Lacan J. Le séminaire, livre XX, Encore (1972–1973). P.: Seuil, 1975.
31. Freud S. Massenpsychologie und Ich—Analyse (1921). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1997.
32. Wright E., Wright Ed. Introduction // The Zizek Reader. Blackwell Publ., 1999. P. 1–8.
ХРУПКИЙ АБСОЛЮТ,
или Почему стоит бороться за христианское наследие
ВВЕДЕНИЕ
Одна из наиболее прискорбных особенностей эпохи постмодернизма и ее так называемой «мысли» заключается в возвращении в неё религиозного измерения во всех его самых разнообразных проявлениях, от христианского и прочего фундаментализма через множество спиритуалистических тенденций «нью эйджа» до возникающей религиозной чувственности в пределах самой деконструкции (так называемая «пост– секулярная» мысль). Как же противостоит этой массированной атаке обскурантизма марксист, который по определению является «воюющим материалистом» (Ленин)? Очевидным представляется такой ответ: он не только яростно атакует эти тенденции, но и безжалостно разбирается с остатками религиозного наследия в самом марксизме.
Разве не стоит, говоря о старом либеральном пустословии, вечно проводящем параллели между христианским и марксистским «мессианским» представлением истории как движения к спасению правоверных (всем известное уподобление коммунистической партии секуляризованной религиозной секте), особо подчеркнуть то, что оно касается исключительно косного «догматичного» марксизма, а не его подлинного раскрепощающего зерна? Следуя новаторской книге Алана Бадью о Св. Павле, мы делаем нашу ставку на нечто совершенно противоположное: вместо того чтобы принимать защитную стойку; позволяя врагу определить территорию борьбы, мы резко изменим стратегию и целиком и полностью согласимся со всеми этими обвинениями. Нужно сказать: да, от христианства к марксизму ведет прямая линия наследования; да, христианство и марксизм должны быть по одну сторону баррикады, вместе сражаться с рвущимся в бой неоспиритуализмом. Подлинное христианское наследие слишком драгоценно, чтобы оставлять его на съедение фундаменталистским выродкам. Однако даже те, кто признает прямую связь христианства с марксизмом, обычно фетишизируют ранних «настоящих» последователей Христа, отрицая церковную «институциализацию» от имени Св. Павла: да – «настоящему, доподлинному посланию Христа», нет – его превращению в корпус учения, узаконивший церковь как социальный институт. То, что делают последователи этой максимы «да – Христу, нет – Святому Павлу» (который, как говорил уже Ницше, по сути дела, придумал христианство), – в точности соответствует позе, которую принимали те «гуманистически настроенные марксисты» середины XX века, чьей максимой было «да – раннему подлинному Марксу, нет – его ленинистскому окостенению». В обоих случаях нужно настаивать на том, что подобного рода «защита подлинного» оказывается наиболее вероломной формой предательства: нет Христа без Святого Павла, точно так же как нет «подлинного Маркса», к которому можно обратиться, минуя Ленина, и, между прочим, как нет «подлинного Фрейда», к которому можно приблизиться, пройдя мимо Лакана.