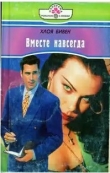Текст книги "Элмер Гентри"
Автор книги: Синклер Льюис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)
– Ох, слушай, как здорово, что ты это сказал!… Потому что это… Ну, в общем, я хочу тебе объяснить, что я сейчас переживаю…
– Нет уж, давай не надо, мой милый. Ты еще не достиг той стадии, когда начинают творить чудеса. Да, он не дурак. Во всяком случае, при мне никто еще так ловко не обводил вокруг пальца простофилю. Да, еще бы, он просто ждет не дождется, чтобы ты подошел к нему на собрании, дал в ухо и заявил, что не можешь осчастливить его своей санкцией…
– Своей чего?
– …на его театрализованное действо – и рекомендуешь ему бросить это занятие, сменить профессию и пойти в грузчики. Безусловно. И он, конечно, читал репортаж о твоих футбольных подвигах в матче с Торвилсен-колледжем. И еще послал нарочного в Нью-Йорк за «Ревью оф ревьюз» [28]
[Закрыть], чтобы узнать подробности. А Эдди Фислингер ему об этом и слова не обронил! Он еще, наверное, и в лондонской «Таймс» читал о твоей игре. Будь уверен! Он же сам сказал. Он ведь праведник – он врать не станет. А если б ты не стал его другом, так он бы прямо зачах с горя. А если он и кого другого из нашего брата-студента поймал на эту удочку, так ведь, наверное, никак не больше тысчонки-другой, всего только!… Честное слово, начинаешь верить в этого старого бородатого еврейского бога! Кто, как не он, мог сотворить в этом мире столько идиотов?!
– Слушай, Джим, ты просто не понимаешь Джада…
– Да. Не понимаю. Человек мог стать приличным боксером, а он изо дня в день цацкается со всякой ползучей дрянью вроде Фислингера!
В подобном духе беседа тянулась до полуночи, несмотря на то, что у Джима был жестокий жар.
И все же на другой день Элмер оказался на собрании, которое проводил Джадсон Робертс, – один, без защиты Джима, который валялся дома в таком скверном настроении, что Элмер, вызвав к нему врача, улизнул из дому подобру-поздорову, не дожидаясь обеда.
II
Несомненно, не кто иной, как Эдди, письмом или телеграммой сообщил миссис Гентри, что ей следовало бы приехать на молитвенное собрание. (От Парижа до Гритцмейкер-Спрингс было всего сорок миль.)
Часов в шесть вечера Элмер тихонько открыл дверь своей комнаты, все еще надеясь, что Джим, может быть, разрешит ему пойти на собрание, все еще готовый уверять друга, что, если он пойдет туда, ему тем более не грозит опасность быть обращенным на стезю добродетели. Не одну милю вышагал он по грязи, терзаясь тревожными думами, и теперь был готов, если Джим заупрямится, отказаться и от собрания и даже от дружбы с Джадсоном…
Он нерешительно переступил порог и увидел, что у кровати Джима стоит не кто иной, как миссис Гентри собственной персоной.
– Ма? Вот это да! Ты что здесь делаешь? Случилось что-нибудь? – всполошился Элмер.
Уж если его матушка решилась пуститься в такой дальний путь, уж, наверное, произошло что-то из ряда вон выходящее: кто-нибудь скоропостижно скончался, не иначе.
Миссис Гентри и бровью не повела.
– А почему бы мне и не проведать моих мальчиков, если мне хочется, а, Элми? Ты, пожалуй, Джима в гроб вогнал бы своим табачищем, если бы не я. Хорошо, я догадалась проветрить как следует эту берлогу. А я-то думала, Элмер Гентри, что в Тервиллингер-колледже курить запрещено. Я думала, мой милый, ты здесь подчиняешься правилам! Ну, да видно, мало ли что я думаю…
Ах, черт! Джиму еще никогда не приходилось видеть, как он, Элмер, в присутствии матери становится послушным ребенком!
– Нет, серьезно, ма, – сконфуженно пробормотал он, – чего ради ты сюда заявилась?
– Просто я прочла в нашей газете, что у вас тут предстоит молитвенная неделя – и какая еще! Ну и решила: дай-ка и я послушаю проповедь настоящей знаменитости! Что ж я – тоже не могу себе устроить каникулы? Ты обо мне только, пожалуйста, не беспокойся. Как-нибудь за все эти годы научилась сама заботиться о себе! Когда в первый раз отправилась в путь с тобою, молодой человек, на свадьбу Эдилин, моей двоюродной сестры, то попросту сунула тебя под мышку – ну и орал же ты всю дорогу! Уже тогда любил слушать собственный голос не меньше, чем теперь! Да… а в другую подхватила свой старенький чемоданчик и укатила! Так что ты обо мне не волнуйся. Я только ночку здесь переночую, а завтра на семерке вернусь домой. А то у меня и распродажа остатков на носу. Чемодан я оставила в гостинице, что напротив вокзала. Вот только разве что одна просьба, Элми. Если тебя не затруднит. Ты ведь знаешь, я у вас в колледже только второй раз. Не очень удобно идти на такое торжественное собрание одной, знаешь, этакая деревенщина, а вокруг все эти ваши ученые преподаватели, гости… Хорошо бы ты пошел со мной, а?
– Конечно, он пойдет, миссис Гентри, – ответил Джим.
Но прежде чем Элмера увели, Джим, улучив момент, все же шепнул ему:
– Ради бога, осторожней! Помни, меня рядом не будет, вступиться за тебя некому. Смотри, как бы не обвели вокруг пальца. О чем ни попросят, не уступай, тогда еще, может быть, вывернешься.
Выходя, Элмер еще раз оглянулся на Джима. С трудом приподнявшись в кровати, друг смотрел ему вслед умоляющим взглядом.
III
Торжественное собрание – центральное событие Недели Молитвы – происходило не в помещении ХАМЛ, а в самой большой аудитории города – баптистской церкви. На нем должны были выступить ректор Кворлс, четыре священника и богатый попечитель колледжа, владелец фабрики перламутровых пуговиц, а гвоздем программы должно было стать выступление Джадсона Робертса. Кроме студентов, на собрании ожидались и сотни горожан.
Церковь представляла собою нагромождение бурого камня с мавританскими сводами и огромным стрельчатым окном, в которое еще не были вставлены цветные стекла.
Элмер рассчитывал прийти попозже и незаметно проскользнуть внутрь, но когда он с матерью подошел к портику в романском стиле, у входа, оживленно болтая, еще толпились студенты. Он был уверен, что они шепчут друг другу: "Смотрите, пожалуйста: Сорви-Голова! Неужели и вправду собрался покаяться в грехах? А вроде бы никто во всем колледже так не ругал церковь, как он!"
Как ни кротко сносил Элмер наставления Джима, угрозы Эдди и уговоры матери, смирение, вообще говоря, было не в его характере, и теперь он окинул своих критиков вызывающим взглядом: "Я им покажу! Думают, я норовлю пробраться в церковь потихоньку – так нет же!"
И гордо прошествовал чуть ли не в самые передние ряды, к радости матери (она опасалась, что ее сынок по обыкновению спрячется где-нибудь сзади, поближе к дверям, чтобы улизнуть, если проповедник начнет переходить на личности).
Церковь отличалась богатством украшений и была обязана этим богомольному выпускнику колледжа, разбогатевшему во время золотой лихорадки в Аляске на постройке меблированных комнат.
Капители египетских колонн были позолочены, плафон расписан золотыми звездами и пухлыми ватными облаками, стены весело окрашены в три цвета – зеленый, водянисто-голубой и хаки. Гулкая и обычно зияющая пустотою церковь постепенно заполнялась, и вскоре даже проходы были забиты людьми. Преподаватели с аккуратно подбритыми усиками и захватанными библиями; студенты в свитерах или спортивных рубашках; сосредоточенно-серьезные студентки в сшитых собственными руками муслиновых платьицах, украшенных скромными бантиками; местные старые девы, щедро расточающие сладкие улыбки; почтенные старцы со всей округи с длинными бородами, частично скрывающими отсутствие галстуков; старухи в платьях с буфами; раздражительные молодые пары с целыми выводками детишек, которые ползали под ногами, шлепались, ревели и изумленно таращили глаза на окружающих.
Приди Элмер пятью минутами позже, он уже не нашел бы свободного места в передних рядах. Теперь же все пути к спасению были отрезаны… Он сидел, зажатый между своей матерью и каким-то громко сопевшим толстяком, а в проходе рядом стеной стояли благочестивые портные и набожные школьные учителя.
Собравшиеся грянули хором "Когда нас призовут на суд господень", и последние надежды Элмера на побег – столь же несбыточные, сколь и пылкие – рассеялись окончательно. Рядом с ним, удобно устроившись, сидела счастливая миссис Гентри, гордо поглаживая его рукав; воинственный маршевый ритм гимна увлекал и волновал его:
Когда протрубит труба господня, когда настанет конец времен.
Когда воссияет вечный рассвет, пресветлый и преславный…
Все встали; зазвучал новый гимн: «Соберемся ли мы у реки», – и Элмер смутно почувствовал, что незримые нити связывают его с этим смиренным и набожным людом: с этим сухопарым плотником (славный малый, наверное, приветливый, добряк), с этой фермершей, матерью семейства, такой же отважной, как ее деды – первые поселенцы Америки; с этим парнем, его однокурсником, классным баскетболистом – а посмотрите, как отдается пению, как закрывает глаза, как откинул голову, послушайте, как звенит его голос! Все они – люди прерий, его родная семья. Все – свои. Так неужели он, Элмер Гентри, окажется изменником, пойдет один против течения, не разделит с ними эту общую веру, этот общий порыв?
О, да, соберемся мы все у реки.
Со святыми придем мы на берег реки,
У прекрасной и чистой мы встанем реки,
Что течет у престола Господня!
Неужели он будет не с ними, останется в холодном и пустынном мире холодного, рассудочного Джима Леффертса в тот день, когда они будут ликовать под теплым утренним солнцем у реки, что катит свои воды к нетленному престолу?
И его голос – во время первого гимна он только цедил слова сквозь зубы – зычно разнесся по всей церкви:
Скоро окончатся наши скитанья,
Скоро сердца наши дрогнут от счастья,
Музыкой мира наполнятся души…
Мать все гладила его рукав. Он вспомнил, как она всегда твердила, что в жизни не слышала лучшего певца, чем он; что даже Джим Леффертс признался как-то: «Да, верно, у тебя эти гипнотические завывания получаются так, будто в них действительно есть какой-то смысл». Он заметил, что, когда его мощный голос, словно набатный колокол, перекрывает надтреснутые голоса поющих, те, кто сидит рядом с ним, победоносно поглядывают по сторонам.
Но все это была лишь вступительная часть, которой надлежало подготовить аудиторию к проповеди Джадсона Робертса. Старина Джад был в отличной форме. Он хохотал. Он рычал. Он становился на колени и рыдал настоящими слезами, он источал потоки любви, он спускался с кафедры и хлопал людей по плечам, и в эту минуту казался каждому из них ближе самого лучшего друга.
Для проповеди им был выбран стих: "Возрадуешься, как муж сильный, пустившийся в бег".
Робертс недаром был опытным спортсменом и вдобавок действительно умел рисовать слушателям яркие образы. Он так описывал матч между командами Чикаго и Мичигана, что Элмер, как будто слившись с ним воедино, переживал минуты, когда вокруг мяча образовалась свалка, вместе с ним вел мяч к воротам противника, а навстречу ему с трибун несся рев болельщиков.
Но вот Робертс понизил голос. Теперь он увещевал, теперь он обращался не к слабым духом, не к тем, которых нужно заманивать в царство небесное, но к людям сильным, добрым, твердым и стойким. Есть на земле иной вид спорта, иная игра, более волнующая, чем любой матч, и цель ее не два-три лишних очка на табло, но созидание нового мира, не слава газетных столбцов, но вечная слава. Это опасная игра, она рассчитана на сильных. Игра захватывающе увлекательная! А во главе команды – капитан: Христос! Не смиренный Христос, но отважный искатель приключений, тот Христос, который любит бывать с простым народом: с отчаянными рыбаками, с главарями и капитанами, Христос, который смело встретил солдат в саду Гефсиманском [29]
[Закрыть], не убоялся клевретов Рима, презрел самое смерть! Придите же к нему! А ну, у кого из вас крепкие нервы? Кто из вас смелый человек? Кто хочет жить интересно, рискованно? Идите к нему! Исповедайтесь в своих грехах, покайтесь, признайте свою слабость и лишь тогда возродитесь к новой жизни – жизни во Христе. Но помните: не затем вы должны покаяться, чтобы урвать себе кусочек вечного блаженства, но затем, чтобы закалить себя для грядущих битв под плещущими на ветру знаменами Великого Капитана. Кто готов? Кто идет за ним? Кто за великую цель, великие дерзания?
Он стоял среди них, этот Джадсон Робертс, простирая руки, и голос его гремел, как труба. Юноши рыдали и падали на колени, пронзительно вскрикнула какая-то женщина; люди расталкивали локтями тех, кто стоял в проходах, и протискивались вперед, чтобы в экстазе преклонить колена… И вдруг они принялись со всех сторон тормошить Элмера Гентри, растерянного Элмера Гентри, которому так заморочили голову все эти речи, что он забыл, кто он и где он, и готов был хоть сейчас идти на край света за Джадсоном Робертсом.
Мать цеплялась за его руку и молила:
– Неужели ты не пойдешь на зов? Неужели не хочешь осчастливить свою старую маму? Познай же это блаженство, преклонись перед Иисусом!
Она плакала, из сморщенных старческих глаз ее лились слезы, а в его памяти вереницей вставали воспоминания: зимние дни, когда она приносила ему по утрам овсянку в кровать, шлепая по холодному полу, поздние зимние вечера, когда он, просыпаясь, видел, как она все еще сидит над шитьем; и – из глубочайших недр его памяти – тот страшный и смутный час, когда она, не помня себя от горя, рыдала над гробом, в котором лежало что-то холодное и жуткое, что раньше было его отцом.
Баскетболист, похлопывая его по другой руке, уговаривал:
– Сорви-Голова, старик, ты ни разу не познал счастья! Ты был всегда одинок! Раздели же нашу радость. Ты меня знаешь – я ведь тоже не из слабого десятка! Вкуси вместе с нами блаженство спасения!
Худой, как мощи, старец, очень величественный, с загадочным взглядом, человек, повидавший на своем веку и битвы и горные долины, простирал к Элмеру руки, взывая с душераздирающим смирением:
– Приди же, о приди к нам! Не заставляй Христа умолять тебя так долго! Не отворачивайся от спасителя, отдавшего за нас жизнь, внемли ему наконец!
И вот уже откуда-то сквозь толпу вывернулся Джадсон Робертс и встал рядом с Элмером, почтив его своим вниманием – одного среди такого множества людей, взывая к нему во имя их дружбы, – сам великолепный Джадсон Робертс заклинал его:
– Неужели ты хочешь меня обидеть, Элмер? Неужели допустишь, дружище, чтобы я отошел от тебя, униженный и несчастный? Неужели предашь меня, как Иуда, – меня, который предлагает тебе в дар самое драгоценное сокровище, которым я обладаю, – моего Христа? Хочешь дать мне пощечину, плюнуть в душу, поразить меня горем?… Иди к нам! Подумай, какая радость – избавиться от всех этих гнусных грешков, которых ты сам же стыдишься! Иди же ко мне, преклони со мною колени!
– Иди, Элмер! – взвизгнула мать. – К нему, ко мне! Неужели ты не доставишь нам это счастье? Побори свой страх, будь мужчиной! Смотри – мы все ждем, все молимся за тебя!
– Да! – подхватили незнакомые голоса.
– Да, да! – гудело со всех сторон.
– Помоги мне, брат; если ты пойдешь, то и я последую за тобой!
Голоса сплетались в сплошной гул, нежные, как голуби, мрачные, как траурный креп, пронзительные, как молнии, – реяли вкруг него, опутывали… Мольбы матери, лесть Джадсона Робертса…
На мгновение он увидел Джима Леффертса, услышал убежденный голос: "Ну да, конечно, они в это верят! Еще бы! Они же просто гипнотизируют самих себя. Ты смотри только, чтоб они и тебя не загипнотизировали".
Он увидел глаза Джима – зоркие, твердые, – глаза, которые лишь для него одного смягчались, грустнели, молили о дружбе. Он боролся, смятенный, сбитый с толку, как мальчишка, на которого напустились взрослые. Запуганный, подавленный, он хотел остаться честным, остаться верным Джиму, верным самому себе, милым его сердцу немудреным грехам и поплатиться за них честь по чести, как положено. А потом эти видения потонули в шуме голосов, голоса сомкнулись над ним, точно волны над головою измученного пловца. Безвольно, смутно подумав, что со стороны он, наверно, похож на плененного великана, он позволил увлечь себя вперед; мать повисла у него на одной руке, Джадсон тянул за другую, сзади напирала орущая толпа.
Растерянный… Несчастный… Изменивший Джиму…
Он оказался в первом ряду молящихся, опустившихся на колени перед своими скамьями, – и тут его осенило! Все в порядке, конечно! У него теперь будет и то и другое! Он останется с матерью и Джадсоном, но сохранит и уважение Джима. Для этого надо только Джима тоже обратить в христову веру, и тогда все будут счастливы и довольны.
Точно гора упала с плеч! Он преклонил колена. И вдруг – на всю церковь – раздался его голос, произносящий слова покаяния; рев толпы, возгласы Джадсона и матери разжигали его, теперь он уже любовался собою: он прав, да, разумеется, так и надо… И Элмер, уже не раздумывая, отдался религиозному экстазу.
В сущности, все совершалось как бы помимо него. Не собственная воля, а воля толпы руководила им, да и слова, что он выкрикивал, принадлежали не ему, а краснобаям-проповедникам и кликушам-молящимся, привычные слова, хорошо знакомые ему с раннего детства.
– Грешен я, господи, грешен! Тяжко бремя моих прегрешений! Я недостоин милости твоей! О Иисусе, заступник! Ты пролил кровь за меня, ты мой спаситель… Господи, воистину каюсь в грехах своих, жажду вечного мира, стремлюсь познать блаженство в лоне твоем!
– Восславим господа! – гремела толпа. – Да святится имя твое! Хвала тебе, хвала, хвала! Аллилуйя, брат, слава тебе, боже милостивый, слава!
О, никогда, никогда он не будет больше пьянствовать, бегать за распутными женщинами, богохульствовать; он познал блаженство покаяния, ну, а еще… сладость чувства, что ты – в центре внимания большой толпы.
Кто-то рядом бился лбом о каменные плиты, кто-то выл: "Помилуй нас, господи!" – а одна женщина – он ее знал, эту студентку, странную, замкнутую, с дикими глазами, она всегда держалась особняком от других – лежала, распростершись на полу, забыв об окружающей ее толпе, и, дергаясь всем телом, корчилась в судорогах, стиснув кулаки, шумно и мерно дыша.
Но не она, а Элмер был здесь главным – он, кто на голову выше всех новообращенных, кто одного роста с Джадсоном Робертсом, – так думают все студенты и большинство горожан; так думает он сам.
– Мальчик мой дорогой, это самая счастливая минута в моей жизни! – всхлипывала его мать. – Она все искупила!
Доставить ей такую радость – разве это мало?
Джадсон стиснул ему руку.
– Я горевал, что тебя не было в Чикагской команде! – кричал он. – Но зато мы теперь с тобой вместе в команде Христа, а это в тысячу раз лучше! Если б ты знал, как я горд!
Быть навеки связанным с Джадсоном – разве это не здорово?!
Замешательство Элмера все больше уступало место бурной и самодовольной радости.
А потом его окружили со всех сторон, жали ему руку, поздравляли: центральный нападающий из футбольной команды, преподаватель латыни, местный бакалейщик. Ректор Кворлс, тряся козлиной бородкой и дергая бритой верхней губой, твердил:
– Идите же, брат Элмер, поднимитесь на помост и скажите нам несколько слов – обязательно, нам всем это необходимо, мы так потрясены вашим прекрасным поступком!
Элмер и сам хорошенько не знал, каким образом, миновав толпу новообращенных, он очутился на помосте. Впоследствии он догадался, что Джадсон Робертс, как видно, неплохо и со знанием дела поработал локтями.
Он взглянул вниз, и на мгновение его вновь охватил панический страх. Но ведь все они просто захлебываются от любви к нему! А Элмер Гентри, тот самый, что всегда притворялся, будто ему наплевать на колледж, в действительности все эти годы жаждал популярности. И вот она пришла – популярность, почти что любовь, почти что преклонение. Он ощутил себя вождем, трибуном!
И оттого его исповедь зазвучала еще более пламенно:
– Сегодня я в первый раз обрел душевный мир во Христе! Все, что я делал доселе, было неправедно, ибо я уклонялся от стези добра и справедливости. Я считал себя добрым христианином, но разве я видел истинный свет? Я ни разу не пожелал пасть ниц и признаться, что я недостойный грешник. А вот теперь я преклоняю колени и – о, как сладостно блаженство смирения!
Строго говоря, он и не думал преклонять колени; наоборот: он стоял, вытянувшись во весь свой богатырский рост, и размахивал руками. Быть может, то, что он ощущал, и вправду походило на блаженство смирения, но речь его очень смахивала на воинственное заявление о том, что он берется вздуть любого завсегдатая какого хочешь кабака. Впрочем, слова его вызвали восторженное "аллилуйя", и он продолжал кричать до тех пор, пока не пришел в полный экстаз и совсем взмок от пота:
– Придите! Придите же к нему! Быть может, странно, что именно я, величайший из грешников, посмел призывать вас к нему! Но господь всемогущ, и сладчайшая истина его глаголет устами младенцев и недостойнейших из недостойных. И вот уже сильный посрамлен, а слабый вознесен пред очи его!
Весь этот пышный набор из лексикона солнцепоклонников был знаком слушателям так же хорошо, как "здравствуйте" и "как поживаете", но он, по-видимому, сумел вложить в эти слова новую силу, ибо никто не подумал смеяться над его скороспелыми восторгами – напротив, все смотрели на него очень серьезно. И вдруг свершилось чудо.
Через десять минут после своего собственного обращения Элмер обратил на путь истинный свою первую заблудшую овцу.
Прыщавый юнец, известный завсегдатай и зазывала игорного дома, вскочил и, воскликнув "Господи, помилуй меня!", рванулся вперед с искаженной лоснящейся физиономией, лихорадочно расталкивая толпу, пробился к скамье кающихся грешников и упал на нее, содрогаясь от конвульсий. На губах его выступила пена.
И тогда дружный хор "аллилуйя" заглушил страстные речи Элмера, и Джадсон Робертс встал рядом с Элмером, обняв его за плечи, а мать Элмера опустилась на колени с просветленным, блаженным лицом, и собрание завершилось исступленным ревом:
Так позволь же прильнуть мне, о Боже,
К истекающей кровью груди…
Элмер чувствовал себя победителем и воплощением благочестия.
Правда, в своем увлечении он не замечал никого, кроме самых набожных, тех, кто пришел заблаговременно и занял первые ряды. Студенты, которые теснились все время в задних рядах, теперь высыпали оживленными группками на церковное крыльцо, и когда мимо прошли Элмер и его матушка, их провожали глазами и даже посмеивались им вслед. Элмера вдруг словно окатили холодной водой…
С трудом заставлял он себя прислушиваться к радостным причитаниям матери по дороге в ее гостиницу.
– Ты только, смотри, не вздумай вставать завтра чуть свет и провожать меня на вокзал, – лепетала она. – Мне ведь и нужно-то всего перенести чемоданчик через дорогу. А ты должен как следует выспаться после сегодняшней встряски… Ах, как я гордилась тобой! Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь так страстно молился, как ты! Элми, ты будешь тверд? Ты так порадовал свою старуху мать! Всю жизнь я горевала, ждала, молилась – теперь мне больше не о чем горевать! Ты не отречешься, правда?
И он, с последней вспышкой прежнего воодушевления, звонко выкрикнул:
– Будь покойна, ма, конечно! – и поцеловал ее на прощание.
Ни следа не осталось в нем от былого подъема, когда он побрел один по улице под покровом морозной будничной ночи – и не вдоль светозарной колоннады, а просто мимо приземистых домишек, запорошенных тусклым снежком, неприветливо насупившихся под холодным и звездным небом.
План спасения Джима рухнул, образ Джима, поднявшего к небу умиленный и благоговейный взор, померк, сменившись образом совсем другого Джима: Джима с разгневанным взором и колючим, острым языком, – и по мере того, как бледнел придуманный им образ друга, гасло и воодушевление Элмера.
"А может, я просто свалял дурака? – размышлял он. – Ведь Джим предупреждал, что, если я потеряю голову, меня сцапают. Теперь, пожалуй, закуришь, так чего доброго, в ад угодишь.
А курить хотелось – и сию же минуту!
Он закурил.
Однако и это помогло не слишком: тревога не унималась.
"Да, но ведь все же было без обмана! Я и вправду раскаивался во всех этих идиотских грехах. Даже вот папиросы – тоже брошу! Я на самом деле почувствовал эту, как ее… божью благодать.
…Только удержусь ли – вот загвоздка! Нет, это просто немыслимо, ей-богу! Ни тебе выпить, ни еще чего…
"Интересно, а что, на меня, правда, снизошел святой дух? Но ведь факт, что я стал другим – я это ясно ощутил. Или это попросту мать с Джадсоном меня так накрутили и все эти праведники оглушили своими воплями?…
Джад Робертс – вот кто меня обработал. Наболтал, понимаешь – друг и брат, да еще силач… Ну, я уши и развесил. А сам наверняка пускает в ход этот приемчик повсюду, куда ни явится. Джим, пожалуй, скажет… А-а, к черту Джима! Что я, не имею права, что ли? Не его дело! Подумаешь – что, уж мне нельзя поступить прилично раз в жизни? А с каким почтением на меня все смотрели, когда я призывал ко Христу! Здорово это у меня получилось, и кстати паренек тот подвернулся, стал сразу каяться с места в карьер. Не всякому удается спасти заблудшую душу прямо тут же, как только он сам встал на праведный путь. Мало сказать – не всякому: никому! Я определенно побил все рекорды! Что ж, а, между прочим, может, они и правы… Может, бог и в самом деле имеет на меня какие-то особые виды, пусть я даже и не всегда вел себя как надо… в некотором смысле… Но я никогда не был подлецом или хулиганом… Так только – развлекался, и все…
Джим… а какое он имеет право меня учить, что надо, а что не надо? Его беда, что он возомнил, будто все знает лучше всех. А я лично думаю, эти лысые умники, что накатали столько книг про библию, надо полагать, побольше знают, чем какой-то там доморощенный агностик из Канзаса!
Да, вот так-то… Вся церковь – все до одного! Как меня слушали: точно я знаменитый на всю Америку проповедник!
Кстати, может, и не так уж плохо быть священником, особенно если большая церковь… Куда легче, чем копаться в делах да выступать в суде, и к тому же у противной стороны вполне может оказаться адвокат и поумней тебя.
Ну, а паства-то проглотит, что ни наплетешь ей с кафедры, и никаких тебе возражений или перекрестных допросов!"
Он фыркнул, но тотчас спохватился:
"Нехорошо так рассуждать! Если сам не поступаешь как надо, это еще не значит, что имеешь право издеваться над теми, кто живет по-хорошему, как вот священники, например… А Джим – он как раз этого не понимает.
Я-то, конечно, недостоин быть священником. Но только, если Джим Леффертс воображает, будто я побоюсь стать священником, оттого, что он там треплет языком… Я-то ведь знаю, какое это чувство, когда ты стоишь, а весь народ перед тобой гудит, ликует… И осенила меня благодать или нет – это тоже знаю один только я. Так что никакого Джима Леффертса мне для разъяснений не требуется".
И так он бродил целый час, не отдавая себе отчета, куда идет, то холодея от сомнений, словно от ледяного ветра, что гуляет по прерии, то вновь, как давеча, в церкви, загораясь – но ненадолго – и все время помня, что ему еще придется исповедаться перед неумолимым Джимом.
IV
Второй час ночи. Джим, конечно, уже заснул, ну а завтра, глядишь, и случится чудо. Утро – оно всегда сулит чудеса.
Затаив дыхание, он приоткрыл дверь. На умывальнике возле кровати Джима был виден свет. Ничего, это только керосиновый ночничок, да он еще и прикручен.
Элмер на цыпочках вошел в комнату, поскрипывая огромными башмачищами.
Внезапно Джим поднял голову с подушки, сел. Открутил фитиль на большой огонь. Нос и глаза у него были красные, в груди клокотал кашель. Он молча уставился на Элмера, и тот, застыв у стола, ответил ему таким же немигающим взглядом.
– Ну, не сукин ли сын! – резко произнес наконец Джим. – Добился-таки своего. Спасли! Дал себя околпачить! Заделался баптистским шаманом. Ну ладно, я умываю руки. Можешь катиться теперь… в рай!
– Нет, Джим, постой, послушай!
– Хватит, наслушался. Не о чем с тобой тут рассуждать! Теперь ты меня послушай. – И Джим, не переводя дыхания, минуты три объяснял Элмеру, кто он есть.
Почти всю ночь шло сражение за душу Элмера; Джим не потерпел поражения, но и не добился полной победы. Как раньше на молитвенном собрании между Элмером и проповедником, заслоняя видение креста, вставало лицо Джима, так теперь, смутные и печальные, маячили перед ним лица матери и Джадсона, и горячие слова Джима доходили до него как будто сквозь туманную завесу.
Проспав всего четыре часа, Элмер, спотыкаясь от усталости, отправился за булочками с корицей, сандвичами и кофе на завтрак Джиму. Затем, слово за слово, они заспорили снова; Джим – еще более настойчиво, Элмер – еще более раздраженно, как вдруг дверь распахнулась и к ним, в почтительном сопровождении дебелой квартирной хозяйки, вкатился не кто иной, как сам ректор, достопочтенный доктор Уиллоби Кворлс собственной персоной: козлиная бородка, белоснежная манишка, тугое брюшко под жилеткой.
Прочувствованно и многократно пожав руку Джиму и Элмеру, ректор движением бровей удалил из комнаты хозяйку и заговорил. Его гортанный голос опытного проповедника, нутряной, с растянутым "л" и раскатистым "р" – глубочайший, бухающий, как у филина, и вместе с тем елейно-проникновенный, как нельзя более подходил к этому храму, созданному им из этой обыкновенной комнаты лишь тем одним, что он в ней находился. Голос, полный укора джимам леффертсам, столь несерьезным и непочтительным, столь ребячески-циничным. Голос, напоминающий собою нечто среднее между вечерним колокольным звоном и утренним криком осла.
– Да, брат Элмер, вы совершили замечательный поступок. Какое редкостное мужество вы проявили! Такой большой и сильный человек, гладиатор – и не побоялся выказать такое смирение! Прекрасный пример, достойный подражания – прррекраснейший пример! Так будем же ковать железо, пока горячо! Сегодня вечером вам предстоит сказать речь на специальном собрании ХАМЛ, дабы закрепить успех, которого мы добились во время нашей поистине знаменательной Недели Молитвы.
– Ох, нет, что вы, господин ректор! – простонал Элмер. – Я не могу.
– Нужно, брат мой… Нужно! Уже и объявление готово. Выйдете на улицу через час – сами сможете полюбоваться на афиши. Будут расклеены по всему городу.
– Но я же не умею говорить речи!
– Господь вложит вам слова в уста – была бы только ваша добрая воля. Я сам зайду за вами без четверти семь. Да благословит вас бог!
И он удалился.
Элмер был окончательно испуган и подавлен – и готов лопнуть от восторга; после того как какой-то студентишка Джим Леффертс столько часов подряд измывался над ним, как над последним болваном, втаптывал его, можно сказать, в грязь, такая персона, как ректор Тервиллингер-колледжа, прижал его к своей накрахмаленной груди как собрата-апостола.