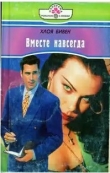Текст книги "Элмер Гентри"
Автор книги: Синклер Льюис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)
– Ах, вот что! Весьма похвально. Благословляю вас, брат! А теперь извините меня, пожалуйста. Я тороплюсь на собрание церковного совета. – И, улыбнувшись ему одними губами, она поспешила прочь.
В эту минуту он казался себе непроходимым тупицей, увальнем, болваном. И все же он мысленно поклялся: "Ну, погоди, черт бы тебя побрал! Захвачу тебя как-нибудь врасплох, когда не будешь так поглощена делами и так дьявольски уверена в себе, – и тогда ты у меня спустишься с небес на землю, голубушка!"
II
За пять дней ему пришлось успеть сделать то, что было рассчитано на девять: побывать в девяти городах, – и все-таки в воскресенье вечером он был уже снова в Сотерсвилле и, надев свой новый коричневый костюм, явился к одиннадцатичасовому поезду на Линкольн.
Его увлечение Шэрон Фолконер переросло в трепетную страсть – первую настоящую любовь в его жизни.
Было слишком поздно, чтобы устраивать пышные проводы, но на станции все-таки собралось не менее сотни братьев и сестер. Пели "Храни нас бог до новой встречи", пожимали руки Шэрон Фолконер. Элмер отыскал глазами своего новоиспеченного приятеля, корнетиста Арта Николса, и остальную евангелическую братию: правую руку Шэрон – Сесиля Эйлстона, толстого, сентиментального солиста-тенора, молоденькую пианистку, скрипача, наставника воскресной школы и руководительницу работы с населением. (Один из главных помощников мисс Фолконер – агент по печати и рекламе – был уже в Линкольне, подготовляя почву для приезда вестников божьих.) Сидя в ожидании поезда на своих чемоданах, они очень смахивали на сонных бродячих актеров и, как все бродячие актеры, были совсем не такие, как на сцене. Хорошенькая бледная пианистка, которая появлялась на собраниях, словно ангел, окутанный облаком серебристой ткани, сейчас была простой провинциалочкой в измятом синем саржевом костюме. Руководительница работы с населением, напоминавшая монахиню в своем белом льняном одеянии, теперь имела явно вызывающий вид в своем красном с черной отделкой платье и поглощена была не столько прощальными гимнами, сколько нежными взглядами немца-скрипача.
А преподобный Сесиль Эйлстон, отдававший носильщику из отеля распоряжения относительно багажа, куда более напоминал сержанта-квартирмейстера, чем мистика с оксфордским дипломом.
Зато Шэрон, вся в белом, была по-прежнему царственно хороша и притягивала всех к себе, точно магнит. Жирный пресвитерианский священник с бакенбардами увивался возле нее, пожимая ей руку с более чем благочестивым жаром. Она, к ярости Элмера, улыбалась ему, улыбалась длинному, тощему священнику секты "апостолов христовых", горячо пожимала всем руки и умилялась каждому. "Благослови вас господь, сестра". Но глаза у нее были усталые, и Элмер заметил, что, когда она отворачивалась от своих почитателей, уголки ее губ опускались. И тогда она казалась совсем юной, утомленной и беззащитной.
"Бедная девочка!" – думал Элмер.
Слепя огнями, оглушая пронзительным свистом, подошел поезд, и труппа засуетилась, подхватывая чемоданы.
– Прощайте!… Благослови вас боже!… Господь да благословит ваше дело!… – кричали все разом – все, кроме священника-конгрегационалиста, хмуро стоявшего в стороне от всех и пояснявшего кому-то из прихожан:
– Укатила… Собрала за шесть недель столько, что всей нашей церкви на два года хватило бы, чтоб прокормиться, и укатила!
Элмер пробрался к своему другу музыканту Арту Николсу и, взбираясь вместе с ним на ступеньки вагона, шепнул:
– Арт! Арт же! Лекарство-то от всех болезней у меня с собой!
– Здорово!
– Вот что! Слушай! Устрой так, чтобы сесть рядом с Шэрон. А потом, немного погодя, выйди покурить.
– Она не любит, когда курят.
– А ты ей не говори, зачем! Выйди – и все… чтобы я мог посидеть и поговорить с ней. Важное дело. Насчет… это… ну, есть один шикарный город, где бы она могла выступить. Новый, понимаешь? На-ка, клади к себе в карман. А в Линкольне достану тебе еще. Ну, давай, входи вслед за ней.
– Ладно, попробуем.
В темном, переполненном и зловонном вагоне стояла жара: дело шло к лету. Тяжело дышали женщины, поскрипывая корсетами, фермеры, сбросив куртки, усердно выводили рулады носами, а Элмер стоял за спинкой скамьи, на которой темным пятном выделялись плечи Арта Николса и неясно мерцал белый костюм Шэрон Фолконер. Элмеру казалось, что она озаряет собою всю вселенную. Она была так дорога ему, каждая ее клеточка: он и не подозревал, что человеческое существо может быть таким бесценным, таким пленительным. Быть рядом с нею – одного этого уже довольно для счастья… почти.
Она молчала. Он слышал лишь гнусавый говорок Арта Николса:
– А не включить ли нам в программу негритянские песни? Встряхнем публику, а? Что вы на это скажете?
И ее сонный ответ:
– Ох, не надо об этом сегодня.
Потом – опять голос Арта:
– Выйти, пожалуй, на площадку, подышать свежим воздухом. – И вожделенное место подле Шэрон освободилось для витающего в облаках Элмера.
Волнуясь, он опустился на скамью. Она сидела усталая, поникшая, но тотчас выпрямилась, взглянула на него в полумраке и со сдержанной учтивостью, которая была обидней всякой грубости, потому что так говорят с чужими, произнесла:
– Мне очень жаль, но это место занято.
– Я знаю, сестра Фолконер. Вагон переполнен, и я только чуточку отдохну, пока нет брата Николса, разумеется, если вы разрешите. Не знаю, помните ли вы меня. Я… мы с вами разговаривали в вашем шатре в Сотерсвилле. Пастор Гентри.
– А-а! – равнодушно отозвалась она. И тотчас добавила: – Ах, да, тот пресвитерианский священник, которого выгнали за пьянство.
– Это совершеннейшая… – Он заметил, что она пристально наблюдает за ним, и догадался, что сейчас рядом с ним не святая, не деловая женщина, а совсем новая Шэрон, доступная и насмешливая. И, восхищенный, продолжал: -…совершеннейшее заблуждение! Я тот ученый богослов, которого выставили за то, что он целовался с регентшей церковного хора в субботу.
– О, это было неосмотрительно с вашей стороны!
– А! Значит, и вам человеческое не чуждо!
– Мне-то? Я думаю! Даже слишком.
– И вам иногда надоедает?
– Что именно?
– Быть знаменитой мисс Фолконер, не иметь возможности зайти в аптечную лавку за зубной щеткой, не рискуя услышать завывание аптекаря: "Хвала господу, у нас есть роскошные щетки, двадцать пять центов штука, аллилуйя!"
Шэрон прыснула.
– Надоедает, – убаюкивающе журчал он, – что не имеешь права уставать, как, например, сегодня, что рядом нет поддержки и опоры!
– Полагаю, дорогой преподобный брат мой, что это надо понимать как великодушное предложение быть мне поддержкой и опорой!
– Нет. Я бы не посмел! Я вас боюсь до смерти. Вы не только красивы… нет! Дайте же объяснить, какое впечатление вы производите на коллегу-проповедника… не только красивы, не только поразительно артистичны и хладокровны, но к тому же, кажется, и умны!
– Нет. Чего нет – того нет, умишком не вышла. Одни чувства. В этом-то и беда моя.
Голос ее теперь звучал уже не сонно и очень дружелюбно.
– Но подумайте, сколько грешных душ вы привели к раскаянию! Это ведь вознаграждает за все, правда?
– Да, наверное… О да, конечно! Только это одно и важно. Только… Скажите: что с вами все-таки случилось на самом деле? Почему вы отошли от церкви?
Он заговорил, очень серьезно:
– Я учился на старшем курсе Мизпахской духовной семинарии, но уже имел свой приход. Увлекся одной девушкой. Не скажу, что, дескать, она меня завлекла. В конце концов мужчина должен сам отвечать за глупости, которые совершает. Но, во всяком случае, ей, конечно… словом, ее забавляло, что по ней сходит с ума молодой священник. И потом она была так прелестна! Очень похожа на вас, только не такая красивая, куда там, и притворялась, будто страшно интересуется церковными делами – на это я и попался. Вот… Короче говоря, мы обручились; я только и думал что о ней да как мы славно заживем, как вместе будем трудиться во славу господа. Ну, а раз вечером прихожу и застаю ее в объятьях другого! Это так меня подкосило, что… О, я пытался и все такое, но просто не мог продолжать работать – и ушел на время. На новой службе дела пошли неплохо. Но сейчас я готов вернуться к той единственной работе, которую всегда любил. Вот о чем я и хотел с вами поговорить тогда, в шатре. Мне было нужно ваше женское сочувствие, ваш совет, а вы меня оттолкнули!
– О, простите, мне очень жаль! – Она ласково погладила его по руке.
Подошел Сесиль Эйлстон, взглянул на ник далеко не благостным взглядом.
Когда они подъезжали к Линкольну, Элмер уже держал ее руку в своей и говорил:
– Бедное дитя, милое, усталое дитя!… – и – Вы не позавтракаете со мной? Где вы остановитесь в Линкольне?
– Знаете что, брат Гентри…
– Элмер!
– Ох, без глупостей, пожалуйста! Не пытайтесь воспользоваться тем, что я так измучена и что мне нравится иной раз побыть просто человеком…
– Шэрон Фолконер, вы ровным счетом ничего не поняли… Я восхищаюсь вашим талантом, вашим самоотверженным служением господу, но больше всего восхищаюсь тем, что вы – фигура, вы большой человек, а не обыденный, узкий профессионал-святоша. Вы сами отлично знаете, что иногда вам бывает приятно вести себя просто, говорить, не выбирая выражений. А сейчас вам слишком хочется спать, и вы не можете судить, нравлюсь я вам или нет. Поэтому я и хочу встретиться с вами за завтраком, когда сон не будет туманить эти дивные глаза…
– Хм! Звучит довольно искрение, кроме последней фразы… Эта, безусловно, не раз бывала в употреблении. Знаете, а вы мне нравитесь! Вы так бесподобно нахальны, так изумительно неразборчивы в средствах, так восхитительно невежественны! В последнее время мне приходилось слишком много бывать в благочестивом обществе. Эта глубокая уверенность в том, что вы способны меня пленить, очень забавна! Смешная вы личность, право… А остановлюсь я в отеле Антлерс, и, кстати, не старайтесь получить номер рядом с моим. Я фактически сняла целый этаж. Итак, встретимся в отеле за завтраком в половине десятого.
III
Спал он плохо, но все-таки рано вскочил и тотчас занялся своим туалетом. Побрился, опрыскал свою пошловатую красивую физиономию туалетной водой «сирень» и привел в порядок ногти, сидя в спортивных трусах и в майке в ожидании, когда принесут его новый костюм, который он отдал погладить. В жизни его, недавно вялой и скучной, появилась новая цель; вот почему дерзкие глаза его ярко блестели и упруго играли сильные мускулы, когда он проходил по мраморному с позолотой вестибюлю отеля Антлерс и остановился у дверей ресторана, поджидая Шэрон. Она спустилась вниз, свежая, в белом полотняном платье с синей каймой. Здороваясь, они рассмеялись, как добрые товарищи по озорным проделкам. Весело взяв ее под руку, он прошел мимо шушукающихся подавальщиц, взволнованных появлением знаменитой проповедницы слова божьего, и со знанием дела заказал завтрак.
– У меня блестящая идея, – сказал он. – Сегодня мне надо уехать отсюда, но в пятницу я вернусь в Линкольн. Что, если б мне выступить в пятницу вечером на вашем собрании в роли бизнесмена, который обрел спасение души? И поговорить эдак с полчаса о практической, трезвой, разумной, выраженной в долларах и центах выгоде пребывания во Христе с точки зрения коммерции?
– А говорите вы хорошо?
– Сногсшибательно.
– Что же, быть может, и неплохая идея. Да, определенно! Кстати, вы чем занимаетесь? Грабежом?
– Я, Шэрон, лучший торговый агент компании Пикот – сельскохозяйственный инвентарь. А если вы не верите…
– Верю, верю. (Хоть ей и не следовало бы.) Я не сомневаюсь, что вы говорите правду… изредка. Разумеется, мы не станем упоминать о том, что вы священник, разве что спросят. Ну-с, подойдет вам такая тема: «Как добиться успеха в жизни с библией Гидеона» [78]
[Закрыть]?
– О-о, шикарно! Стало быть, так. Попал я как-то в заброшенный городишко; погода жуткая, слякоть, дождь и прочее – темные тучи на небе, казалось, уж никогда не выглянет солнце. Промочил насквозь ноги, бесплодно бродя по улицам. Дела идут скверно, на товар спроса нет, полная безнадежность. Сижу у себя в номере… Забыл купить какой-нибудь пустой журнальчик из тех, которые привык читать. Рассеянно беру со стола библию Гидеона, читаю притчу о талантах – в тот же день узнаю, что в городе вы, иду и… обретаю благодать. Вижу, что обязан добиться повышения торговых оборотов, но уже не ради денег, а во славу царствия Христова, чтобы усилить свое влияние как христианина и делового человека. Это настолько придает мне уверенности в собственных силах, что я заключаю сразу несколько отличных сделок и побиваю конкурентов. И всем этим я обязан вашему вдохновенному слову, что и считаю за честь засвидетельствовать. А искать спасения души следует, мол, вовсе не слабым и хлипким неудачникам, а сильным, ибо только сильный не устыдится сложить все к ногам Иисуса.
– Что ж, прекрасно задумано, брат Элмер, отдаю вам должное. Особенно остановитесь на том, что происходило в номере: как вы сняли башмаки, как растянулись на кровати, чувствуя себя совершенно побитым, как, не находя себе места от беспокойства, поднялись снова, заходили по комнате, машинально взяли в руки библию… О рекламе я позабочусь. Но это будет сильно, Элмер? Вы не подведете меня? Ведь в афишах ваше выступление будет на самом видном месте. Значит, я убедила вас специально приехать из Омахи – нет, это слишком близко, – из самого Денвера. Если вы действительно постараетесь как следует, разойдетесь вовсю, это сильно приумножит славу господню, а также число заблудших душ, которые будут спасены на собрании. Ну как, – постараетесь?
– Милая, я им задам такого жару, что вы потом захотите возить меня с собой повсюду. Ручаюсь.
– Хм! Там будет видно, Элмер. А вот и Сесиль Эйлстон! Вы незнакомы с моим помощником? У-у, какой у него сердитый вид! Он, вообще, славный, но такой ужасно интеллигентный, изысканный и прочее и вечно требует от меня, чтобы и я была такой же. Но вы его полюбите.
– Ну нет! Во всяком случае, буду стойко сопротивляться этому чувству.
Оба рассмеялись.
Преподобный Сесиль Эйлстон (льняная шевелюра, великолепный, истинно английский цвет лица) плавно приблизился к их столику, окинул Элмера скучающим взглядом, гораздо более оскорбительным, чем недовольная гримаса, и сел, заметив:
– Я не хотел бы вам мешать, мисс Фолконер, но позвольте напомнить, что вас ждут в гостиной представители местного духовенства.
– Увы! – вздохнула Шэрон. – Такие же ужасные, как и везде, да? Может, вы сами подниметесь к ним и провернете коленопреклонения и молитвы, пока я доем яичницу? Предупредили вы их, что до конца недели необходимо удвоить сумму пожертвований? А не то пусть все линкольнские души и дальше катятся прямехонько в ад!
Сесиль тревожно покосился на Элмера.
– Ничего, ничего. Насчет Элмера не беспокойтесь. Он свой человек. Выступит у нас в пятницу. Был раньше знаменитым проповедником, но нашел в бизнесе более широкое применение своим талантам. Итак, разрешите представить вас друг другу: преподобный Эйлстон – преподобный Гентри. Ну, бегите, Сесиль, да не давайте им скучать и поддержите в них пламя благочестия. А что, все – старые развалины? Или есть отцы помоложе и на вид ничего себе?
Эйлстон ответил возмущенным взглядом и, поджав губы, удалился.
– Милый Сесиль, он так много сделал для меня – буквально заставлял читать стихи и всякое такое. Если б он еще только не был так убийственно корректен за завтраком!… Я не убоялась бы хищников Эфеса [79]
[Закрыть], но есть накрахмаленную яичницу!… Ну, пора и мне идти наверх.
– За ленчем увидимся?
– Отнюдь. Да, мой прекрасный молодой человек, глупостей на эту неделю хватит. С этой минуты я одна из помазанников божьих, и если вы хотите мне нравиться… да поможет вам бог, если вы вздумаете подкатиться ко мне, распустив хвост, когда я буду расправляться с этими меднолобыми братьями во Христе! Увидимся в пятницу. Пообедаем здесь вместе перед собранием. Значит, я могу на вас положиться? Отлично!
IV
Сесиль Эйлстон был отчасти мистик, отчасти приверженец обрядов, немножко шарлатан, немножко ученый, нередко – пьяница, а еще чаще – аскет и неизменно джентльмен и авантюрист. Ему было тридцать два года. В Винчестере [80]
[Закрыть] и в Нью-Колледже [81]
[Закрыть] он славился рекордами в беге на короткие дистанции, снобизмом и знанием греческой поэзии. Приняв духовный сан, он некоторое время был помощником викария в очень старинном, очень грязном и на редкость плохо освещенном храме в Ист-Энде и стал фанатическим приверженцем англо-католической церкви. Пока он размышлял, не уйти ли ему от мира в англиканский монастырь, викарий прогнал его, причем за что – так и осталось невыясненным: то ли за римскую ориентацию, то ли за шашни с дочкой одного чернорабочего, которую он наградил ребенком.
Его понизили – перевели в мрачную, квадратную каменную церковь в Корнуолле; тогда он ушел к Плимутским братьям и в их гулких часовнях из оцинкованного железа снискал себе на всю Блэк-Кантри славу грозного обличителя всех сладостных грехов. Однажды, приехав в Ливерпуль, где ему предстояло прочесть ряд проповедей и, бродя вдоль доков, он увидел готовый к отплытию пароход, купил палубный билет, прихватил с собой паспорт, который выправил себе для предполагаемого побега в Рио с женой одного набожного торговца углем, и, не сказав ни слова братьям во Христе, равно как и пылкой супруге угольного торговца, хмуро отбыл в Америку.
Прибыв в Нью-Йорк, он продавал галстуки в универсальном магазине, читал проповеди в какой-то миссии, был репетитором у дочки крупного рыбного оптовика, писал остроумные и едкие рецензии на книги. Затем уехал из Нью-Йорка, на два часа опередив старшего сына рыбного оптовика, и объявился в техасском городе Уэйко в роли преподавателя коммерческого колледжа; а после – в Уиноне (штат Миннесота) в качестве проповедника в молитвенном доме назареян [82]
[Закрыть]. В Кармеле (штат Калифорния) он писал стихи и справочники по продаже недвижимого имущества, а в Майлс-сити (штат Монтана) замещал в летние месяцы священника-конгрегационалиста. Там он пленил своей кротостью и усердием вдову какого-то фермера, и она вышла за него замуж. Потом она умерла, и он в два дня проиграл наследство в Тиа-Джуана. После этого он проникся сугубым благочестием и время от времени давал спасать себя то Билли Сандею и Цыгану Смиту, то Бидервулфу [83]
[Закрыть] и другим проповедникам, которых ставил в затруднительное положение: не рассчитывая на столь быструю победу, они не успевали обдумать, какой прок можно извлечь из новообращенного.
В Ишпеминге (штат Мичиган), где он заведовал тиром, одновременно хлопоча по почте о месте преподавателя в Гротон-Скул, он впервые услышал о Шэрон Фолконер и дал ей спасти себя с еще большей готовностью, чем обычно. Он влюбился в нее и хладнокровно, с пренебрежительной решимостью поставил ее в известность об этом.
У нее в то время как раз не было постоянного помощника. Она только что уволила очень полезного человека – велеречивого доктора богословия из секты «Объединенные братья» [84]
[Закрыть], за то, что он позволил себе намекнуть радостно внимающим сынам порока, что его отношения с Шэрон меньше всего можно назвать братскими. Итак, она взяла на его место преподобного Сесиля Эйлстона.
Он любил ее отчаянно. Он был так предан ей, что бросил пить, бросил курить и даже покончил с усилившейся в нем за последнее время страстью к подлогам, а с нею самой он творил чудеса.
До сих пор она была чересчур эмоциональна. Он научил ее не расходовать чувство зря, а вложить его разом в одно потрясающее, грандиозное выступление. Она очень вольно обращалась с грамматикой, прибегала в выступлениях к вульгарным и даже грубым примерам для иллюстрации своих слое. Он приучил ее терпеливо сидеть за книгой, читать Суинберна и Джоуитта [85]
[Закрыть], Патера и Джонатана Эдвардса [86]
[Закрыть], Ньюмэна [87]
[Закрыть] и сэра Томаса Броуна [88]
[Закрыть]. Он научил ее пользоваться своим голосом, глазами и – в более интимных отношениях – своею душой.
Она дивилась ему, досадовала на него, покорно слушала его и в конце концов стала тяготиться его высокомерным и преданным чувством. Он же любил ее больше жизни и ради нее отверг авансы завидной вдовушки, хотя вдовушка могла бы вернуть его в лоно епископальной церкви и добиться его назначения в полутемный и богатый храм, по которому томилась его душа после долгих месяцев, проведенных среди опилок и потных раскаявшихся грешников.
V
В пятницу, сойдя с поезда в Линкольне, Элмер остановился перед афишей, на которой черными и красными буквами сообщалось, что Элмер Гентри – крупная величина в промышленном мире, а также – занимательный и искусный оратор и что его выступление на тему «С библией Гидеона – к успеху в коммерции» явится «откровением для тех, кто стремится сделать отличную деловую карьеру».
– Вот это да! – протянула крупная величина. – Одна такая афиша стоит десяти миллионов проданных плугов!
Он мысленно представлял себе Шэрон Фолконер в ее номере в золотистом свете догорающего дня, одинокую, тоскующую – тоскующую о нем. Но когда он позвонил ей по телефону, она сухо ответила:
– Нет, очень сожалею, но сейчас принять не могу, увидимся без четверти шесть, за обедом.
Когда Шэрон, нахмуренная, деловитая, недовольная и к тому же в сопровождении Сесиля Эйлстона, торопливо вошла в ресторан, Элмер, еще не опомнившись от того холодного приема, был сдержан и молчалив.
– Добрый вечер, сестра… добрый вечер, брат Эйлстон, – чинно прогудел он.
– Здравствуйте. К выступлению готовы?
– Вполне.
Ее лицо чуть просветлело.
– Это хорошо. Все остальное идет из рук вон скверно. Здешнее духовенство воображает, будто можно таскать с собой целую ораву праведников так, за красивые глаза. Проберите их хорошенько, расскажите, на какие муки обречены скупцы-бизнесмены. Ладно, Элмер? До чего ж трясутся над деньгой! Знаете что, Сесиль? Будьте любезны не корчить такую мину, будто я кого-то укусила. Никого еще… пока.
Эйлстон пропустил ее слова мимо ушей. Элмер и он оглядывали друг друга, как пантера и буйвол (впрочем, буйвол свежевыбритый и отчаянно благоухающий лосьоном для волос).
– Брат Эйлстон, – заговорил Элмер. – Я прочел в отчете о вчерашнем собрании, что вы говорили о Марии, о помазании народом, читали «Идиллии короля» Теннисона [89]
[Закрыть]… Так, во всяком случае, говорится в газете…
– Все правильно.
– И вы думаете, это подходящий материал для молитвенного собрания? Церковь – другое дело, в особенности где есть богатые прихожане, люди из общества, но в походе за спасение душ…
– Дорогой мистер Гентри, мы с мисс Фолконер раз и навсегда решили, что даже в самой ожесточенной борьбе за спасение душ нет надобности угощать нашу паству пошлятиной.
– Ну, я бы им выдал не это!
– А что же именно, разрешите спросить?
– Добрую старую преисподнюю, вот что! – Элмер покосился на Шэрон и заметил, что она одобрительно улыбается. – Да, сэр, как в гимне поется: ад наших отцов хорош и для нас.
– Вот как! Боюсь, что он недостаточно хорош для меня, и не думаю, чтобы Иисус тоже питал к нему особенную нежность.
– Ну, во всяком случае, когда он пребывал у Марии, Марты и Лазаря, он не прохлаждался с ними, распивая чаи, будьте уверены!
– Но почему же, мой друг? Разве вам неизвестно, что чай впервые доставлен с Цейлона в Сирию караваном в шестьсот двадцать седьмом году до рождества Христова?
– Н-нет, я точно не знал, когда…
– О, конечно, вы просто забыли. В бытность вашу в университете вы, несомненно, читали о великом эпикурейском походе Фталтазара, ну, когда еще он взял с собой тысячу сто верблюдов? Псалтызар – помните?
– О да! О походе помню, я просто не знал, что он вез чай.
– Ну, естественно. Я понимаю. Да, мисс Фолконер, наш пылкий Шуп намерен сегодня петь соло гимн "Таков, как есть". Нельзя ли как-нибудь помешать? Эделберт – славная божья душа, но в таком виде, каков он есть, он грузноват. Вы не поговорили бы с ним?
– Ах, не знаю… Пусть поет. Он массу душ к нам привлек этим гимном, – зевнула Шэрон.
– Каких-то паршивеньких душонок…
– Ах, нельзя же так чваниться! Когда вы попадете на небеса, Сесиль, то станете ворчать, что серафиты… да, ладно, ладно, знаю, что "серафимы", просто обмолвилась, – что серафимы носят не такие корсеты!
– Не поручусь, что вы именно так и представляете себе рай: ангелы в корсетах, а вы – в золотом особняке на фешенебельной небесной Парк-Лейн [90]
[Закрыть]!
– Сесиль Эйлстон, не ссорьтесь со мной сегодня! Я чувствую, что с минуты на минуту начну действовать… вульгарно! Любимое ваше словечко! Я, право же, не прочь спасти душу кое-кому из своих собственных людей! Элмер, вы как думаете, бог учился в Оксфорде?
– Несомненно!
– И вы тоже, разумеется!
– Я-то нет, куда там! Я учился в захолустном колледже в Канзасе! И родился тоже в захолустном городишке в том же Канзасе!
– Да и я, фактически! Нет, родом-то я из очень старой виргинской фамилии и родилась, как говорится, в "родовом поместье", но мы были до того бедны, что наша гордость была просто смешна. Скажите, а вам приходилось в детстве колоть дрова и полоть грядки?
– Мне-то? Ого! Еще как!
Они сидели, положив локти на стол, хвастливо обмениваясь воспоминаниями о своем захолустном детстве, то и дело поражаясь тому, как много у них было общего, а Сесиль хранил ледяное молчание.
VI
Выступление Элмера на молитвенном собрании произвело фурор.
В его речи было все: четкий план, мелодические раскаты бархатного баритона, красивые фразы, занимательные примеры из жизни, высокие чувства, целомудренный подход к предмету, неподкупное благочестие.
Позже Элмер объяснял поклонникам своего ораторского таланта, что важнее всего – план. Что бы они подумали, спросил он, об архитекторе, который увлекся окраской и отделкой, не позаботившись создать проект здания? А велеречивые излияния Элмера в тот вечер отличались редкостной стройностью плана.
В первой части он признался, что, несмотря на свои успехи в коммерции, жил во грехе вплоть до того часа, когда, не находя себе места и слоняясь по номеру, стал лениво перелистывать Гидеона и был потрясен до глубины души притчей о талантах.
Во второй части он доказывал на собственном примере ценность христианства в переводе на звонкую монету. Он отметил, что коммерсанты часто предпочитают явному мошеннику человека надежного и благочестивого.
Пока что он был, пожалуй, слишком реалистичен. Он догадывался, что Шэрон никогда не возьмет его на место Сесиля Эйлстона, если не увидит, что душа его до краев переполнена поэзией. И потому в третьей части он заговорил о любви. Он объяснил, что если христианство не только мечта и идеал, но и практическое руководство к действию, то этим оно обязано любви. Он говорил о любви очень мило. Он сказал, что любовь – это утренняя звезда и звезда вечерняя. Это сияние над тихой могилой, а также источник вдохновения как патриотов, так и директоров банков. Что же касается музыки – то что есть музыка, как не голос любви?
Он увлек своих слушателей (а их было тысяча триста душ, и все слушали его очень почтительно) на головокружительные высоты идеализма и оттуда, словно орлов с горной вершины, стремительно низринул их в юдоль слез:
– Ибо, братья и сестры мои, как ни важно проявлять благоразумие в делах мира сего, важнее всего – мир грядущий, и в связи с этим мне хочется припомнить в заключение очень прискорбный случай, свидетелем коего я был недавно. Мне часто приходилось встречаться на деловой почве с одним очень видным человеком – Джимом Леф… Леффингуэллом. Ничто не мешает мне назвать вам его имя, потому что его уже судит вечный судия. Старина Джим был чудесный человек, но обладал роковыми недостатками: он курил, он пил вино, он играл в азартные игры и, как ни больно признаться, был не всегда воздержан в выражениях и иной раз произносил имя господа всуе. Однако Джим очень любил свою семью, в особенности же свою маленькую дочурку. И вот она заболела. О, какие тяжелые времена настали для всего дома! Убитая горем мать то входила на цыпочках в комнату больной, то снова выходила! Озабоченные доктора сменяли друг друга, стараясь ей помочь. А отец, несчастный старина Джим, сгорбившись от горя, не отходил от маленькой кроватки и за одну ночь совершенно поседел. Но вот наступил кризис, и на глазах у плачущего отца маленькое тельце затихло, и чистая, нежная, юная душа отошла к своему творцу… Джим пришел ко мне, рыдая, и я обнял его, как обнял бы маленького ребенка. "О боже, – рыдал он, – подумать только – я прожил всю жизнь во грехе, и моя малютка скончалась, зная, что ее папочка – грешник!"
Стараясь утешить его, я сказал: "На то была божья воля, старина, чтобы она ушла от тебя. Ты сделал все, что может сделать смертный. Лучшие врачи… Лучший уход".
Никогда не забуду, с каким негодованием он напустился на меня. "И ты называешь себя христианином! – вскричал он. – Да, были и врачи и уход, но одного недоставало – того, что одно только и могло спасти ее, – я не мог молиться!"
И этот сильный человек в отчаянии упал на колени, и, при всем своем опыте, я, привыкший изъяснять пути господни своим… своим собратьям-коммерсантам, – я не нашелся, что сказать. Было слишком поздно!
О братья мои! О друзья-бизнесмены! Неужто и вы будете оттягивать час покаяния, пока не будет уже слишком поздно! Вы скажете, что это – ваше дело? Так ли? Так ли это? Имеете ли вы право взваливать бремя своих грехов на тех, кто вам всего ближе и всего дороже? Неужели вы любите свои грехи больше вашего милого сынишки, больше крошки-дочки, больше нежного брата, доброго старика отца? И вы хотите их наказать? Хотите? Неужели у вас нет никого, кто был бы вам дороже, чем ваши грехи? А если есть – встаньте! Разве нет среди вас человека, который готов встать и помочь такому же деловому человеку, как он сам, нести в мир евангелие – нести миру радость? Неужели никто не подойдет ко мне? Не поможет мне? О, придите же сюда! Дайте мне пожать вам руку!
И они устремились к нему – десятки людей устремились к нему, рыдая. Рыдал и он, умиленный тем, какой он хороший.
Потом они стояли в узком проходе позади белой с золотом пирамиды – Шэрон и Элмер, – и она воскликнула:
– О, это было прекрасно! Честное слово, я чуть сама не заплакала, Элмер! Просто великолепно!
– Ну что – не захватил я их? А? Каково! Знаете, Шэрон, я так рад, что все сошло удачно, потому что это – ваше собрание, и я хотел отдать вам все, на что я способен!
Он шагнул к ней, протянув руки, и на этот раз, впервые в жизни, он не фальшивил, не думал о любовной дипломатии. Он шел к ней, как маленький мальчик к матери, чтобы она похвалила его. Но она отпрянула, прошептав просительно и без всякой насмешки:
– Нет! Пожалуйста!
– Но ведь я вам нравлюсь?
– Да.
– Очень?