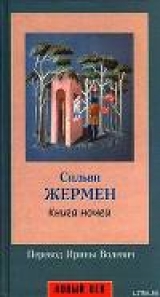
Текст книги "Книга ночей"
Автор книги: Сильви Жермен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Маршал Жоффр провозгласил: «Победа теперь заключена в ногах пехоты!» Однако победа заставляла себя ждать с таким убийственным кокетством, что пехота попросту оставалась без ног. Тогда было решено ускорить призыв молодых рекрутов, и семнадцатилетним пришлось досрочно пополнять ряды их старших товарищей на фронте. Увы, Матюрен и Огюстен, которых касался этот ранний призыв, никак не могли на него откликнуться: еще не успев повоевать, они стали военнопленными.
Видимо, внуки германского улана отличались превосходными ногами, которые занесли их очень далеко в глубь французских земель; они прорвали и отодвинули вперед границу, которую теперь обозначал буйный, незатухающий шквал огня. И этот огонь с ненасытным аппетитом пожирал города и селения, леса, поля и дороги. Вся местность превратилась в одно гигантское пепелище; казалось, на этой выжженной дотла, черной равнине больше никогда не взойдет ни один росток. Адский плуг войны распахал поля рваными, зияющими, как раны, бороздами, засеянными лишь одним – человеческими останками.
Черноземье стало зоной, отсеченной от страны, выброшенной за пределы времени и мира, военной зоной в самой гуще сражений, в которых Матюрен и Огюстен даже не смогли принять участие. Враг, полонивший эту землю, озаботился выслать далеко, в глубь собственной территории, всех мужчин призывного возраста, захваченных в этом огненном кольце. Таким образом, Огюстену и Матюрену, которые уже готовились идти на фронт, приходилось отправляться совсем в другую сторону. Война одним ударом безжалостно раздавила все, чем они жили доселе, – безудержные порывы юности, горячий пыл любви, мирный покой их земли. Они лишились этих радостей, а теперь им еще грозило изгнание в чужие, вражеские края. И тогда их охватил гнев, яростный и неудержимый, и они решили ответить на призыв родины, брошенный из-за передовой. «Да вам же не удастся пройти через линию фронта, – твердил им Виктор-Фландрен. – Наши земли оккупированы, всюду ожесточенные бои; куда ни ступи, натыкаешься на их солдат». Но ни уговоры отца, ни мольбы Ортанс и Жюльетты не отвратили братьев от принятого решения.
«Ты будешь мне писать?» – допытывалась Ортанс у Матюрена, которого никак не могла отпустить от себя. Правда, читать она умела так же мало, как он – писать, да и какое письмо дошло бы до нее из-за линии фронта?! «Неважно, – упорствовала Ортанс, – все равно пиши! Диктуй свои письма Огюстену, он их напишет, а Жюльетта мне прочтет. И потом, если понадобится, я научу птиц, рыб, всех, какие есть, зверей, и дождь, и ветер приносить мне твои письма». На прощанье она подарила ему длинную прядь своих волос. Жюльетта же ничего не дала Огюстену, из страха, что проклятие Вдовьего дома наделит ее талисман злой силой и погубит того, кто станет его носить.
И они ушли, утонули в осенних сумерках, держа путь к багровому зареву передовой. Они пробирались сквозь леса, дрожавшие от взрывов, следовали изгибам рек, замешивались в толпы людей, в панике покидавших свои деревни, и даже в стада животных, согнанные с разоренных пастбищ. Они укрывались ночным мраком и безмолвием; нередко им случалось проводить ночь среди мертвецов, во множестве валявшихся на их дороге. Они пересекли, сами того не ведая, родные края их отца, которые, впрочем, и признать-то было невозможно: всюду, куда ни глянь, пейзаж был пугающе одинаков – война сровняла с землей и обезличила все вокруг. Но чем дальше уходили они от дома, тем неистовее рвались назад их сердца.
За все время своих странствий они не сказали друг другу ни слова и не разлучились ни на миг: каждому достаточно было слышать дыхание другого и ощущать его рядом с собой.
И вот пришел день, когда они достигли края земли и берега моря; они никогда не видели моря – ведь вся их жизнь прошла на полях и в лесах. Долго глядели они, замерев, на бескрайнюю свинцово-серую стихию, испускавшую мерные, глухие, скорбные вздохи. Матюрену море понравилось – голос волн напоминал мычание его быков. Огюстену не понравилось – он счел, что от него пахнет смертью.
Братья не сразу узнали его, когда он, задыхаясь, бросился к ним и рухнул на бок к ногам Матюрена. Лапы его были окровавлены, черная шерсть забурела и покрылась грязной коростой, в которой зияли порезы и раны. В глазах застыл тусклый блеск, каким отсвечивают камешки в воде. На шее у него болтался кожаный мешочек с дыркой от пули. Он дышал так шумно, что заглушил даже рокот отлива.
«Фолько!»– вскричал наконец Матюрен, подхватив пса на руки. Подумать только – его собака, сторож его быков, отыскала хозяина здесь, в самом конце пути, на краю земли! Матюрен крепко прижал к себе пса, уткнулся лицом в мохнатую шерсть. «Фолько, Фолько…» – твердил он, лаская измученного друга. Подошедший Огюстен тоже с улыбкой гладил собаку. «Смотри, у него на шее что-то привязано», – заметил он. Пес отдышался и тихонько заскулил. Огюстен снял мешочек и, открыв его, извлек толстую пачку листков, плотно склеенных сыростью. «Жюльетта!» – прошептал он, бережно разглаживая бумагу, сплошь покрытую ровными строчками. «Жюльетта? – воскликнул Матюрен, – значит, и Ортанс написала тоже! Читай, читай скорее!»
Однако туго свернутые листки промокли так сильно, что буквы неразличимо расплылись по бумаге. «Нужно их высушить, тогда я смогу хоть что-нибудь разобрать», – сказал Огюстен, пряча сверток за пазуху.
Пес уснул на коленях Матюрена, и протяжный гул моря вновь разнесся над пустынным берегом. Братья молча сидели плечом к плечу, глядя, как мрачные свинцовые воды отлива тяжело пятятся к горизонту. Там, вдали, небо заволокла темно-серая кисея дождя. Они совершили почти невозможное, пройдя по занятой врагом территории: ползли под обстрелом, хоронились в грязных, неубранных полях, где гнилые колосья перепутались с обломками оружия и пальцами убитых; они так часто сбивались с пути, что уже потеряли надежду добраться до цели; ели одни коренья и пили воду из луж, ночевали в окопах и на ледяных камнях. И вот теперь они, живые и невредимые, по-прежнему вместе, сидят здесь, лицом к морю, которое отступает перед ними, словно распахивая новые пространства, суля новые надежды.
Матюрену почудилось даже, будто море успокоилось и его рык перешел в нежные вздохи. И ему пригрезилась Ортанс с ее гибким горячим телом, с чудесно тяжелыми, упругими грудями, а ветер с моря принес влажную солоноватую свежесть ее лона.
Семь раз подходили и отступали волны, прежде чем братья опять пустились в дорогу, на сей раз морем. Их кружной путь к армии становился все длиннее и длиннее, по вине обстоятельств. Они были еще неумелыми солдатами – эти мальчики без оружия, без формы – и никак не могли достичь конечной своей цели – войны.
Они взяли Фолько с собой. Когда листки наконец высохли и Огюстен смог их разгладить, он увидел, что сырость съела почти все письмо и от него мало что осталось. Слова безнадежно слились в синие подтеки. Пуля, пробившая мешочек, выжгла середину каждой страницы. Казалось, нежный голосок Жюльетты прерывается на каждой строчке и вот-вот замрет совсем; от стройного послания остались бессвязные обрывки, словно писавшая то и дело теряла нить мысли. Но Огюстен все-таки сумел разобрать в этом хаосе главное: Жюльетта поверяла ему свою любовь, свое доверие и терпение и сообщала новости Черноземья.
Потом, через несколько страниц, сдержанный тон письма внезапно уступал место другому – яростному крику страсти и боли разлуки с Матюреном: теперь Жюльетта писала под диктовку Ортанс. Даже ее ровный почерк сделался тут размашистым, точно необузданная сила слов Ортанс привела Жюльетту в смятение; читая эти строки, Огюстен, в свою очередь, глубоко переживал их. Странное дело: именно эти слова устояли и сохранились куда лучше, чем первая, Жюльеттина часть. Далее письмо обрывалось; следующие листки были испещрены рисунками. Ортанс, выплеснув свои чувства в письме и больше не желая обращаться к Матюрену через двух посредников, надумала говорить с ним языком изображений. Их наивная выразительность куда сильнее рассказывала о ее любви и страсти. В самом конце Ортанс нарисовала Фолько, покидающего Верхнюю Ферму в поисках своего хозяина: черный пес мчится «школьной» тропинкой, по-зимнему оголенной и безлюдной.
Братья последовали примеру Жюльетты и Ортанс. Огюстен написал длинное письмо с рассказом об их долгом кружном пути среди огня и руин, о морском переходе в Англию и о возвращении на континент. «А когда я вернусь на нашу освобожденную землю, то женюсь на тебе, и ты навсегда покинешь свой Вдовий дом и будешь жить со мной на ферме отца», – такими словами завершил он это послание. Затем он написал от имени Матюрена. Пламенные слова брата о его неистовой плотской любви потрясли Огюстена до глубины души. Тело Ортанс, обнаженное признаниями и образами Матюрена, предстало перед ним во всем своем бесстыдном великолепии, и он, в свою очередь, начал мечтать о ней, хотя до этого весь день только и думал, что о Жюльетте. Но вскоре красноречие Матюрена иссякло, и он тоже принялся рисовать, особенно стараясь выразить свои переживания насыщенными, контрастными цветами.
Преувеличенно яркие, порой кричащие краски, какими отличаются перезрелые фрукты. Краски, которых даже летом сроду не видывали в полях и на лугах Черноземья, да, вероятно, и нигде в природе. Краски нестерпимо жгучего желания. И тело Ортанс под карандашом Матюрена также подверглось удивительным метаморфозам, воплотившись в самых невероятных образах и ярчайших цветах. На одном рисунке у нее было множество рук и ног, на другом – волосы, охваченные пламенем или окруженные пчелиным роем, на третьем он усеял все ее тело огромными ртами. На четвертом Ортанс цвела, как дикий сад: на кончиках грудей распускались маки, подмышками горел оранжевый чертополох, руки и ноги обвивала ежевика, с губ свисали грозди смородины, из глаз выпархивали сиренево-голубые стрекозы, пальцы переплетались с ослепительно-желтыми лютиками и ядовито-зелеными ящерицами. Ягодицы рдели, как раздавленные ягоды клубники, лоно скрывали синие васильки и пышно вьющийся плющ, и из этих густых зарослей победно воздымался округлый мясистый бутон плоти, готовый раскрыться, точно утренняя роза. Одну за другой он лихорадочно покрывал страницы этими фантастическими изображениями.
Фолько, с кожаным мешочком на шее, помчался в свой неверный обратный путь. Огюстен и Матюрен смотрели вслед резво бегущему псу и еще долго после того, как он скрылся из вида, их взгляды были прикованы к опустевшей дороге, не в силах оторваться от этой бурой полоски, рассекавшей заснеженный лес и уходившей за горизонт, в их родные края. Впервые взгляды близнецов разъединились, чтобы проводить пса, влиться в его тело и вместе с ним унестись туда, где жили их любимые. «А что если он не доберется, что если его убьют по дороге?» – мучительно думал Огюстен, не осмеливаясь, однако, высказать свои страхи, ибо близость Матюрена решительно исключала всякие сомнения и внушала силу преодолеть даже невозможное.
4
Сперва их направили в лагерь для новобранцев, где наспех обучили практическим навыкам боя. Но каким бы ускоренным и напряженным ни было это обучение, оно никоим образом не посвятило их в жестокую действительность войны. Затем всех этих парней, вчерашних подростков с весенним прозвищем «Васильки», отвезли на фронт, в пополнение к бывалым солдатам. Матюрен и Огюстен спрятали на дне рюкзака, между бельем и алюминиевым котелком, тетрадь-дневник, который они вели, один делая записи, другой рисуя.
«Не знаю, что мне внушает больший страх, – писал Огюстен накануне их отправки, – убивать или быть убитым. В лагере мы только делали вид, что убиваем, но ведь на фронте перед нами будут живые люди. Такие же, как я и Матюрен. И нам придется стрелять в них. В кого же превращается человек, убивающий себе подобных?» Этот вопрос неотступно терзал Огюстена, ему даже во снах чудились головы его будущих жертв, прибитые к воротам Верхней Фермы, как некогда череп Эско, напоминавший разом о двух убийствах – от конского копыта и от руки Золотой Ночи-Волчьей Пасти.
Матюрена удивило название передовой, куда их привезли, – «Дорога Дам», красивое имя, звучавшее как приглашение на воскресную прогулку. Ему представлялся Утренний Подлесок, где они с Ортанс так часто любились, где запах их тел смешивался с пряным, сладковатым духом прелой листвы и влажного мха. Он нарисовал дорогу в ложбине, которая вела к пригорку, усеянному цветами; женщины с летящими по ветру волосами срывали их, собирая в огненные букеты. В конце дороги стояла огромная зрелая роза, неподвластная ураганному огню и смерти, что царили вокруг.
«Дорога Дам» – тернистый путь к смерти, которую презрела и отринула красота еще более мятежная и страстная, нежели красота плотской розы.
Однако в поезде, увозившем их на передовую, все приятные образы и мечты скоро забылись, настолько потрясла их безжалостная реальность войны. Земля непрестанно казала им свои жуткие раны, и чем более разоренным и обезображенным был пейзаж, тем больше чудилось в нем щемяще-человеческого, словно в истерзанной, обгоревшей людской плоти.
И впрямь, земля и плоть смешивались здесь в единую субстанцию – грязь. Линию фронта они увидели еще издали. Мутно-серое небо то и дело вспыхивало у горизонта, как будто кто-то поджигал, один за другим, гигантские факелы. Эту разверстую пылающую границу между небом и землей обозначали еще и неумолчный грохот канонады, завывание летящих мин и треск пулеметов. Желторотые новобранцы, едва обученные военному ремеслу, тотчас были брошены в бой. Их сотнями загоняли в грязные траншеи, где упорно падавший снег тут же растекался зловонной жижей.
Но не один только снег падал в этом месте, здесь падало и многое другое – снаряды, мины, иногда даже аэропланы, люди – каждую минуту, увесистые комья земли, деревянная щепа, камни и обрывки колючей проволоки. Обезумевшим солдатам чудилось, что им на головы вот-вот свалятся осколки неба, облаков, солнца, луны или звезд, – этот участок фронта как будто обладал особой силой притяжения. Настоящий магнит, ей-богу! Именно здесь, на дне окопа, при вспышках разрывов, братья и отпраздновали свое двадцатилетие.
На передовой Матюрен и Огюстен стали держаться вместе еще теснее обычного, всегда сражаясь плечом к плечу и больше всего на свете страшась потерять друг друга. Окружающие не замедлили осыпать насмешками эту неразлучную парочку, дразня их Сиамскими близнецами. Но не было в мире силы, способной их разъединить. Даже любовь, которая вела братьев по разным дорогам, к совершенно разным женщинам, не смогла порвать эту нерушимую связь. Напротив – при полной несхожести их возлюбленных она стала еще крепче и глубже. И умереть поодиночке было совершенно немыслимо, тем более сейчас, в двадцать лет; они хорошо понимали, что оставшемуся в живых придется весь свой век нести на себе этот страшный крест – потерю другого.
Болезненно-слитный союз братьев не мешал им, однако, дружить с товарищами. Семеро парней вскоре образовали вместе с ними тесный приятельский кружок. Это были Роже Болье и Пьер Фуше, оба парижане и новобранцы, Фредерик Адриан, бежавший от немцев из Эльзаса в самый день объявления войны и уже прошедший через ад Вердена, Дьедонне Шапитель, крестьянин, как и близнецы, только родом из Морвана, Франсуа Уссе, художник-пейзажист, чьи прозрачные глаза даже на дне траншеи отражали жемчужное мерцание нормандских небес, Мишель Дюшен из Орлеана и Анж Луджиери, донельзя растерянный оттого, что впервые в жизни покинул свой родной остров – Корсику. Дружбу мальчиков крепко спаяло сознание опасности и близости смерти; несколько дней, проведенных в этих крысиных ходах, полных грязи и крови, без воды, пищи и сна, при ежеминутном страхе гибели, соединили их куда надежнее и глубже, чем долгие годы мирной жизни. Она была скроена наспех, эта фронтовая дружба, но росла и крепла в смрадных окопах, словно комнатное растеньице, что упрямо тянется к свету, выбрасывая листок за листком, распускаясь все новыми и новыми цветами.
Теперь Огюстен часто грезил о тех краях, где родились его товарищи; каждый из них рассказывал братьям о своей родине, и новые услышанные названия открывали перед юношей сказочные горизонты, свои впечатления он записывал в дневник. Сена, Луара, Рейн несли к морю свои величественные воды, рассекаемые мостами, островками и деревьями; проходя через города, они похищали у них отражения каменных ангелов и женских ножек. Холмы Морвана и бескрайние пляжи Нормандии говорили ему о вечном круговороте ветра и волн; Корсика вздымала меж морем и небом свои выжженные солнцем охряно-розовые утесы. Все эти имена, пейзажи и краски, доселе ему неведомые, он узнавал из ностальгических рассказов новых друзей, и теперь братья, пришедшие оборонять свой скромный клочок земли, защищали и те провинции, где родились их юные соратники. Огюстен иногда мечтал о том, как после войны перед ними распахнется весь мир, и они с братом своими глазами увидят эти далекие края – совсем как двое мальчиков из книги Брюно; их путешествиями по Франции и приключениями он буквально зачитывался в детстве.
Но рассказам и легендам, планам и желаниям быстро пришел конец: каждый из их друзей по окопам здесь же и завершил свою историю. Первым открыл счет Пьер Фуше. Приметив в мутно-молочном тумане, уже много дней как окутавшем передовую, цепочку залегших стрелков, он решил спрыгнуть в ближайшую траншею, но угодил в колючую проволоку, натянутую у края рва, и шквал пулеметного огня тут же покарал его за неловкость, изрешетив насквозь, с головы до пят. И прикончили его вовсе не эти солдаты – они все давно уже были мертвы, потому-то и лежали так смирно, носом в землю. Если бы не густой туман, он бы разглядел на мертвецах французские мундиры. Огонь велся над их спинами.
Франсуа Уссе расставался с жизнью постепенно, частями. Тяжелое ранение перешло в гангрену; ему ампутировали ступню, затем голень, затем всю ногу до бедра. Дальше резать было уже нечего. Тогда гангрена преспокойно перекинулась на туловище, и он попросту сгнил еще до того, как испустил последний вздох.
Однажды, когда Матюрен, Огюстен и Дьедонне Шапитель плечом к плечу стояли в траншее, пытаясь отразить атаку германских пехотинцев, оглушительный треск враясеских пулеметов вдруг сменился пугающим безмолвием. «Ну и тихо же! – шепнул Матюрен. – Прямо как перед началом света!» – «Перед началом или перед концом?» – спросил Дьедонне, высунувшись из траншеи и оглядывая развороченное поле с чадящими воронками. Нет, это не было ни тем, ни другим, просто коротенькая пауза, чтобы перезарядить оружие и прицелиться. Дьедонне еще не успел договорить, как пронзительный свист пуль оборвал его вопрос. И вновь воцарилась мертвая тишина, словно подчеркнувшая данный врагом ответ. «Ну, видал? – бросил Матюрен, обращаясь к Дьедонне, – какой уж тут конец!» Но Дьедонне смолчал и только уронил на плечо Огюстена свою каску. Каску, до краев наполненную мягкой серовато-белой парной массой, которая шлепнулась Огюстену на руки. Дьедонне, с аккуратно срезанным, зияющим черепом, по-прежнему пристально смотрел вдаль.
С этого дня в записях Огюстена фигурируют лишь грязь и кровь, голод и холод, жажда и крысы. «…Три дня мы просидели в воронке от снаряда, а поверху непрерывно строчил пулемет. Под конец мы пили грязную воду из лужи и даже лизали промерзшую одежду.
Мороз стоит жуткий, наши шинели трещат от льда. Тут у нас есть и чернокожие солдаты. Им достается еще хуже нашего, если такое возможно. Они часто простужаются и кашляют, кашляют без остановки, а еще они плачут. Если бы люди в тылу знали, как мы здесь страдаем, в какой ад мы угодили, они наверняка заболели бы сами и плакали над нами всю свою оставшуюся жизнь. Бланш предвидела этот кошмар, она все поняла еще до того, как началась война. Поэтому-то она и умерла. Слишком она была добрая, слишком чувствительная и хрупкая, вот ее и убила печаль. Это ведь и вправду невыносимо страшно. Несколько дней назад один из негров сошел с ума. Пятерых его товарищей разорвал снаряд, и ошметки их тел попадали ему прямо на голову. Тогда он уселся среди них и начал петь. Петь так, как поют они у себя на родине. Потом он разделся. Отшвырнул ружье, каску, сорвал с себя шинель и прочее. И совершенно голый стал танцевать среди изувеченных останков.
Я думаю, боши по ту сторону удивились не меньше нашего. Долго длился этот танец. Шел снег. Некоторые из ребят плакали, глядя на негра. И не важно, что мы не понимали, о чем он там поет, все равно, это было прекрасно. Мне хотелось заорать во все горло и пуститься в пляс вместе с ним, но меня как будто парализовало. И его тело – длинное, черное, стройное – тоже было прекрасно. Прекрасно до ужаса. Матюрен – тот сказал: „Сейчас, наверное, земля перестанет вертеться“. Но нет, земля не остановилась, зато нашелся мерзавец, который выстрелил и прикончил нашего негра, голого безоружного человека. Даже и не знаю, с какой стороны стреляли, с нашей или с другой. Я заплакал. А Матюрен – тот решил идти за мертвецом, чтобы упокоить и схоронить его по-людски. Мы с Болье едва удержали его, не то и он остался бы там же. Да, Бланш правильно поступила, что умерла; как только увидела все это, так тут же и умерла. Ее-то, по крайней мере, проводили в землю достойным образом, и спит она теперь в тишине, под цветами. А здесь человеческие останки втаптывают в грязь, а потом их сжирают крысы».
Однако Бланш не помогло и то, что она обрела приют на кладбище, ибо даже там война грубо нарушила покой усопших. Разгул завоевателей уже не знал предела – куда бы они ни ворвались, они беспардонно грабили свои жертвы, отбирая все, вплоть до дверных ручек и оконных задвижек, тюфяков и простынь, даже собачьей и кошачьей шерсти. А потом, обобрав догола живых, победители вспомнили о мертвых и принялись за них, об шаривая кладбища, взламывая склепы, жадно хватая все хоть сколько-нибудь ценное. Так случилось и на кладбище Монлеруа, где алчные оккупанты вскрыли и обыскали могилы Валькуров и Давраншей. Папаше «Слава-императору» пришлось еще раз сложить оружие перед неприятелем: у него отобрали ржавую допотопную винтовку и сорвали пуговицы с мундира. Отец-Тамбур лишился бронзового креста, лежавшего у него на груди, а колокольня Святого Петра рассталась со своим древним надтреснутым колоколом. Только на куклу Марго, тайком сунутую ею в гроб Бланш, никто не польстился. Да и что тут возьмешь – кучка истлевших лохмотьев.
Огюстен продолжал вести свой дневник от случая к случаю, по обстоятельствам. Он даже не очень-то и понимал, зачем и для кого это делает. Сначала он писал для близких – для семьи, для Жюльетты, – пытаясь сохранить духовную связь с ними, остаться прежде всего даже здесь, на фронте, сыном, братом, женихом, живым человеком под защитой и покровительством любви. Но жизнь уходила, как морской отлив, надежда слабела, а сердце загоралось гневом и яростью. Он писал уже не для родных, ни для кого и ни для чего – он писал против. Против страха, против ненависти, безумия и смерти.
Анж Луджиери погиб из-за солнечного лучика. Зима была такой долгой, такой невыносимо суровой, что едва лишь весна робко дала о себе знать, как Анж не утерпел и высунул наружу, за бруствер из мешков с песком, свою восхищенную полудетскую мордашку. «Эй, ребята, а в воздухе-то весной пахнет!» – воскликнул он, задрав голову к поголубевшему небу. Но граната оказалась проворнее солнечного луча, она тут же снесла голову рядовому Луджиери, превратив его улыбку в кровавое месиво.
Однако весну это происшествие ничуть не смутило, она упрямо расцвечивала изуродованную землю жемчужными маргаритками, голубыми барвинками, золотистым крессоном, буквицами и фиалками, и их благоухание витало в воздухе, смешиваясь со зловонием пороха и мертвечины. Вдобавок запели, словно желая подчеркнуть это смехотворное благолепие, невидимые птицы. Они вернулись с юга на родину, презрев людскую войну, которая разорила и их гнезда, и теперь сквозь треск пулеметов то и дело прорывался легкий щебет малиновки или пронзительный посвист дрозда. Но были и другие существа, куда более многочисленные и видимые глазу, которые тоже резвились на поле битвы. Эти мигрировали не со сменой времен года, а с приходом или окончанием войны. Крысы… они набрасываясь даже на раненых, не дожидаясь их смерти, иногда нагло взбираясь прямо на носилки.
«На самом деле, крысы – это мы, – писал Огюстен. – Мы живем совсем, как они, днем и ночью ползая в грязи и отбросах, по трупам. Да, мы превратились в крыс, с той лишь разницей, что у нас пустое брюхо, тогда как у этих тварей оно волочится по земле от сытости. А потом еще паразиты – они кишат всюду, даже у нас в котелках». Казалось, они кишели и в воображении солдат, которые развлекались тем, что ловили вшей и клопов, нарекали их германскими именами – Гинденбург, Фалькенхайн, Берлин, Мюнхен, Гамбург – и, торжественно представив к железному кресту, поджаривали на костре. Впрочем, немцы, по ту сторону фронта, делали то же самое.
Зима еще несколько раз попыталась отвоевать позиции, но лето наконец взяло верх над холодами. А война все шла и шла.
«Все кругом дрожит. Земля корчится, словно зверь, сотрясаемый рвотой. Я даже не помню, какой сегодня день, который час. Черный удушливый дым сплошь заволок передовую. Небо цвета сажи напоминает гигантский очаг, не чищенный веками. Солнца не видно, хотя стоит палящая жара. Нам приказывают стрелять. Мы стреляем. Один Бог знает, куда и в кого. Не видно ни зги, дым выедает глаза. Стреляем, зажмурившись; веки щиплет от копоти и мусора. Иногда я думаю: „Надо же, я ведь мертв, а все-таки стреляю. И буду стрелять вот так целую вечность. Стрелять, стрелять, не останавливаясь и не уповая на Страшный суд, который прекратит этот кошмар. Вокруг меня смерть, я стою рядом со смертью, и я стреляю“. Вот так я думаю. Но нет же – дым расходится, пальба затихла. Всему, оказывается, приходит конец. Протерев глаза, я открыл их и увидел, что Адриан рухнул наземь около меня. Сперва я решил, что он поскользнулся и валяет дурака, не желая вставать. Но, нагнувшись и глянув в его запрокинутое лицо, я все понял. Ему снесло нос и раздробило челюсти. Он лишился уха и глаза. Несмотря на это, я его узнал. Оставшийся глаз блестел голубизной, как цветок цикория. Вот и еще одного товарища мы потеряли. Когда настанет мой черед, я даже не смогу описать, как это случилось. Впрочем, что тут описывать, – здесь все гибнут одинаково.
Пускай уж другие выдумывают, что хотят, про Матюрена или меня, когда нам придет конец. Теперь вы все знаете, люди. Но знать – еще не значит испытать. А потом, может быть, этот дневник никогда и не дойдет до вас».
Однако следующая очередь была не за ним и не за Матюреном. Случай выбрал Мишеля Дюшена и Пьера Болье.
Дозорные успели поднять тревогу, и солдаты спешно натянули противогазы, но Болье чуть замешкался, и приступ кашля так жестоко сотряс его, что он не смог наверстать опоздание. Скорчившись, он упал на колени, лицом в грязь, и его кашель перешел в хрип. Еще с минуту он судорожно дергался, раздирая на груди одежду и вращая обезумевшими глазами; изо рта у него шла розовая пена, ее пузырьки с легким треском лопались вокруг губ. Товарищи, бессильные помочь, окружили Болье, с ужасом и состраданием глядя на эту агонию, но умирающий видел вместо их лиц только страшные резиновые маски, в которых все они были одинаково неразличимы. Ну, а Дюшен погиб мгновенно, от прямого попадания снаряда; взрыв не оставил от него ни ногтя, ни волоска.
В дневнике нет записи об этих двух смертях – Огюстен устал описывать одно и то же – гибель друзей. Слова давно утратили окраску и смысл, перестали быть свидетелями бойни. Он решил даже уничтожить тетрадь, но Матюрен отнял ее у брата и спрятал в своей сумке. Поскольку сам он не умел ни писать, ни читать, почерк Огюстена, все эти ряды строк, испещрявших целые страницы, казались ему чем-то волшебно непостижимым. Иногда он открывал тетрадь и бережно водил пальцем по буквам, касаясь слов, которые упорно не давались ему. Он думал об Ортанс, надеясь, что и она когда-нибудь дотронется до этих загадочных письмен, повествующих о том, как они разлучились и как рисковали навсегда лишиться друг друга.
Желание обладать Ортанс мучило его куда сильнее, чем страх смерти.
Наконец братья получили долгожданный отпуск. Путь домой им был заказан, и потому они отправились вместе с одним из своих товарищей в его деревню, расположенную у самой границы оккупированной зоны, недалеко от Черноземья, на берегу Мезы.
Увидев родную реку, Матюрен придумал отправить по воде дневник, последние страницы которого заполнил своими рисунками. Он обернул тетрадь вощеной бумагой, уложил в жестяную коробку и, прикрепив к ней поплавки, доверил течению. Может быть, там, где Меза пересекает долину Черноземья, кто-нибудь догадается выловить и доставить коробку их родным – может быть! Но в это жалкое, смехотворное «может быть» Матюрен вкладывал куда больше веры и надежды, чем в любого Бога.
И вот им пришлось вернуться в свои фронтовые норы, пропахшие трупами, чье гниение усугубляла сумасшедшая жара. Иногда к вечеру над окопами проносились грозы, смешивая громовой треск и ослепительные молнии с нескончаемым уханьем и вспышками взрывов. Дожди, обрушиваясь на траншеи, превращали их в сплошную топь. Небосвод содрогался от двойного гнета войны и грозы; он походил на брюхо какого-то чудовищного дракона, пышущего отравленным огнем. Огюстену чудилось, будто эта смертоносная липкая шкура и есть оболочка Господа Бога.
И, однако, на сей раз этот безумный Бог сжалился над ними, и Жюльетте пришлось благодарить его за оказанную милость. Братья так и не поняли, каким образом удалось их возлюбленным переслать письмо, которое было вручено им в самый разгар боя. Жестяную коробку, пущенную по Мезе, нашли в прибрежной осоке, возле Черноземья, и передали Золотой Ночи-Волчьей Пасти.
Жюльетта писала им от имени отца, сестер и своего собственного. Но и ей при этом не хватало имен и слов, ибо, читая незавершенный рассказ Огюстена, она ясно ощутила, как проклятие Вдовьего дома вновь подняло голову, угрожая на сей раз не только ее личной судьбе, но и участи всех женщин на свете. И в ее голосе звучали вселенские ужас и боль, которые она, бессильная побороть их в одиночку, вверяла в руки Господа. «Ибо только в пробитых гвоздями руках Божьих, – писала она, – любое зло и страдание улягутся, исчезнут в Его ранах. Я плакала дни и ночи, перечитывая твой рассказ. А потом слезы мои высохли. Мне вдруг стало ясно, что несчастье наше слишком огромно, слишком тяжко для нас, и нести его самим значит впасть в грех гордыни. Тогда я пошла в церковь, встала на колени перед деревянным распятием в алтаре и бросила к ногам Иисуса мой страх, мое отчаяние, все, что меня мучило. И вдруг я почувствовала, как то зло, которое обрушилось на нас, отлетело от меня, скрылось в разверстой ране на Его боку, достигло Его сердца и сгорело там. Теперь мне больше не страшно. Ты будешь спасен, я знаю, я уверена в этом, и я жду твоего возвращения». Но для Огюстена ее слова не имели смысла, он давно утратил веру и мысленно осуждал Жюльетту за то, что она попалась на удочку религии. Теперь он был солидарен со своим отцом в его мятежном отрицании Бога.








