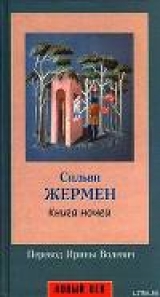
Текст книги "Книга ночей"
Автор книги: Сильви Жермен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Потрясенный мальчик сперва так и застыл на месте, с кулачком, прижатым к валуну. Потом он содрогнулся и с воплем кинулся прочь, через поле. У Теодора-Фостена не хватило сил бежать за ним вдогонку. Жгучая боль прихлынула к голове, прозрачная пленка на макушке вздулась и начала бешено пульсировать. И он рухнул на камень, сотрясаясь от безумного хохота.
Виктор-Фландрен вернулся лишь к вечеру; его привел крестьянин, нашедший мальчика в обмороке посреди поля. Рана уже не кровоточила, забинтованную руку он крепко прижимал к груди. Ребенок упорно молчал, и крестьянин потратил целый день, выясняя, откуда он взялся. Едва он ушел, Виталия бросилась к внуку, но тот и ей не сказал ни слова, а на просьбу показать раненую руку лишь оттолкнул бабушку. Прижимая руку к сердцу, он стоял посреди каюты с опущенной головой, уставившись в пол, пока Виталия причитала и металась, ничего не видя вокруг себя и не понимая, что стряслось.
Теодор-Фостен стоял у стены, бессильно уронив руки и глядя на сына, такой же онемевший и скованный, как тот. На голове у него белела повязка. Наконец Виталия обернулась к нему в надежде, что хоть он расспросит мальчика, но при одном взгляде на него слова замерли у нее на языке. Она вдруг все поняла. Больше толковать было не о чем. И она почувствовала, как серая пелена заволокла ей глаза.
С этого дня безмолвие и враждебная отчужденность воцарились на борту «Божьего гнева», старой баржи, о которой хозяин совсем перестал заботиться. Семья Пеньелей пришла в упадок. Виталия все глубже тонула в пучине мрака, застилавшего ей взгляд, и настоящее, ныне почти невидимое, меркло и распадалось, уступая место воспоминаниям. С каждым днем она уходила мыслями все дальше и дальше вниз по течению Эско, чтобы, в конце концов, погрузиться в бескрайнее серое море своих юных лет. Вновь виделся ей пустынный берег, черные юбки ее матери, хлопавшие на студеном ветру ожидания. И каждый вечер, сидя у постели внука, она увлекала его за собой в излучины своих воспоминаний, населенных волшебными, загадочными именами и лицами. И ребенок засыпал в этих заповедных уголках бабушкиной памяти, манящих, как иные теплые, дремлющие под солнцем болота. А в ночных грезах ему неизменно являлась женщина, одновременно и мать и сестра; она обращала к нему чудесную улыбку, которая побуждала и его тоже улыбаться во сне.
Только эта сонная улыбка и осталась на долю Теодора-Фостена, каждую ночь приходившего тайком подстерегать ее. В тот миг, когда его топор отсек сыну два пальца, он безжалостно отсек вместе с ними любовь и доверие, которые тот питал к отцу. Виктор-Фландрен никогда больше не смотрел ему в глаза и не говорил с ним. Он подчинялся его приказам, он выполнял возложенные на него обязанности, но при этом не произносил ни слова и глядел мимо. Однако стоило отцу отойти или повернуться спиной, как мальчик устремлял на него взгляд неистовой силы. Теодор-Фостен знал этот взгляд, хотя ни разу не встретился с ним. Он просто ощущал его всей кожей, как удар, нанесенный сзади и отдающийся в голове жгучей болью незаживающей раны. Он так и не снял с себя повязку.
Однако Теодор-Фостен ни разу не обернулся, чтобы прогнать сына или заставить его опустить глаза, – он слишком боялся уловить в его взгляде отражение лица того германского улана с шелковистыми пшеничными усами. Ибо как раз там, в безумных глазах людей, исполненных безжалостной ненависти, и угадывалось присутствие Бога. И тогда его разбирал смех, пронзительный, конвульсивный смех, который пугал ребенка, а ему самому придавал силы и уверенности.
Но по ночам сон смягчал мальчика, озаряя беззащитное личико чудесной улыбкой, в которой Теодор-Фостен улавливал призрачные образы Ноэми, Оноре-Фирмена, Эрмини-Виктории, а иногда даже и своего отца. Так он и проводил ночи, затаясь в темноте у постели спящего сына, глядя, как уходит время, как уходит забвение; иногда он робко прикасался кончиками пальцев к спутанным медным волосам сына или, дрожа, гладил его по щеке.
В конце концов, Пеньелям пришлось расстаться с «Божьим гневом». Впрочем, если баржа давно уже не удостаивалась милости Бога, то с некоторых пор была обойдена и его гневом; она просто-напросто приходила в запустение, медленно покрываясь ржавчиной при полном безразличии что Бога, что людей.
Пеньели переехали в домик при шлюзе. Они уже не могли зваться «речниками», но это не означало, что они стали «сухопутными», – теперь они перешли в разряд «береговых», – существа без корней, едва зацепившиеся за этот клочок берега, который даже не пытались обжить как следует, настолько угнетающей была эта недвижность, чуждая их привычкам и вкусам. Сделавшись «береговыми», почти «сухопутными» людьми, они теперь состояли при реке и так и жили на этом краю земли, точно на краю света, временными обитателями.
Именно здесь Теодор-Фостен на следующий год своего «берегового сидения» и покончил жизнь самоубийством. Как-то поутру его тело нашли в зеленоватой воде, которая прибивала его, словно пустой бочонок, к воротам шлюза. Казалось, утопленник нарочно лежит поперек створов, как будто пытаясь навсегда запереть их своим телом и остановить ход всех баржей на свете, а может быть, и ход самой жизни.
Погибшего обнаружил Виктор-Фландрен. Он тотчас прибежал оповестить о случившемся Виталию, которая еще спала. Вошел в ее комнату, тихонько потряс за плечо и сказал ровным, невозмутимым голосом: «Бабушка, вставай. Отец утонул».
Когда тело сына внесли в дом и положили на кровать, Виталия, как и в час смерти мужа, попросила оставить ее одну. Глаза ее почти ничего уже не различали, зато руки – руки были куда зорче ее прежнего молодого взгляда, и она на ощупь, но необычайно аккуратно совершила последний туалет умершего. Она убирала его теми же проворными и точными движениями, какими сорок лет назад обмывала тельце этого своего единственного выжившего сыночка. И она позабыла все, весь груз прожитых лет, потери близких, войну, другие роды, вспоминая лишь ту необыкновенную ночь, когда ребенок издал крик в ее чреве, и то раннее утро, когда из ее тела вышел наконец живой плод ее любви, желания, веры. Ах, как громко крикнул он семь раз подряд, и какими странными отголосками разлетелись эти крики! Возможно ли, что эхо столь громогласных призывов смолкло навек?! Нет, это невозможно, немыслимо, по крайней мере, доколе жива она сама. Ибо она явственно чувствовала, как в глубинах ее чрева и сердца все еще звучит, отдается дрожью то волшебное эхо зародившейся в ней жизни, которой, несмотря на долгие странствия, уготовано место где-то там, в вечности.
И она не стала оплакивать сына, ибо теперь, на этом последнем пороге, где уже стояла сама, поняла, что слезы и причитания только смущают мертвых, замедляя их и без того трудный путь к другому берегу вечности. Этот путь виделся ей похожим на плаванье баржей, медленно скользящих по узким каналам, от шлюза к шлюзу, и нужно было тащить на себе мертвецов точно так же, как эти баржи, медленным шагом идя рядом с ними по берегу, чтобы сопроводить их к иным, неведомым, куда более широким, чем море, водам, где их уже ждали.
Вот такою и увидел Виктор-Фландрен свою бабушку, когда вернулся в ее комнату: она сидела на кровати, выпрямившись и положив голову сына себе на колени. Мальчик удивился ее каменному спокойствию. Взгляд Виталии был устремлен в открытое окно, откуда несся пронзительный щебет вернувшихся с юга птиц. Свежий сияющий воздух затопил комнату. Виталия мерно покачивала головой и улыбалась в пустоту, напевая что-то легким, почти веселым голосом. То была ее колыбельная для мертвых детей. Мальчику на миг почудилось, что ничего страшного не произошло, – может, отец не взаправду умер, а просто отдыхает, положив голову на колени матери. И он впервые за долгие годы позвал его: «Папа!..»
Он заметил, что улыбка бабушки как будто отражается на лице его отца, чьи губы явственно раздвинулись в такой же улыбке. Но подойдя ближе к кровати, он увидел, что изпод сомкнутых век мертвого вытекли и застыли на щеках семь слез молочного цвета. «Папа…» – еще раз позвал мальчик. Но ни отец, ни Виталия, казалось, не замечали его присутствия. Тогда он протянул руку, чтобы стереть слезы с отцовских щек, однако стоило ему коснуться их, как все семь слезинок со стеклянным звоном скатились на пол.
Мальчик собрал их в ямку ладони. Это были маленькие переливчато-белые бусинки, очень гладкие и холодные на ощупь и слабо пахнущие айвой и ванилью.
Виктор-Фландрен был еще слишком мал, а Виталия чересчур стара, чтобы жить одним у шлюза. И пришлось им снова уезжать – еще дальше от воды, еще ближе к земной тверди.
Они не просто приблизились к земле, они в нее углубились, поселившись в одном из тех черных городов, которые некогда видели только издали, при погрузке на баржу угля, извлеченного из их таинственных недр. Но эти недра, теперь открывшие им свою тайну, оказались всего-навсего мрачным, грязным, ужасающим адом.
Виктор-Фландрен был рослым крепким пареньком. Он скрыл свой настоящий возраст, и, несмотря на искалеченную руку, его взяли на работу в шахту; ему было в ту пору всего двенадцать лет.
Сперва его поставили на просеивание породы, где он с утра до ночи загружал бесчисленную череду вагонеток. Потом его перевели на «подсобку», где он с утра до ночи, как крыса, пробирался по разветвленным штольням и узким наклонным штрекам, поднося шахтерам инструмент, деревянные стойки и воздуходувные трубы. Затем он стал откатчиком, и тут с утра до ночи махал лопатой, засыпая уголь в бадьи и таская их туда полными, обратно пустыми. И, наконец, его сделали бурильщиком, и тогда он с утра до ночи работал отбойным молотком, возводил крепи и боролся, непрерывно боролся за существование в мрачных безднах земли.
А Виталия тем временем жила в поселке, где они снимали жилье в домишке, стоявшем в длинном ряду других таких же лачуг у подножия терриконов. Она завела нескольких кур в уголке палисадника позади дома и, как могла, старалась облегчить жизнь Виктору-Фландрену.
Со дня смерти Теодора-Фостена она хранила нерушимое спокойствие, и улыбка не покидала ее лица. Виктор-Фландрен подозревал, что она вообще перестала спать и бодрствует все ночи напролет. Так оно и было – Виталия больше не смыкала глаз; отныне ее ночная жизнь протекала так полно, словно она сама сделалась частью этой ночи, легкой и сладостной, смиренной и кроткой, где ее терпеливое сердце неумолчно и неслышно напевало колыбельную для мертвых детей.
Однажды, вернувшись с шахты, Виктор-Фландрен заметил, что улыбка бабушки озаряет ее лицо ярче обычного. Она сидела у стола и чистила картошку. Мальчик присел рядом с нею и, взяв за руки, молча сжал их.
Он не находил слов перед этой улыбкой, от которой веяло такой безмятежной отрешенностью, что, казалось, Виталия полностью растворилась в ней. Спустя минуту она заговорила сама. «Завтра, – сказала она, – ты не пойдешь в шахту. Ты никогда больше не пойдешь туда. Ты должен уехать, покинуть эти места. Иди, куда глаза глядят, но только уходи отсюда, так нужно. Земля велика, где-нибудь да отыщется для тебя уголок, и там ты сможешь построить свою жизнь и найти счастье. Может быть, это здесь, поблизости, а может, и очень далеко.
Ты знаешь, что у нас ничего нет. То малое, что у меня оставалось, я потеряла. Мне больше нечего тебе дать, кроме той безделицы, что останется после моей смерти – тени моей улыбки. Унеси ее с собой, эту тень, она ничего не весит и не обременит тебя. Так я никогда тебя не покину и останусь самой верной твоей любовью. Завещаю тебе эту любовь, ведь она так велика, куда больше меня самой. В ней умещаются и море, и реки, и каналы, и множество людей, мужчин, женщин и детей тоже. Нынче вечером они все сошлись здесь, поверь мне. Я их чувствую, они тут, вокруг меня». Потом она вдруг умолкла, словно ее отвлекло чье-то невидимое присутствие, и опять забылась, ушла в свою блаженную улыбку, как будто ничего не говорила и ничего не произошло.
Виктор-Фландрен попытался удержать ее, расспросить, ибо не понял бабушкиных странных речей, сказанных таким нежным и в то же время отрешенным голосом – голосом прощания навек, – но внезапно его одолел глубокий сон, и он тяжело уронил голову на стол, прямо в картофельные очистки, не выпуская бабушкиных рук из своих. Когда же он пробудился, он был один. На месте Виталии трепетал легкий свет, подобный золотистому рассветному облачку. Не успел он вскочить со стула и позвать бабушку, как мерцающее пятнышко соскользнуло вниз и, облетев комнату, растворилось в его тени.
Виктор-Фландрен сделал так, как завещала Виталия. Он не вернулся на шахту. Он ушел, куда глаза глядят, унося с собой единственное доставшееся ему наследство – семь слез своего отца и улыбку бабушки, озарявшую его тень. На его лице, еще покрытом угольной пылью, блестело звездочкой в левом глазу золотое пятнышко, из-за которого ему повсюду, где бы он ни проходил, давали прозвище Золотая Ночь.
Ночь вторая
НОЧЬ ЗЕМЛИ
То были времена, когда волки, в поисках пропитания, еще рыскали зимними морозными ночами по полям и наведывались в деревни, где резали все подряд – домашнюю птицу, коз, овец, а порой даже ослов, коров и свиней. Если им не удавалось добраться до скотины, они не брезговали собаками и кошками, и при случае устраивали себе пиршество из человечины. Особенно охотно они пожирали детей и женщин, чья нежная плоть пришлась им по вкусу, лучше иной утоляя голод. А голод их был поистине ненасытим, и эта прожорливость неизменно возрастала с морозами, неурожаем или войной, словно конечный отзвук и самое отвратительное воплощение народных бедствий.
Так вот и жили многие из «сухопутных» в постоянном ужасе перед свирепым, неутолимым волчьим голодом; они окрестили волков единым именем, заклинавшим их собственный страх и этих своих извечных врагов; и было это имя – Зверь.
Этого Зверя со множеством тел люди считали адским испытанием, которое Дьявол послал им на горе. Некоторые даже утверждали, будто в нем скрывается мстительная душа человека, осужденного на вечные муки за то, что он дерзнул изменить ход мироздания; другие верили, что это перевоплощение какого-нибудь злого, жадного до крови, колдуна. Третьи видели в Звере карающий перст Господа, разгневанного людскими грехами и ослушанием. Потому-то крестьяне, собираясь на волчью охоту, просили кюре освятить ружья и заряжали их на церковной паперти пулями, отлитыми из серебряных образков Богоматери и святых угодников.
Однако Зверь умел оставаться невидимым и уходить от охотников. Он скрывался в самых темных лесных дебрях, откуда временами доносились глухие завывания, и показывался лишь тем, кого избрал своей добычей.
Случалось, что люди заставали некоторых из его жертв еще живыми, но, все равно, даже самый легкий укус Зверя обрекал несчастных на смерть. Тщетно знахари натирали раны смоченными в уксусе дольками чеснока, чтобы выгнать из них дурную кровь; тщетно обкладывали укусы кашицей из растертых огурцов, меда, соли и мочи; тщетно покрывали тела больных амулетами – все они рано или поздно погибали в ужасных мучениях.
И, чем ближе подступала смерть, тем больше жертвы Зверя, в свой черед, уподоблялись волкам; жестокое страдание, корчившее их тела, зажигало в глазах такие же нечеловечески-холодные огоньки, какие горели в зловещем, исподлобном взгляде Зверя, а зубы и ногти превращало в свирепые клыки и когти, готовые разорвать любого, кто подойдет. И нередко бывало, что родные впавшего в бешенство человека сами обрывали эту кошмарную метаморфозу, придушив обезумевшего беднягу между двумя тюфяками. Потом они чинно укладывали его на кровати и, как добрые христиане, молились за душу усопшего, прося Господа, чтобы Он не допустил ее блуждать по лесам, где царит Зверь, или с глухим замогильным воем бродить вокруг их дома.
Желая заклясть такие потерянные души, а главное, отогнать Зверя подальше от своих ферм, крестьяне держались обычая после удачной охоты вешать на ворота амбара лапу, голову или хвост убитого волка. Ибо Зверь не должен был даже близко подходить к живым. Говорили, будто его взгляд, пусть увиденный мельком или издали, способен лишить человека голоса и парализовать, а зловонное дыхание может насмерть отравить того, до кого оно долетело. А иные уверяли, будто цыгане – сами по себе весьма схожие с волками, – располагаясь табором близ деревень, набивают трубки смесью табака и высушенной волчьей печени, дабы отпугивать мерзостным запахом этого дыма собак, стерегущих стада.
Таковы они были – эти свирепые людоеды, хозяева лесов, державшие «сухопутных» в вечном страхе; они носили имя Зверь и считались еще более жуткими, чем злые духи, великаны и драконы из сказок и легенд.
Но Виктор-Фландрен в ту пору не знал этого; он хранил в памяти лишь сонную, пресную воду каналов, на которых прошло его детство, да черную утробу земли, куда ежедневно спускался семь лет подряд.
1
Виктор-Фландрен долго шагал по дороге – той самой, которую двадцать лет назад одолевал его отец и которая столь безвозвратно разлучила его с родными. Только он сейчас шел один, без товарищей, не нес ружья на плече, как отец, и не страдал от тоски по дому. Ему не пришлось покидать двух единственных людей, что составляли его семью: улыбка бабушки неотступно следовала за ним, слившись с его тенью, а слезы отца, нанизанные на шнурок, висели под рубашкой на шее.
Он шагал через города и поля, реки и леса, те же самые, что некогда видел его отец, только он смотрел на них без страха и удивления. Была зима; стояли такие морозы, что ветви деревьев ломались, словно стеклянные, и их сухой треск долгими отзвуками витал в студеном безмолвии. Палка, на которую он опирался, блестела от инея и со странным звоном ударялась в оледеневшую землю. Виктор-Фландрен шагал вперед с легким сердцем; он был не то чтобы весел, но просто настолько одинок, что этот пустынный мир, раскинувшийся перед ним до самого горизонта, самою своей непривычностью умиротворял душу.
Снег слежался до каменной плотности, не проваливаясь даже под его ногами, и, когда к полудню бледный желток солнца пробивался наконец сквозь облака, все окрестные поля сверкали нетронутой белизной. Шагая посреди этой безмолвно сияющей пустоты, Виктор-Фландрен чувствовал прилив новой, мужественной силы, ибо наконец во всей полноте ощутил, что он молод, крепок и бодр. Он даже не мерз, хотя от небывалой стужи разрывались мосты, трескались камни, а из лесов выходили отощавшие, голодные волки.
Наконец Виктор-Фландрен добрался до холма, заросшего дубами, буками и елями; вьюга со злобным свистом гнала ему навстречу поземку. Узкая тропинка, разрисовавшая капризными извивами крутой склон, привела его в заснеженную чащу, куда почти не проникал дневной свет; ориентироваться здесь было невозможно, и Виктор-Фландрен с трудом продвигался вперед.
Очень скоро он вконец выдохся и, решив отдохнуть, присел на выступ скалы у прогалины. Начинало смеркаться, и впервые за время своего путешествия Виктор-Фландрен с тревогой подумал о том, где он проведет нынешнюю ночь. Нечего было и пытаться отыскать дорогу в этой сумасшедшей круговерти вьюги и ветра.
Впрочем, ветер выл с какими-то странными, жалобными интонациями, точно какой-то безумец поверял миру свое горе, и Виктор-Фландрен невольно содрогнулся всем телом: этот заунывный звук живо напомнил ему страдальческий хохот отца.
А теперь ветер кружил где-то совсем рядом, то слева, то справа от Виктора-Фландрена. Он сидел на своем камне, боясь шевельнуться или хотя бы повернуть голову. Тьма совсем сгустилась, и тонкий серпик луны, напоминавший крошечную белую запятую, подвешенную высоко в небе, среди звезд, слабо озарял лишь середину лужайки.
Этот несмелый проблеск ободрил Виктора-Фландрена; он встал наконец с камня, где начал уже застывать, и пошел на свет, как будто тот мог предложить ему более надежное убежище. Но тут ночной мрак пронзили два других огонька. Виктор-Фландрен заметил их, подходя к озаренному луной месту; они светились где-то поодаль, но он смог различить их благодаря золотому пятнышку, наделившему его левый глаз поистине кошачьим зрением. Это были две тоненькие косые черточки мерцающего желтого цвета; казалось, кто-то пристально глядит на него из-за деревьев. Виктор-Фландрен замедлил шаг, и сердце его тоже как будто приостановилось. Наконец глядящий вынырнул из тьмы, но не пошел прямо на Виктора-Фландрена; он принялся кружить по темной опушке, не спуская глаз с человека. По-звериному гибкий шаг подчеркивал худобу вислого зада волка, однако его грудная клетка была широкой и мощной; серая, посеребренная инеем шерсть топорщилась на ней густыми пучками.
Виктор-Фландрен повторил маневр волка: он начал с той же скоростью ходить кругами ио лужайке, пристально глядя зверю в глаза и, в ответ на его рычание, издавая такие же хриплые угрожающие звуки. Долго кружили они таким образом; потом волк резко прыгнул вперед, и Виктор-Фландрен немедленно сделал такой же выпад. Теперь они оказались совсем близко друг к другу; круги все сужались и сужались.
Под конец они почти вплотную сошлись в пятне лунного света, их тени уже касались одна другой. Кружение остановилось в тот миг, когда зверь наступил на тень Виктора-Фландрена. Тотчас же волк замер, испуганно прижал уши и с жалобным визгом распластался по земле. Виктор-Фландрен снял с себя ремень и, затянув его на шее дрожащего зверя, прикрепил конец к лямке вещевого мешка. Волк покорно дал посадить себя на сворку.
Теперь Виктор-Фландрен не испытывал ни малейшей боязни – казалось, вся она перелилась в лежавшее у его ног тело зверя. Но на него вдруг навалилась такая тяжкая усталость, что он решил дождаться рассвета, а там уж продолжить путь. Закутавшись в плащ, он улегся прямо на снег, тесно прижался к волку и уснул, согретый его теплом.
Ему приснился сон… приснился или, быть может, передался от лежавшего рядом волка. Он шагал по лесу и вскоре заметил, что деревья размахивают ветвями и одеваются блестящей металлической броней; закованные в панцири стволы медленно качаются во все стороны, простирая в небо ветви и сцепляя их, точно ломают руки; потом у деревьев появляются головы, круглые, массивные головы в шлемах, которые они неуклюже склоняют то влево, то вправо. Затем они с трудом вырывают из земли корни и грузно шествуют куда-то; похоже, будто они идут против ветра, так сильно согнуты их стволы и так судорожно взмахивают они ветвями, уподобляясь пловцам в бурном море.
А теперь деревья в броне сидят на огромных длинных плоскодонках, что спускаются вниз по широкой серой реке, в глубине которой трепещут багровые огни. Там, под водой, люди с непокрытыми головами идут против течения, неся факелы.
Деревья в броне покинули барки; сейчас они направляются к какому-то длинному приземистому зданию и, чем ближе подходят к нему, тем оно становится синее. Они хотят войти в этот дом, но стоит им переступить порог, как они исчезают, поглощенные густой мглой, заволокшей комнату.
Дом пуст; ветер влетает в растворенное окно и треплет занавески. Посреди комнаты стоит большая железная кровать. На ней лежит женщина, одетая в белую рубашку. Ее огромный раздутый живот готов к родам. Раздается какой-то странный, фантастический шум. Женщина, все еще лежащая на спине, медленно взмывает в воздух и начинает летать по комнате. Она изгибается так, что ей удается схватить себя за лодыжки. И ветер уносит ее в окно.
Крыши сумрачного, серо-черного города четко вырисовываются на фоне багрового грозового неба. Между высокими каминными трубами возникают глаза, очень темные глаза, обведенные голубоватыми тенями; они мерцают тусклым нездоровым светом. Город потихоньку снимается с места и плывет мимо этих глаз. Деревья в броне, по-прежнему рассекая воздух своими длинными руками-ветвями, входят в город, проникают в глаза.
А глаза тем временем превратились в двух огромных рыбин, проплывающих сквозь дома, чьи стены разжижаются при касании их плавников.
Волк сидит у входа на мост и, глядя в реку, играет на пиле.
Вдали, у воды, растворяется окно дома. Кто-то высовывается наружу и начинает вытряхивать ковер. На ковре выткан рисунок, напоминающий лицо; да, это именно лицо, и от встряхивания оно отделяется от ковра и падает в реку.
Волк исчез, но пила так и осталась стоять сама по себе у входа на мост; она продолжает вибрировать, издавая свою дребезжащую мелодию.
Виктор-Фландрен проснулся с первыми проблесками зари, под свистящие стоны ветра. Волк неподвижно лежал рядом. Небо расчистилось, согбенные деревья чуточку распрямились, и теперь в лесу обнаружились незаметные накануне тропы. Поколебавшись с минуту, Виктор-Фландрен решил идти налево. Он встал на ноги, тотчас поднялся и волк, и они пустились в дорогу.
После долгой ходьбы через лес они выбрались на открытую местность; поля, сменяя друг друга, полого шли вниз, где виднелись дома. Пруды и болотца, разбросанные в низине, серебрились льдом под бледными лучами утреннего солнца. Вдали по равнине петляла большая река, унося за горизонт свои пепельно-серые воды. Виктор-Фландрен почувствовал облегчение, увидев дома, стоявшие по краям полей. Эти места сразу пришлись ему по сердцу своей суровой простотой; их уединенность была чем-то сродни одиночеству жизни на каналах. Ему чудилось, будто эти серые, приземистые, крепкие фермы, охраняющие поля и леса, точно сторожевые псы, неспешно плывут куда-то вдаль. Только плывут бесконечно медленнее, чем баржи.
Он глядел, как ветер набрасывается на жиденькие дымки, курящиеся над трубами, и треплет их во все стороны. И внезапно ему вспомнились слова Виталии: «Земля велика, где-нибудь да отыщется для тебя уголок, и там ты сможешь построить свою жизнь и найти счастье. Может быть, это здесь, поблизости, а может, и очень далеко».
Здешние места были не близко и не далеко – казалось, они существуют вне пространства. Их не отличали ни дикое великолепие изваянных морем прибрежных утесов, ни царственное очарование горных пейзажей, ни бесстрастная красота пустынь, беспощадно выжженных солнцем и ветрами.
Это был один из тех уголков на краю страны, который, подобно всем приграничным зонам, казался навсегда забытым и Богом и людьми – за исключением великих, роковых мгновений, когда повелители империй, затеяв игру в войну, торжественно объявляют их своим священным достоянием.
2
Виктора-Фландрена вывел из мечтательного забытья волк, который визжа рвался со сворки. Он взглянул на припавшего к земле зверя и внезапно решил вернуть ему свободу. Когда ремень был расстегнут, волк на мгновение замер, потом, встав на задние лапы, уперся передними в грудь Виктора-Фландрена.
Теперь морда волка и лицо человека сблизились почти вплотную. Волк медленно облизал щеки Виктора-Фландрена, так бережно касаясь их языком, словно вылизывал открытую рану на собственном теле; потом он опустился наземь и, отвернувшись, неспешно затрусил к лесу. Виктор-Фландрен долго провожал его взглядом; затем, когда тот скрылся из виду, пошел своей дорогой.
Когда Виктор-Фландрен приблизился к селению, солнце уже стояло в зените. До сих пор он никого не встретил. Он внимательно оглядел поселок, сосчитал дома. Их оказалось семнадцать, но добрая половина выглядела заброшенными. Одна из ферм, самая большая, стояла на отшибе, на склоне холма между двумя еловыми рощицами. Местность здесь была такой неровной, что все постройки находились на разных уровнях. Виктор-Фландрен присел на край колодца, расположенного между пятью домами. Его мучил голод; порывшись в дорожном мешке, он нашел там только ломоть безнадежно черствого хлеба. Залаяла собака, следом тотчас подали голос другие. Наконец из одного дома вышел мужчина; он прошел мимо колодца, как бы не замечая Виктора-Фландрена, хотя искоса настороженно оглядел незнакомца. Виктор-Фландрен окликнул его. Человек обернулся с тяжеловатой медлительностью. Виктор-Фландрен спросил, как называется селение и не найдется ли здесь для него какой-нибудь работы. Услышав незнакомый акцент, крестьянин стал глядеть еще враждебнее; он ответил, что у них в Черноземье никакой работы не бывает, однако можно наведаться к Валькурам, вон туда, на Верхнюю Ферму. Виктор-Фландрен посмотрел в указанную сторону: это был тот самый дом на холме, среди елей. Он тотчас же направился к нему.
Ферма оказалась дальше, чем он предполагал, – дорога бесконечными зигзагами шла по склону холма. Собственно, ее и дорогой-то нельзя было назвать: скорее, хитрый лабиринт из подъемов и спусков. Ему пришлось даже остановиться и передохнуть. Голод все сильнее терзал его.
Когда Виктор-Фландрен добрался наконец до фермы и вошел в широкий пустой двор, его снова встретил такой яростный лай, как будто в каждом углу пряталось по собаке. Остановившись посреди двора, он крикнул: «Эй!
Есть кто-нибудь?» Лай усилился, но никто не ответил. Потом вдруг собаки испуганно завизжали, как будто почуяли близость волка. Но вот в дверях появилась женщина, так плотно укутанная в толстую шаль, что Виктор-Фландрен затруднился определить ее возраст. Он только ясно различил ее глаза: узкие и блестяще-черные, как яблочные семечки, они смотрели живо и чуточку настороженно. Женщина молча выслушала имя и просьбу Виктора-Фландрена, потом, резко отвернувшись, направилась к дому и оттуда, с порога, крикнула ему: «Ну ладно, заходите!»
В кухне царила душная жара, пахло капустой, салом и жареным луком. Хозяйка усадила Виктора-Фландрена за стол, который проворно обмахнула тряпкой, и, сбросив шаль, села напротив. Теперь Виктор-Фландрен увидал перед собой крепкую молодую женщину лет двадцати пяти, черноволосую, с круглым скуластым лицом и красиво очерченным пунцовым ртом, – мягкие губы алели ярко, как клубника.
С минуту они разглядывали друг друга; женщина не отрывала взгляда от глаз Виктора-Фландрена, особенно от левого. Он догадался, что ее заинтересовала золотая искра в зрачке; наконец он опустил веки, не столько смущенный настойчивым взглядом хозяйки дома, сколько разморенный жарой и запахами еды, дразнившими его пустой желудок. И когда женщина вдруг заговорила, он даже вздрогнул, вырванный ее голосом из полудремы.
«Значит, вы ищете работу?» – спросила она. Он удивленно глянул на нее, словно не понимая вопроса. «Что вы умеете делать?!» – продолжала женщина. Виктор-Фландрен подумал, что голос у нее такой же округлый и сдобный, как лицо; ему почудилось, будто ее слова катятся, точно свежие теплые булочки, и вместо ответа он заулыбался. «Странный вы какой-то!»– удивленно заметила молодая женщина. «Просто я очень устал, – сказал он, как бы извиняясь. – Я долго шел и ничего не ел со вчерашнего дня». Потом добавил: «Но я много чего умею делать. Я привык к тяжелой работе».








