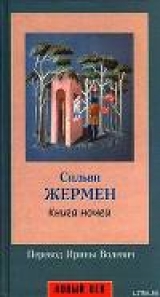
Текст книги "Книга ночей"
Автор книги: Сильви Жермен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Сильви Жермен
Книга ночей
Анриэтте и Ромену Жермен
«Нет – мое имя, Имя мне – нет!»
Рене Домаль «Под небесами»
«Ангел Господен сказал ему: Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно».
Книга Судеб, XIII, 18
Эта ночь, что однажды, в октябрьский вечер,
Сквозь крик материнский вошла в его детство,
Вошла в его сердце с горечью пепла,
С привкусом едким соли и крови,
И больше всю жизнь уже не отпускала,
Ни в юные годы, ни к старости, имя
Его повторяя, ведущее в бездну времен.
Но эта ночь, что цепко завладела им, исполнила его память тоскливым страхом ожидания, и этот крик, вошедший в его плоть, пустивший там корни и зажегший в нем бунтарский дух, явились из невообразимых, невиданных далей.
Заповедная ночь его предков; мрак, в котором все его родные, из поколения в поколение, вставали, блуждали, жили, любили, боролись, падали под ударами судьбы. И умолкали.
Ибо крик этот поднялся также из глубин куда более мрачных, нежели безумие его матери. Он шел из бездны времен – нескончаемое, неумолчное, гулкое эхо воплей, слившихся в общий, неразличимый хор.
Крик и ночь вырвали его из детства, из череды поколений, пронзив стрелою одиночества. Но именно оно и вернуло его, властно и неодолимо, к родным корням.
Уста ночи и крика, разверстые раны на лицах, сотрясенных жестокой судорогой забытья, внезапно пробудившего воспоминание обо всех прошедших ночах, обо всех давно смолкших криках – еще более древних, чем сам наш мир.
Ночь вне времен, что царила при рождении мира, и крик неслыханной тишины, что открыл историю мира, точно огромную книгу плоти, листаемую ветром и огнем.
Шарль-Виктор Пеньель, по прозвищу Янтарная Ночь, призванный бороться в полуночи этой ночи.
Ночь первая
НОЧЬ ВОДЫ
В те времена Пеньели еще звались «речниками». Они обитали на сонной, почти недвижной воде каналов, в этом плоском мирке, над которым тяжело обвисали облака и стыла тишина. Землю они знали только по берегам, испещренным тропинками для конной тяги, под сенью ольховых и ивовых шатров, берез и белых тополей. Эта лежавшая вокруг них земля раскрывалась подобно гигантской плоской ладони, обращенной к небу в смиренном жесте бесконечного терпения. И таким же терпением были исполнены их печальные и покорные сердца.
Земля была для них вечным горизонтом, всегда на уровне их глаз, всегда слитая там, вдали, с низким небосводом; она всегда смутно волновала душу, хотя вряд ли затрагивала ее всерьез. Земля – это была чуждая жизнь бескрайних полей, и лесов, и болот, и равнин, увлажненных молочно-белыми туманами и дождями; это были проплывающие мимо пейзажи – и странно далекие и знакомые, – где реки медленно несли свои воды по извечным руслам и где еще медленнее вершились их судьбы.
Города они знали только по названиям, легендам, рынкам да праздникам – из отрывочных, неясных, как эхо, речей тех «сухопутных», кого встречали на стоянках.
Им были знакомы силуэты городов, фантастические, причудливые их абрисы, встающие на горизонте, в капризно-изменчивом свете небес, над полями льна, пшеницы, гиацинтов и хмеля. Шахтерские и текстильные, ремесленные и торговые, они гордо воздымали свои колокольни и башни, наперекор ветрам, налетавшим с моря, утверждая себя как обители солидных, работящих людей перед лицом истории – и Бога. И так же гордо воздымались к небесам их сердца в необъятности нынешнего бытия.
Из людей они знали только тех, кого встречали у шлюзов и водохранилищ и с кем обменивались немногими простыми словами, по требованию обычая или необходимости. Словами, соразмерными с водой и баржами, с углем и ветром, с их жизнью.
О людях они знали только то, что знали о самих себе, – скудные обрывки сведений, какие могут дать лица и тела, на мгновение вынырнувшие из непроницаемого мрака бытия. Между собой они говорили еще меньше, чем с посторонними, а с самими собой не говорили вовсе, ибо в каждом произнесенном слове неизменно звенело пугающее эхо слишком глубокого безмолвия.
Зато им лучше, нежели другим, были ведомы красота сияющих или мрачных небес, влажная свежесть ветра и дождевых капель, ароматы земли и ритм светил.
Между собой «речники» охотнее назывались именами своих барж, чем полученными при крещении. Так, были среди них те, что с «Жюстины», «Сент-Элуа», «Пылкой любви», «Ангелюса», «Ласточки», «Мари-Роз», «Сердца Фландрии», «Доброй вести» или «Майского цветка». Пеньелей величали людьми с «Божьей милости».
1
Виталия Пеньель произвела на свет семерых детей, но свет избрал для себя лишь одного из них, последнего. Все остальные умерли в самый день своего рождения, не успев издать свой первый крик.
Седьмой же, напротив, закричал, еще не родившись. Ночью, накануне родов, Виталию пронзила резкая боль, какой она доселе ни разу не испытывала, и вдруг у нее во чреве раздался неистовый крик. Крик, подобный гудкам рыболовных шхун, возвращавшихся из дальнего плаванья. Она знала этот звук, ведь она так часто слышала его в детстве, когда стояла на берегу, прижавшись к матери и ожидая вместе с нею возвращения «Северной розы» или «Агнца Божия», на которых ее отец и братья ходили в море. Да, ей был хорошо знаком этот тягучий вопль, пронзавший морской туман; она так долго ждала его, ждала дважды, но услыхала, несмотря на терпеливое ожидание, лишь в диковинном эхо, зазвучавшем в безумном теле ее матери. А потом она ушла из мира безжалостных соленых вод, последовав за одним из «речников», и изгнала те крики из памяти. Но вот теперь то же эхо – отзвук крика моря с его бурными водами – родилось в глубинах ее собственного тела, вырвалось из забвения, и она поняла, что на сей раз ребенок выживет «Послушай! – сказала она сонно прильнувшему к ней мужу. – Ребенок закричал. Он родится и будет жить!» – «Молчи, несчастная, – проворчал тот, отворачиваясь к стене, – твоя утроба – могила, в ней живое не держится!»
На рассвете, когда муж Виталии уже встал и пошел запрягать лошадей, она разродилась в каюте, совсем одна, полулежа на подушках. Это был мальчик. Вырываясь из тела своей матери, он крикнул еще громче, чем накануне, и этот крик испугал лошадей, жавшихся друг к дружке на берегу, еще затянутом ночными тенями. Отец, заслышав крик сына, упал на колени и разрыдался. Семь раз подряд ребенок издавал крик, и семь раз подряд лошади взвивались на дыбы, храпя и тряся гривами. А отец все плакал и плакал, и семь раз подряд сердце останавливалось у него в груди.
Наконец он поднялся и вошел в каюту; в полумраке слабо поблескивало белое, как мел, тело его жены с раскинутыми ногами, меж которых лежал еще не омытый от крови и вод младенец. Подойдя к постели, он погладил лицо Виталии, преображенное усталостью, болью и счастьем. Он едва узнал его, это лицо. Оно словно бы парило над телом, взмывало в воздух на крыльях света, поднявшегося из заповедных глубин ее естества, воплощалось в улыбку, еще более смутную и бледносияющую, чем мерцание полумесяца.
Потом он взял на руки сына; крошечное голенькое тельце оказалось невообразимо тяжелым, словно в нем сосредоточилась вся тяжесть мира и благодати.
Но отец не нашел, что сказать ни матери, ни ребенку, как будто пролитые слезы лишили его дара речи. И с этого дня он больше не вымолвил ни слова.
Виталия перекрестилась, потом осенила такими же крестами все тельце новорожденного, чтобы нигде, ни в одном месте, ее сыночка не коснулась беда. Ей вспоминалась церемония крещения судов, когда священник в белом стихаре и золотой епитрахили кропил новенький корабль святой водой сверху донизу, по всем углам и закоулкам, стараясь не оставить смерти ни единой лазейки, если море ополчится на него. Но, вспоминая об этих празднествах на морском берегу, в родном селении, она незаметно соскользнула в предательскую дрему, и рука ее упала, не успев начертать последний крест на лобике ребенка.
Вот так самый младший рожденный на свет Пеньель получил свою долю жизни, обретя при этом имя Теодор-Фостен.
Однако доля эта оказалась не такой уж малой: казалось, ребенок собрал в себе всю жизненную силу, отнятую у его братьев, и принялся расти буйно и неудержимо, как здоровое молодое деревце.
Разумеется, он стал «речником», как и все его родичи с отцовской стороны, и проводил дни на барже или на берегу, рядом с баржой, между бледносияющей улыбкой матери и ненарушимым молчанием отца. Молчание это было насыщено таким мудрым, таким кротким покоем, что, слушая его, ребенок учился говорить, как другие учатся петь. Детский голосок строил свои модуляции на фундаменте этого молчания, и его тембр, одновременно И низкий и звонкий, то и дело менялся, переливаясь подобно серебристой водяной ряби. Иногда казалось, будто голос мальчика вот-вот прервется, растает в шелесте его собственного дыхания, однако, даже стихнув, он продолжался в странном эхо. Когда ребенок умолкал, последние произнесенные им слова еще несколько мгновений витали в воздухе еле слышными отзвуками, которые, постепенно замирая, семь раз подряд смущали тишину.
Мальчик любил играть на носу баржи, сидя лицом к воде, чьи блики и тени знал лучше всего иного. Он складывал птиц из ярко раскрашенной бумаги и запускал их в воздух, где они парили один короткий миг перед тем, как опуститься на воду; там их легкие крылышки мгновенно размокали, теряя краски, которые тянулись за ними розовыми, голубыми, зелеными, оранжевыми шлейфами. А еще он выстругивал из коры и веток, подобранных на берегу, маленькие баржи, водружал на них прочную мачту с парусом из носового платка и пускал по волнам, загрузив пустые трюмы грузом своих мечтаний.
Больше Виталия детей не рожала. Каждую ночь муж прижимал ее к себе, соединялся с нею, завороженный белизной ее тела, ставшего воплощением улыбки и покорности. И так засыпал в ней глубоким, как обморок, сном, лишенным видений и мыслей. Рассвет всегда заставал его врасплох, словно он только что родился из этого слитого с ним тела жены, чьи груди, со дня появления на свет сына, непрестанно источали молоко с привкусом айвы и ванили. И он опьянялся этим молоком.
Отец стоял у штурвала, а Теодор-Фостен вел по берегу лошадей. Среди них была рослая вороная кобыла по имени Сальная Шкура, вечно мотавшая на ходу головой, и два рыжих коня, Кривой и Обжора. Теодор-Фостен должен был накормить их еще затемно, а потом до самых сумерек вести в поводу по тягловой тропе вдоль реки. Во время остановок, случавшихся в шлюзах или при погрузках, он, бывало, подходил к «сухопутным» – смотрителям, кабатчикам, торговцам, – но никогда не заводил с ними дружбы, удерживаемый неясным страхом перед всеми чужими существами. Он не осмеливался разговаривать с ними, ибо его странные интонации удивляли тех, кто слышал его голос и кто, пытаясь заглушить в себе смутную боязнь этих непривычных звуков, насмехался над ним. Во время стоянок он предпочитал держаться поближе к своим лошадям; он любил гладить их мощные головы и шелковистые веки. Огромные выпуклые глаза, которым был неведом страх, обращали к нему взгляд бесконечно более нежный, чем взгляд его отца и улыбка матери. Они отливали тусклым блеском металла или матового стекла, они были одновременно и прозрачны и непроницаемо темны. Тщетно он впивался в них пристальным взглядом – он ничего не различал, теряясь в бликах золотистого света, ряби илистой воды и клочьях тумана, что отражались в этих карих глубинах. В них мальчику чудился скрытый лик мира, та загадочная сторона жизни, что смыкается со смертью, и присутствие Бога; они были для него средоточием красоты, спокойствия и счастья.
Его отец умер, стоя за рулем новой баржи, купленной несколько месяцев тому назад. Это было первое его собственное, а не арендованное судно. И он сам выбрал ему имя, которое написал крупными буквами на носу – «Божья милость».
Смерть вонзилась ему в сердце одним ударом, внезапно и бесшумно. Она скользнула в него так предательски тихо, что он даже не пошатнулся: как стоял, так и остался стоять, держа руки на штурвале и глядя вперед, на воды Эско, широко раскрытыми глазами. Теодор-Фостен, который вел упряжку по берегу, ничего не заметил. Только все три лошади как-то странно дрогнули, на миг встали и повернули головы к хозяину, но Теодор-Фостен, взглянувший следом за ними в ту же сторону, не увидел ничего необычного. Отец, как и всегда, стоял за рулем, устремив на реку пристальный взгляд. Зато Виталия сразу все поняла; в ту минуту она сидела на корме, выжимая замоченное в корыте белье. Вдруг все ее тело передернула судорога страха.
Смертный холод мгновенно сковал его, груди словно окаменели. Она вскочила и бросилась на нос, слепо натыкаясь на все, что попадалось по дороге. Груди жгло, как огнем, дыхание перехватило, она не могла даже окликнуть мужа. Наконец она подбежала к нему, но, тронув за плечо, в ужасе застыла на месте. В мгновенном прозрении она увидела, как недвижное мужское тело, которого коснулась ее рука, испепелил нездешний огонь, оставив от него лишь ослепительно прозрачную оболочку. И сквозь эту подобную тонкому стеклу оболочку она увидела своего сына, размеренным шагом ведущего лошадей по тягловой тропе, чуть впереди баржи. Потом наступил мрак, и тело мужчины вновь обрело былую плотность. С глухим шумом оно рухнуло прямо в объятия Виталии. Свинцовая тяжесть этого тела словно вобрала в себя вес тех бесчисленных ночей, когда муж ложился на нее и всеми членами крепко, нераздельно сплетался с нею. Вес целой прожитой жизни, всех ее желаний, всей любви, внезапно ушел в мертвый груз холодной, неподвижной массы. Виталия не смогла удержать тело и рухнула под его тяжестью. Она хотела позвать сына, но слезы перехватили ей голос – белые слезы с привкусом айвы и ванили.
Когда Теодор-Фостен вбежал на баржу, он увидел тела своих родителей, лежащие на палубе, словно в сплетении жестокой немой схватки, и сплошь залитые молоком. Он разнял эти два невероятно тяжелых тела и уложил их бок о бок. «Мать, – сказал он наконец, – ты бы лучше встала. Не надо лежать, как отец». Виталия подчинилась сыну и дала ему унести тело отца в каюту, где он уложил его на кровать. Она вошла туда следом и ненадолго заперлась одна, чтобы убрать покойного. Она омыла его молоком своих слез, потом одела, сложила ему руки на груди, зажгла четыре свечи вокруг постели и позвала сына.
Войдя в каюту, где мать занавесила окно, Теодор-Фостен испытал тошноту от душного сладковатого аромата, царящего в тесной полутемной каморке. То был невыносимо приторный аромат перезрелой айвы и ванили. Этот запах глубоко взволновал Теодора-Фостена, ведь и его собственная плоть была напоена им, и он до сих пор ощущал его во рту. Незнакомый и, вместе с тем, до ужаса близкий, он и пугал и завораживал мальчика, возбуждая в нем неясные порывистые желания. Он хотел окликнуть мать, но его голос утонул в приливе молочной слюны, волной заполнившей рот. Виталия неестественно прямо сидела на стуле у постели, сложив руки на тесно сведенных коленях. Ее грудь не вздымалась, хотя дыхание выходило наружу странными судорожными всхлипами. Колеблющиеся огоньки свечей выхватывали из тьмы то один, то другой уголок ее лица, и казалось, будто оно состоит не из плоти и кожи, а из беспорядочно налепленных бумажных лоскутков, внезапно напомнивших Теодору-Фостену пестрых птиц, которых он в детстве складывал из бумаги и пускал над водой. Только эта птица с женским профилем не взмывала в небеса и не падала в реку; бесцветная и неподвижная, она застыла на краю небытия.
Наконец он подошел к кровати и нагнулся, собираясь поцеловать отца в лоб, но замер на полпути, пораженный взглядом полуприкрытых глаз умершего. Теперь, как никогда, он походил на взгляд его лошадей; пламя свечей глубоко пронизывало янтарно-коричневые радужные кружочки, но не отражалось, а только мягко светилось в них. Застылый свет, уснувшая вода, пепельный ветер, недвижность. Этот погасший взгляд из-под приспущенных век был направлен в бесконечность, в невидимое, в тайну. Неужто же здесь, в этих предсмертных муках покоя, безмолвия, отсутствия, и таился всемогущий Бог?! Теодор-Фостен трижды поцеловал отцовское лицо – в веки и в губы, и четырежды – в плечи и руки. Затем он опустился на колени рядом с матерью и, уткнувшись лицом в ее юбку, тихонько заплакал.
2
С этого дня Теодор-Фостен встал на отцовское место у штурвала, а Виталия взялась управлять лошадьми. Но он сам по-прежнему кормил и обихаживал их и неизменно искал в их взгляде отражение взгляда умершего отца.
Ему едва исполнилось пятнадцать лет, когда на него свалились обязанности хозяина «Божьей милости», тяжелой баржи, перевозящей в своих трюмах уголь вверх и вниз по реке Эско. Но это судно было больше, чем его собственность, – оно принадлежало отцу. Оно стало для него второй ипостасью отца, огромным подобием его тела, с чревом, полным черных отложений, тысячелетиями спавших в недрах земли, а теперь вырванных у нее волею людей. И эти окаменевшие сны матушки-земли он доставлял для очагов «сухопутным» людям, этим непонятным ему затворникам, навечно осевшим в своих каменных домах.
Он, конечно, не сразу стал настоящим хозяином баржи; он был покамест всего лишь перевозчиком, что следил за неостановимым продвижением грузного фантастического зверя, медленно рассекавшего воду под низкими небесами, в самом сердце земли, в ожидании страшной милости Божьей.
Так протекли дни, месяцы, годы. Однажды за ужином Виталия взглянула сбоку на сына и сказала: «Ты еще не подумываешь жениться? Давно уж пора тебе завести жену, собственную семью. Я старею, скоро совсем негодящей стану». Сын не ответил, но она хорошо знала, о чем он думает. С некоторых пор она угадала мучившее его неясное томление, а еще она услыхала, как он бормочет во сне женское имя.
Эту женщину Виталия знала – она была старшей из одиннадцати дочерей хозяев «Святого Андрея». Ей скоро должно было исполниться семнадцать лет; белокурая, на удивление бледная что зимой, что летом, хрупкая и тоненькая, как тростинка, она, тем не менее, работала, не покладая рук, и хорошо знала свое дело. Говорили, будто она мечтательна и даже склонна к меланхолии, в противоположность младшим сестрам, но добрее и молчаливее их. По этой-то причине девушка и пленила сумрачное сердце ее сына. И Виталия была уверена, что чувство это взаимно.
Но даже она не смогла разгадать силу этого чувства, заполонившего душу Теодора-Фостена, которая слишком долго страдала от одиночества. От встречи к встрече, какие случай дарил им в шлюзах или на стоянках, Теодор-Фостен сперва недоумевал, потом восхищался и, наконец, совсем занемог от блаженной муки при виде молодой девушки. Образ ее так прочно запечатлелся в его памяти, что стал как будто вторым его взглядом, и он не мог открыть или закрыть глаза, не увидев ее сквозь все, что являлось его взору, и даже в темноте. Этот образ вошел в его плоть и кровь и каждую ночь не давал ему покоя, опаляя все тело страстным, нестерпимым желанием. И теперь, подходя к своим лошадям, он уже не так сильно стремился разгадать тайну их глаз; ему хотелось просто прижаться гудящей от любви головой к их горячим шеям со звонкими полнокровными жилами.
– Слушай, – продолжала Виталия, помолчав с минутку, – я знаю, кого ты хотел бы взять в жены. Она и мне тоже нравится, и я буду счастлива, если она войдет в нашу семью. Чего же ты ждешь, почему не делаешь предложения?
Теодор-Фостен так яростно стиснул стакан, что раздавил его, порезав осколками ладонь. Увидев кровь, закапавшую на деревянный стол, мать встала и подошла к сыну. «Ты поранился, нужно перевязать руку», – сказала она, но он отстранил ее. «Оставь, – ответил он, – это пустяки. Я только прошу, не произноси имя этой женщины до того дня, пока она не станет моей». Он сам удивился своему запрещению больше, чем Виталия, которая приняла его как должное. «Хорошо, – сказала она, – я не стану произносить ее имя до тех пор, пока она не станет твоей женой».
Теодор-Фостен сделал предложение несколько недель спустя, в тот день, когда его баржа встретила «Святого Андрея», поднимаясь вверх по Эско. Едва он завидел вдали другое судно, как бросил руль, спустился в кубрик, торопливо натянул праздничную рубашку и семь раз перекрестился перед тем, как открыть дверь. Наконец «Святой Андрей» поравнялся с «Божьей милостью». Теодор-Фостен одним прыжком перемахнул через борт и пошел прямо на папашу Орфлама, который стоял у штурвала, попыхивая коротенькой черной трубочкой, напоминавшей утиный клюв. «Никола Орфлам! – сказал Теодор-Фостен без всяких предисловий, – я пришел просить в жены вашу дочь». – «Которую? – хитро сощурившись, спросил старик. – У меня их, знаешь ли, одиннадцать». – «Вашу старшую», – ответил юноша. Старик сделал вид, будто размышляет, потом бросил: «Это правильно. Начинать надобно с самого начала». И он вновь принялся пускать дымки из своей трубочки, словно ничего не произошло. «Ну так как? – тоскливо спросил Теодор-Фостен. – Вы согласны?» – «Мне, знаешь ли, будет ее не хватать, моей первенькой, – вздохнул папаша Орфлам, помолчав с минутку. – Конечное дело, она у меня дикарка и слегка не от мира сего, но добрее и заботливее всех моих девочек. Да, это верно, мне ее будет не хватать…». «Святой Андрей» по-прежнему плавно скользил по воде, игравшей розовато-серебристыми бликами, зажженными бледным мартовским солнцем; судно потихоньку удалялось от «Божьей милости», плывшей в противоположную сторону. «Вы мне так и не ответили», – промолвил Теодор-Фостен, словно вросший в палубу в трех шагах от Никола Орфлама. «Не мне давать тебе ответ, – сказал тот. – Пойди и спроси у нее самой».
А девушка уже была тут как тут, у него за спиной. Он и не услышал, как она подошла. Обернувшись, он увидел ее. Она спокойно глядела на него, но казалась еще более отрешенной, чем обычно. Он понурил голову, не зная, как начать; взгляд его утонул в ослепительной белизне собственной рубашки, отяжелевшие руки неуклюже повисли вдоль тела. Они нелепо болтались в пустоте, словно мертвые птицы на крюках в мясной лавке, пугая его самого. Он перевел взгляд на доски палубы. Потом на ноги девушки. Они были босы и припудрены угольной пылью; солнце разрисовало их мерцающими лиловатыми разводами. И его охватило страстное желание поцеловать эти маленькие ножки в черных блестках угля. Сжав кулаки, он повел взгляд выше, по темному платью, схваченному клетчатым передником; мелкие клеточки головокружительным лабиринтом обнимали тоненькую девичью талию. Потом он взглянул на плечи и здесь прочно остановился, не в силах посмотреть ей в лицо. «Помогите мне!..» – пробормотал он почти умоляюще. «Я же здесь», – просто ответила она. Только тогда он вскинул голову и осмелился встретиться с ней глазами. Но тут у него опять отнялся язык; он медленно поднял охолодевшие руки и коснулся ее волос. Она улыбнулась ему так нежно, что он был потрясен до глубины души. Отец, упорно стоявший к ним спиной, вдруг объявил: «Уж больно оно немое, твое предложение! Видать, ты язык проглотил, парень? Как же ты хочешь, чтоб она тебе ответила, коли ты сам молчишь, дурья башка?!» – «А я ему и так отвечу, – сказала дочь. – И мой ответ – да». Это «да» прозвенело в потрясенной душе Теодора-Фостена громче праздничного благовеста всех церковных колоколов мира. Схватив руки девушки, он крепко, до боли сжал их. «Эй ты, бездельник! – окликнул его Никола Орфлам. – Глянь-ка, твоя баржа уплывает себе от хозяина!» Теодор-Фостен обернулся к старику. «Может, оно и так, зато ее хозяин – самый счастливый человек на свете!» – вскричал он. Затем, даже не попрощавшись, махнул через борт и со всех ног помчался на перехват своего брошенного судна. Когда Виталия увидела подбегавшего сына, его пылающее лицо и счастливые глаза, она засмеялась и спросила: «Ну как, теперь-то можно назвать ее по имени, твою возлюбленную?»– «Называй, хоть тихо, хоть кричи!»– ответил запыхавшийся Теодор-Фостен.
3
Свадьбу сыграли в середине июня. Отметили ее скромно, в кабачке на берегу Эско, вверх по течению от Камбре. Ноэми надела кремовое платье с гипюровым воротничком и манжетами, приколола к поясу тюлевую розу с серебристой бисерной сердцевинкой. В руке она держала высокий букет из одиннадцати пушиц, которые ее сестры набрали для невесты. Теодор-Фостен вплел белые ленты в гривы своих лошадей и разукрасил мачту баржи пышно, как майское дерево. К полудню заморосил дождик, но он не прогнал солнце, а только помелькал в его лучах сверкающими янтарными проблесками. Никола Орфлам поднял стакан за здоровье молодых и весело вскричал: «Солнце и дождик, ну и ну! Никак и дьявол тоже нынче выдает дочь замуж!»
В тот день Ноэми сменила фамилию Орфлам на Пеньель, а отца с матерью и десятью сестрами, а также свое детство, на замужнюю жизнь в качестве супруги Теодора-Фостена. Она ощущала волшебную легкость, несмотря на всегдашнюю меланхолию, по-прежнему глухо терзавшую ее душу. Ей трудно было определить, за что она полюбила человека, которого избрала своим мужем. Она знала только одно: жизнь без него ввергла бы ее в истинное безумие.
Виталия глядела на невестку, сидевшую подле ее сына, с тихой благодарной радостью, со счастливым удивлением. Наконец-то у нее была дочь, которую ей так и не довелось родить самой, и эта дочь, думалось ей, слишком чиста душой, чтобы пасть жертвой проклятия, которое поразило саму Виталию, умертвив ее шестерых сыновей. Но в то же время ее сердце впервые пронзила холодная боль вдовьего одиночества, а постаревшее тело жалко вздрогнуло от страшного сознания безнадежной неприкаянности: прошло, улетело навсегда время ее горячих любовей. Ей вспоминались прежние ночи, еще живые в ее сердце, еще жгущие плоть, когда ее тело, орошенное соком тела ее мужа, белело под простыней, словно нежная чаша с молоком, благоухающим айвой и ванилью.
А Теодор-Фостен не думал ровно ни о чем. Он сидел, тесно прижавшись к Ноэми, пытаясь приноровить сумасшедшую скачку своего сердца к ритму того сердца, что билось рядом. Сквозь шум и гвалт, сквозь смех и песни гостей он прислушивался к пронзительным вскрикам гагар-черношеек и мрачному уханью выпей в теплом вечернем воздухе, на берегу Эско. И впервые в жизни он понял, как глубоко немота его отца затронула его собственную душу, породнив его голос с трепетной жалобой загадочной птицы. Ему вспомнились прежние дни, когда он шагал рядом с лошадьми по тягловой тропе, под взглядом отца, во всю жизнь не сказавшего ему ни слова, и его тело, истомленное любовным желанием, на миг содрогнулось от чувства пустоты, словно в этих птичьих посвистах, доносившихся с берега, прозвучал скорбный голос умершего отца. Он схватил руку Ноэми и изо всех сил сжал ее. Она опустила глаза, но когда подняла их вновь, ее лицо озаряла спокойная, доверчивая улыбка. И он тотчас позабыл все свои муки и вновь стал сильным, как мужчина, и счастливым, как дитя.
В начале следующей весны Ноэми родила сына. Он получил имя Оноре-Фирмен и воцарился на борту «Божьей милости» с радостной непринужденностью всеми любимого существа. Это был спокойный, веселый малыш, казалось, вовсе не знавший ни гнева, ни печали. Все вокруг было ему счастьем и забавой; он научился петь раньше, чем говорить, и танцевать раньше, чем ходить. Он жил с таким горячим нетерпением, что и все окружающие ежедневно просыпались со светлыми надеждами и каждый вечер засыпали с ощущением сбывшейся радости. Затем появилась дочка, которую назвали Эрмини-Виктория. Она была тихой и робкой, как мать, на которую, впрочем, походила и во всем остальном, однако ее брат умел отвлечь девочку от ее печалей и страхов. Дети очень любили волшебные сказки, которые Виталия рассказывала им по вечерам, укладывая спать. Сказок этих было великое множество: и про Жана-Медвежонка, – сына Гея-Весельчака, который отправился в лес вызволять трех королевен из заточения у Карлика Биду; и про Жака-Юло, по прозвищу Сурок, который нашел под землей горючий камень; и про злоключения красавицы Эмергарт, попавшей в плен к свирепому Финерту, а также тысячи историй про Тиля Уленшпигеля и двух его верных спутников… Когда Виталия, сидя на краешке постели, рассказывала все эти народные легенды про фей и людоедов, чертей и великанов, духов лесов и вод, завороженным детям вдруг чудилось, будто от их бабушки исходит какое-то загадочное молочно-белое сияние, словно и она сама наделена странной, пугающей, нездешней силой, словно она-то и есть бессмертная старая царица реки Эско.
А еще иногда она рассказывала им истории о рыбаках: одни погибли в открытом море на сгоревшем корабле, другие вытаскивали сетями огромных рыб, певших женскими голосами, третьи, утонувшие, возвращались из морской пучины на берег, чтобы повидаться с родными и подарить праведникам солнечный жемчуг и кольца из лунной и звездной пыли, а злодеям предречь страшную смерть. Все эти сказки долго еще звенели в сонных детских головенках, населяя их сны толпищами фантастических существ; и утром, по пробуждении, мир казался им полным тайн, которые и манили и отпугивали. Эрмини-Виктория радовалась тому, что живет среди «речников», а не с этими чужими, непонятными «сухопутными», которые вечно борются то с каким-нибудь ужасным демоном, то с жестоким и жадным великаном, и не с теми, совсем уж дикими, что обитали на морском побережье. Особенно мучили ее две истории: одна про Большого Халевина, что скачет, распевая чудесным голосом, через залитый лунным светом лес, где на ветвях висят девушки с длинными косами; и другая – про юного Кинкамора, который объехал весь мир и еще множество других миров, спасаясь от смерти, что шла за ним по пятам, износив в этой погоне тысячи пар башмаков. И она решила, что не хочет быть взрослой. «Если я останусь маленькой, – думала девочка, – никто меня не заметит. И я буду становиться с каждым днем все меньше и меньше. И сделаюсь такой крошечной, что даже смерть не сможет меня отыскать, пусть хоть сколько пар башмаков стопчет. И никакой злой жених меня тоже не найдет. Я затаюсь где-нибудь в уголке нашей баржи, и смерть никогда меня не заберет – ведь даже жизнь и та про меня забудет!» И она замкнулась в своем детстве, как в скорлупке вечности, надеясь остаться невидимкой.
Оноре-Фирмен, напротив, сгорал от желания покинуть сцену этого плавучего театра, где жизнь словно застыла навечно. Ему хотелось объездить весь мир, избороздить все моря, повидать большие города с их каменными вершинами, устремленными к небесам, с их улицами, кишащими людьми; хотелось проехать по густым лесам, населенным свирепыми зверями и страшными людоедами, которых он, конечно же, ничуть не боялся. Сонное течение каналов и рек на этих плоских равнинах наводило на него скуку; он мечтал плавать на огромных пароходах, чьи трюмы набиты не мрачным углем, но пряностями, фруктами, радужными тканями, оружием и золотом, а еще черными рабами. Он воображал, как входит на таком корабле в шумную гавань пОд крики людей, вой рогов и птичий гам, в багровом зареве заката. И, подобно Яну-Звонарю, он готов был продать душу дьяволу, лишь бы его мечты превратились в праздничный фейерверк реальности.








